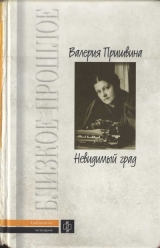
Текст книги "Невидимый град"
Автор книги: Валерия Пришвина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц)
Сколько за эти годы у нас с матерью было перемен, сколько раз мы начинали с нею строить свою жизнь сызнова! Теперь мы ее переносим в узкую подвальную комнатку, похожую на сундук, с одним окном почти на уровне земли. В ней еще не так давно жила коноваловская прислуга. «Почему бы и нам так не пожить?» – говорит мама. Переселяясь сюда из дворцовых покоев, она шутит, улыбка не сходит с ее лица. Впоследствии она будет нас часто поражать этой чертой, родившейся в ней после жестокого перенесенного горя. Лицо ее совсем еще молодое и всеми чертами прекрасное, в рамке седых волос – будто она сошла со старинного портрета. Когда в 1918 году мама оправилась от горя и болезни и вернулась к жизни, с ней произошла разительная перемена: она точно проснулась, и сама не переставала удивляться своему пробуждению; она с радостным любопытством приглядывалась к новой деятельности, обшей со всем широким миром жизни, о существовании которой раньше не подозревала. У нее обнаружился недюжинный ум, чуждый отвлеченности и ложной мечтательности, ум добродушный, окрашенный юмором, этот ум проснулся, и она с интересом и доверием осматривалась вокруг: она понимала, что нищим было ее прежнее семейное благополучие.
– Горько мне, что я тогда этого не понимала, а ему было тесно, душно, ему хотелось этой широты, когда он, шутя, говорил нам о сторожке лесника…
– Не вспоминай, – прошу я, – не береди душу. Подумай о другом: мы сейчас с тобой свободные, мы любим друг друга, и нам ничего не страшно.
Я любуюсь мамой, когда она легко взбирается на стол, чтобы промыть запылившееся с улицы единственное окно нашей каморки. Голубые глаза ее доверчиво мне улыбаются. Я люблю ее. От горячего чувства слезы навертываются мне на глаза. Мне нетрудно их скрыть, потому что я сижу в этот момент на полу и перебираю лишние книги, чтоб их выбросить – и без них тесно. Мама машет приветственно кому-то знакомому, проходящему по улице, и напевает вполголоса старинный цыганский романс.
– Ты не находишь, – спрашиваю я, – что в нашей с тобою жизни есть что-то цыганское? Жили в дворянской усадьбе, потом в роскошном купеческом доме, теперь перебрались в подвал. Остается на улицу промышлять гаданьем… – Мама весело смеется.
К нам часто заходил мой товарищ по институту Николай Николаевич Вознесенский, подобно всем моим друзьям, но посещения эти никогда не бывали случайными и без дела. Теперь его целью было лечить маму гипнозом, и действительно, мама на наших глазах стала расцветать. В определенные дни и в строго назначенный час приходил Николай Николаевич. Он укладывал маму на кушетку и просил закрыть глаза. После нескольких обращенных к ней вполголоса «спите» она погружалась в сон. Николай Николаевич уже не просил, он приказывал спящей:
– Отдыхайте, все болезненные процессы в вашем теле прекратились, все органы работают правильно. Вы чувствуете себя здоровой.
Пробовал Николай Николаевич усыпить и меня, но опыт ему не удался ни разу.
– Вы не моя сомнамбула, – говорил он досадливо и шутливо.
Мы все читали в те годы книги по гипнотизму и изучали Фрейда.
– Сведите нас на заседание общества, – попросила я его однажды.
И вот мы с мамой очутились в зале, заполненном врачами и приглашенными. В президиуме я увидела председателя общества врача Каптерева, профессора Довбню. Фамилии других врачей позабылись.
– Вот сильнейший среди нас гипнотизер, – указал мне Николай Николаевич на сидящего в президиуме как раз против нас человека с ровно бледным, застывшим, как у мертвеца, лицом.
Я заметила, что Протасов не сводит глаз с моей матери. Опыты с сомнамбулами, которые производились в это время несколькими врачами, отвлекли мое внимание. Когда я снова взглянула на маму – мне стало страшно.
– Смотрите! – шепнула я Николаю Николаевичу. – Смотрите, что с ней происходит?
Мама сидела неподвижно, вытянувшись, с отсутствующим выражением лица под взглядом Протасова, который пришпиливал им мою мать, как жука булавкой.
– Это нечистый человек, – ответил Николай Николаевич, – и я давно все заметил, их нельзя оставлять ни на одну минуту.
Тем временем заседание окончилось. Все задвигались и потянулись к выходу. Мама продолжала сидеть.
– У меня разболелась нога, я не дойду до дому, – сказала она, глядя на Протасова. А тот уже подходил к нам. Поздоровавшись с нами кивком головы, он задержал мамину руку в своей и не выпускал ее.
– У меня разболелась нога, я не дойду до дому, – повторяла слово в слово мама одну и ту же монотонную фразу.
– Я помогу вам, – ответил Протасов. – Сейчас я верну вашу спутницу здоровой, – обратился он к нам, и не успели мы ответить, как он повел ее в помещение, находившееся в конце зала и отделенное тяжелыми занавесками. Мы двинулись им вслед.
– Нельзя сейчас ее окликать и вмешиваться чужой воле, для нее это может стать губительным. Надо дать ему ее пробудить.
– Разве она спит? – спросила я в изумлении.
– Она находится в гипнотическом сне уже с середины заседания, – ответил мне Николай Николаевич.
Теперь мы стояли у занавеса, за которым скрылась мама, и подглядывали между его складок. Мама лежала на диване с закрытыми глазами. Протасов делал движения рукой, так называемые пассы и говорил ей:
– Нога ваша не болит. Через три дня вы почувствуете снова резкую боль и вспомните обо мне. Вы придете ко мне ровно к семи часам вечера. Повторите мой адрес. Вы слышите мой приказ?
– Слышу, – еле донесся до нас ответ спящей.
– Теперь вы просыпаетесь и все забываете до назначенного вам срока. Просыпайтесь!
Мама открыла глаза, поднялась, смущенно оглянулась, не узнавая обстановки.
– Все прошло, благодарю вас, – сказала она Протасову и стала прежней.
– Ну и работу задал мне этот негодяй, – шепнул мне Николай Николаевич по дороге. – Теперь мне надо бороться с его влиянием, а это трудно и, главное, губительно для здоровья Наталии Аркадьевны. Но другого выхода нет!
И вот, на моих глазах, начался невидимый поединок двух гипнотизеров.
В назначенный Протасовым день мама стала тревожиться и затаиваться от меня. Открылись резкие боли. Она стала поспешно к вечеру собираться, глядя сквозь меня как сквозь стекло, которое глаз не замечает. Пришел Николай Николаевич. Под предлогом осмотра ноги он уложил мать на кушетку, и тут началась борьба. Мама не подчинялась обычному влиянию, но не имела сил окончательно его отбросить. Две воли сталкивались и боролись, и полем битвы был хрупкий организм болезненной женщины. В конце концов ее удалось усыпить, и мама погрузилась в транс. Николай Николаевич теперь властно требует от нее забыть Протасова и его внушение. Мама стонет, мечется, еле слышно шевелит губами. Мы угадываем:
– Не могу, не могу, – говорит она. Лицо ее искажено и бледно, из-под сомкнутых век изредка скатываются слезы. Николай Николаевич не сдается, хотя я вижу, как дрожат от крайнего напряжения его пальцы, которыми он делает ритмические, мерные движения над ее телом. Долго идет борьба. О времени мы с Николаем Николаевичем забываем. И вдруг лицо мамы светлеет, она облегченно вздыхает. Как по проводу, передается эта перемена Николаю Николаевичу. Он сияет.
– Вы свободны и здоровы, – говорит он маме, – вы никогда не вспомните Протасова, а если встретите, почувствуете отвращение.
– От-вра-щение, – послушно повторяет мама по слогам, и гримаса ужаса пробегает по ее лицу. Назначенный Протасовым час проходит. Мама мирно спит.
Николай Николаевич вынимает платок, вытирает влажный лоб и лукаво мне подмигивает: «Мы победили!»
Остается добавить, что позднее постановлением общества Протасов был из него исключен.
Прошла зима. Мы открыли свое окошко. В него нередко летят к нам букеты первых весенних цветов. От кого бы это? Александр Васильевич о цветах не догадывается, он наш ежедневный гость, да и входит честно, только дверьми, и носит мне одни только книги. Однажды мы успеваем заметить мелькнувший белый китель и убегающую морскую фуражку. Значит, цветы приносит третий мой друг.
С наступлением тепла друзья приходят прямо к нашему окошку, во двор. Тогда мы с матерью поднимаемся к ним наверх через окно, минуя мрачный коридор. Во дворе наша «гостиная». Вот в окно заглядывают одновременно две головы.
– Всюду жизнь! – иронически сочувственно замечает по поводу нашего убогого подвала Николай Николаевич.
– И неплохая! – решительно отбивает удар мама.
– Когда же консульство вас вывезет отсюда? – спрашивает NN.
– Кому-то это будет неудобно, – не принимает снова мама снисходительного сочувствия мужчин, – особенно затруднится доставка цветов!
Все смеются. Мы вылезаем с мамой по лесенке прямо в окно и усаживаемся все на скамейку в палисаднике под каштанами, набирающими белые грозди.
– Доколе же нам так? – замечает мама однажды вечером, ложась спать.
– О чем ты?
– Надо же нам с тобой подумать о будущем. Я начинаю болеть, стареть, скоро мне стукнет пятьдесят. У тебя ни дела любимого, ни дома, ни семьи, ни защиты, тревожно мне за тебя.
Я успокаиваю маму как могу, и мы не возвращаемся больше к этой теме…
Через сколько-то дней мы вечером идем домой из Института вместе с Николаем Николаевичем – ему было со мной по дороге, жил он на Новинском бульваре. Мы оба молчим. Мы часто с ним по дороге молчим, каждый думая о своем. Темнеет. Он ведет меня под руку.
– Ляля, – говорит он, – нужно вам поехать хоть на месяц в деревню этим летом. Наталии Аркадьевне необходимо, она очень за зиму сдала.
Я ничего не отвечаю, но чувствую, как тепло, благодарно становится на сердце. Подходим к моему дому. Стройная линия каштанов уже покрылась белыми соцветьями. Их кроны, как видения, высятся на темном небе. Между цветами кое-где виднеются и дрожат звезды.
– Николай Николаевич, – говорю я, – мне сейчас было от вас, как от отца, когда он меня провожал в гимназию. Я вам уже рассказывала об этом…
Он покровительственно и ласково поглаживает в ответ мою руку и молчит. И тут у меня впервые внезапно мелькает удивительная мысль! Не давая себе труда ее проверить, и радуясь, и почему-то тревожась, я торопливо обращаюсь к своему спутнику, словно боюсь эту мысль потерять.
– Николай Николаевич, – говорю я, – мне пришла сейчас одна мысль…
– Ну, какая же это пришла наммысль? – спрашивает он как всегда, когда говорит со мною, добродушно-иронически и продолжает гладить мою руку.
– Вам надо на мне жениться! – отвечаю я и прикрываю смущение дружеской непринужденностью.
Отчего же он так долго молчит? Досадно, что на улице тьма и я не вижу выражения его лица; темный силуэт человека стоит возле меня неподвижно, как столб. Он долго так стоит. Наконец знакомый спокойный голос из темноты мне отвечает:
– Вы говорите пустяки! Я вдвое старше вас, и все это – детская выдумка. Выкиньте ее из головы. – Он похлопывает рукой по моей руке, прощается: – Спокойной ночи! – и исчезает в темноте.
Я растерянно смотрю ему вслед и потом медленно спускаюсь в свой подвал прямо в окошко.
Я ничего не расскажу матери. Я с самого детства скрываю от нее, как и ото всех без исключения людей, только мне одной ведомую тайную жизнь сердца. Если я расскажу матери о произошедшем, я заранее знаю, что она ответит мне на своем языке: «Я ожидала этого разговора между вами. Николай Николаевич – очень подходящая, блестящая партия». Но разве я о «партии» думала, когда на меня накатила эта странная мысль? Нет, я ничего ей не скажу! «Это совсем не стыдно, – продолжит мама, – он до конца благородный и свой человек. А ты не умна, если выпаливаешь сразу все, что приходит тебе в голову. Так жить нельзя». – «Я сказала ему, что он напоминает мне отца», – отвечу я тут матери. – «Вот-вот, – засмеется она, – так ты ему и сказала! Ясно, что ты его не любишь…» – «Я начала бы его любить, – отвечу я, – и, наконец, полюбила бы. Разве не может так быть?» Вот на этот-то вопрос мне ни мать и никто не ответит.
На другой день мы встретились с Николаем Николаевичем как ни в чем не бывало, и все потекло внешне по-прежнему, если не считать того, что со мной случилось. А случилось со мной нехорошее: какая-то брешь с того раза открылась в душе, и защитная перегородка, прочно охранявшая душу, разрушилась: я впервые допустила мысль, что та единственная любовь, для которой я родилась и живу, которой я с тоской и надеждой дожидаюсь, эта любовь не придет, и ее можно попробовать заменить другой, подходящей… Я усомнилась в вере своей, и это было моим первым и невосстановимым паденьем: так начала я терять свое целомудрие {92} .
Хотелось бы мне пропустить еще один эпизод, так он мимолетен и не связан по существу со всем последующим, но я его запомнила, и в жизни невыдуманной все так связано, что она рассыпется, и если что-нибудь попытаться в рассказе о ней скрыть, приукрасить или изменить, то рассыпется и самый рассказ.
Отцвели белые каштаны. Мама, как и в прежние «мирные» времена, выполняла весенний ритуал: в выходной день она посылает меня во двор просушить на солнце и выколотить от пыли зимние вещи. Неподалеку от меня тем же делом занимается и наша соседка по подвалу – Даша Великолепная, как прозвали ее в детском доме за дородность и красоту. Это бывшая повариха Коноваловых. Сейчас ей помогает выколачивать вещи муж, рослый красногвардеец, только что вернувшийся с фронта. Она горделиво и ласково посматривает на мужа из-за круглого плеча, высоко подняв руки и перебирая ими растянутые на веревке вещи. Он протягивает ей что-то ярко горящее малиновым цветом на солнце и улыбается Даше покорно и влюбленно. Даша весело кричит мне что-то про хорошую погоду.
Как проста и радостна бывает жизнь! А я, могла ли бы и я жить так же?
За оградой мелькает знакомый белый китель и фуражка.
– Какая погода! Едем за город! – кричит мне NN, открывая калитку.
– Как же быть? – спрашиваю я. – У меня оторвался каблук, а в этих, – показываю я на свои домашние, – еще сыро…
– О, это не препятствие, – говорит он. – Сапожник на углу. Давайте туфлю.
Он исчезает так же молниеносно, как и появляется. Очень скоро мы его снова видим с починенной туфлей в руке. Туфля наполнена, как ваза, свежими ландышами. Мама одобрительно кивает головой и говорит:
– Вот как надо ухаживать за девушками! Так бывало в наше время.
Мы возвращаемся домой уже в темноте.
– Хорошо было? – спрашивает мать.
Я протягиваю ей вместо ответа огромный букет сирени. На душе у меня неспокойно. Почему? Ведь ничего не случилось дурного. Такого, чтобы… разве только слишком уж смело (мама сказала бы по-старинному «фамильярно») он обращался со мной. Эта рука, которую он забывает на моем плече, когда помогает перебираться через канавы и лужи, эти случайные прикосновения… Но ведь он же свой, товарищ, почти что друг… Да, ничего мне не понять в жизни, которая, как вода в разлив, подбирается ко мне со всех сторон. Поскорей бы уснуть – я устала. Только вымыться сначала, тщательно, долго мыться, чтоб стереть из памяти все следы чужих прикосновений. Какая таинственная вещь – вода!
Я прячу разгоревшееся от усталости лицо во влажную чашу сирени: от аромата еле заметно кружится голова.
– Надо вынести на ночь цветы – можно ими насмерть отравиться, – замечает мама.
С Александром Васильевичем мы по-прежнему неразлучны. Школа философской мысли была нами утрачена с закрытием философского факультета в Университете и после того – в Институте Слова. Теперь мы ловим любые сигналы, спешим на каждый отсвет мелькнувшего нам мира философской и богословской мысли. Москва велика, но редкий день мы не отправляемся на поиски места, где можно было бы услышать что-то интересное и новое, где сохранился живой росток подлинной русской культуры.
Так мы попали однажды всей компанией, вчетвером, к толстовцам в Газетный переулок, где помещалась вегетарианская столовая и где происходили их собрания. Что это за люди, о которых мы наслышаны с детства, что несут они нашему времени?
Первое, бросившееся в глаза при входе, – это плакат: «Я никого не ем». Не сразу доходит до сознания смысл, мы переглядываемся. NN давится от смеха. Николай Николаевич делает непроницаемое лицо. Александр Васильевич добродушно улыбается. Вокруг нас говорят, что сейчас приедет председатель общества Владимир Григорьевич Чертков {93} , ближайший, преданный друг покойного Льва Толстого. Чертков был страстным проповедником учения, созданного последователями Толстого, к которому сам Толстой относился критически, разделяя далеко не все взгляды «толстовцев».
– Сегодня выступление Бати, – говорит нам толстовец с породистым лицом и манерами аристократа. Он здоровается с нами за руку, и я замечаю, как не вяжется с его наружностью огрубелая и как будто плохо отмытая рука. Впоследствии мы убедились, что в этом человеке все было искренне. Он, действительно, плотничал и сапожничал – этот барин в грубой толстовке, подпоясанной добротным шпагатом. «Я никого не ем!» – и он не наденет пояс из кожи убитого животного. Это был Николай Сергеевич Родионов {94} , друг Черткова, его «альтер эго», как определял свое к нему отношение сам Чертков.
Я с любопытством рассматриваю толстовцев, которые один за другим появляются на трибуне и поучают нас… Слушаю и удивляюсь, до чего они все друг на друга похожи. «Замечаете, – шепчет мне сбоку NN, – у них интеллигенты стараются казаться мужиками, а мужики изо всех сил подражают интеллигентам». Обращаются друг к другу ласково, даже с оттенком подобострастия: «Дорогие братья и сестры». «Мяса не едят, но в речах поддевают друг друга, – шепчет мне с другой стороны Николай Николаевич. – Боюсь, друг друга они сильно покусывают!» – «Все люди едят своих ближних, – отвечаю я примирительно. – У этих не заметно ничего оригинального, чему бы нам поучиться». – «Как нет? – а женщины? – замечает NN. – Вглядитесь: это верх оригинальности! Где вы видели таких женщин, которые старались бы не нравиться мужчинам?»
Александр Васильевич укоризненно останавливает наши пересуды и говорит: «Посмотрите, какая замечательная фигура!» На возвышение поднимается огромный грузный старик с вдохновенным лицом, властным голосом. Это уже не серая посредственность, среднее многих слагаемых «братьев и сестер». Это вождь и диктатор, это последний язык пламени от уходящего в историю толстовского пожара. Около Черткова – самоотверженный Родионов. Пожалуй, на этих двух людях держалось все движение толстовства в России. Чертков говорил горячо и повелительно, но, если вдуматься в смысл, все было сухо, назидательно, без тени юмора или сомнения, он говорил как носитель всей правды на Земле, так, как будто не существовало и не могло существовать иного направления мысли или образа жизни, кроме «Я никого не ем».
Я слушала, и мне казалось, что они ограничены и как будто недостаточно образованны, хотя думать так о Черткове было странно. Я, помню, спросила своих друзей, что думают они, и какую же «пищу» вынесли мы для себя из вегетарианской столовой.
– Собрание бессильных мужчин и некрасивых женщин, – ответил в своем духе NN.
– Остро, но не исчерпывающе, – парирует его слова Александр Васильевич. – По-моему, здесь нет никакой загадки: это типичная русская народная секта со всеми своими классическими признаками: рассудочная и пытающаяся оторваться от исторических корней. Вы заметили – они, как сектанты, не допускают инакомыслия, с ними нельзя даже начать честный спор… Ни малейшего признака универсализма.
У нашего окна в подвале тем временем начинают появляться люди, не похожие на толстовцев. Это теософы или гностики, которые по-разному определяют свое направление, но их объединяет одно: они создают науку о духовной жизни. Тут члены теософического общества, антропософы – приверженцы учения доктора Штейнера {95} и его адепта в России Андрея Белого, в большинстве своем интеллигенты, в отличие от толстовцев стремящиеся к универсальному знанию. По сходству же с толстовцами они уверены в своей исключительной правоте не менее любых народных сектантов.
В своих поисках мы набрели с Александром Васильевичем на преподавателя Лобанову (имени я не помню), которая по методике йогов ставила голос и дыхание актерам и певцам. Мы встретили у нее всю студию молодых, начинавших работать вахтанговцев. Кроме того, Лобанова лечила тем же способом йоговского дыхания тяжело больных людей, и в ее крошечной «уплотненной» квартирке мы постоянно заставали очередного пациента, которого она обычно поселяла у себя до полного излечения. Сама она припадала на ногу – след костного заболевания, по ее словам, успешно излеченного по методу йоги.
Студенты нашего Института Слова, и я в том числе, занимались у Лобановой в течение одной лишь зимы, и в результате занятий у меня открылся хороший певческий голос. Лобанова хотела сделать из меня профессиональную певицу, но я отказалась. Я тосковала в поисках того исчерпывающего смысла-дела, который, мне казалось, не могла мне дать никакая профессия, а все практическое, возникающее передо мною в жизни, казалось мне призрачным и ненужным.
Среди людей, бродивших в поисках по бурлящей Москве и Бог весть как существовавших материально, запомнилась мне фигура Бориса Михайловича Зубакина {96} . Все знали его в те годы, по крайней мере в районе Никитской, где действительно по необъяснимой случайности сосредоточена была культурная жизнь Москвы.
Зубакин пробавлялся выступлениями как поэт-импровизатор и лекциями как археолог. У Зубакина было красивое лицо, классическая голова – но посажена она была немилостивой природой на непомерно маленькое тело. Видимо, Зубакин тяготился этим физическим недостатком своей внешности и, как многие маленькие люди, был крайне самолюбив, заносчив, в выступлениях бил на эффект, и это ему отлично удавалось. Главным даром его была импровизация. Происходило все как у Пушкина в «Египетских ночах»: Зубакин предлагал собравшимся дать ему тему. Иногда он получал несколько тем от каждого из присутствующих, и перед ним возникал ряд слов, не связанных между собой смыслом, и словами он должен был овладеть мгновенно, связав их в единстве. Он вскакивал на возвышение (увеличивался рост!), бледнел и начинал импровизацию. Запомнилась мне лишь одна строфа:
А там, на севере, олени
Бегут по лунному следу,
И небо нежную звезду
Качает у себя в коленях.
У Зубакина была претенциозная кличка Богарь. Его обычно сопровождали как две тени две женщины, одна – бывшая, другая – настоящая его жена. Это были в прошлом две подруги, по профессии актрисы. Мы знали их «мистические» имена, а русские, обычные, я уже теперь позабыла. Бывшая жена – Руна, уже немолодая, тяжеловато-скандинавского типа, была всегда серьезна. Я никогда не видала улыбки на ее лице северной матроны. Ходила она в самодельном платье, похожем на хитон, в сандалиях на босу ногу, волосы и лоб прикрывала повязкой, наподобие тех, что мы видели на головах египетских цариц. Одевалась она так, конечно, со значением, и вела почти нищенскую жизнь; не знаю, как кормилась. Богарь не заботился о своих женах. Не знаю, чем зарабатывал он сам, только помню роскошный вечер на квартире Зубакина, длившийся до рассвета, с вином, с цветами… Помню на нем молодого Есенина в вышитой русской рубашке – белым отроком; помню, мне показалось, что он был под легким гримом… Он читал стихи, вокруг толпился народ, но вся обстановка вечера меня отвращала, и потому, наверное, я не услыхала и не поняла Есенина.
Иза, младшая жена Богаря, обладала прекрасным меццо-сопрано, была хороша собой и непосредственна. Она часто прибегала в наш подвал выплакаться на груди у моей матери по поводу «невыносимой жизни с этим Богарем». Вслед за ней обычно являлся сам виновник. Он мгновенно усмирял жену одним прикосновением пальцев к ее лбу между бровями: там, по его словам, расположена у человека «особая» точка. Зубакин был еще гипнотизером. Меня он уверял, что изучил с помощью лица, имя которого открыть не может, магию, что обладает оккультным знанием, неизвестным позитивной науке. Так ли это было – я не знала и не стремилась узнать: Зубакин не внушал мне доверия. Лишь один случай, о котором придет свой черед рассказать и который связан с главным событием в моей жизни, заставил меня рассказать здесь о Зубакине. Его давно уже нет в живых, как и двух его жен. Все трое они погибли, кто – в тюрьме, кто – в ссылке.
Все эти люди, которых я объединила для себя под общим именем гностиков, обладали еще одним общим признаком: в своих умственных конструкциях они были оторваны от исторической почвы, от жизни и души своего народа и его духовной культуры. Их теории производили впечатление самоуверенной вымышленности. Они казались мне чуждыми духу совестливости и нравственного самоотвержения, которыми отличается характер народной души и мысли русского человека. Это чуждое просвечивало в них, начиная с кличек и кончая стилем их речей. Впрочем, достаточно взять в руки любую книгу адептов современной мировой теософии, проповедуемой как незыблемая доктрина, а не как личный, не навязываемый никому опыт, чтобы найти подтверждение сказанному. Не стал исключением для меня и талантливый Андрей Белый, на лекции которого я присутствовала однажды – больше меня к нему не потянуло {97} .
Теософия всех видов воспринималась мной как болезнь ума, поскольку была оторвана от нравственно обязывающей жизни сердца, но «болезнь» эта в те годы была распространена; может быть, и сейчас мои слова встретили бы отпор у многих.
Так шло время и подготавливало меня к встрече с международным, действующим во все времена и под различными личинами гностицизмом.
Однажды Александр Васильевич с несвойственной ему взволнованностью сообщил мне, что один из профессоров университета, не вошедший, по счастливой случайности, в списки высылаемых заграницу и оставшийся лектором в Институте Слова, приглашает нас к себе на дом для какого-то разговора, но просит держать в тайне его приглашение. Было от чего взволноваться: немолодой, солидный профессор не мог так обставить маловажное дело.
На наш звонок дверь открыл сам профессор: мы поняли, что в квартире сейчас нет ни одного человека, но в кабинете застали еще несколько неизвестных нам молодых людей. Старинная профессорская квартира избежала, по-видимому, пока уплотнения и была молчалива. Огромная квадратная комната освещалась одной лампой на низкой подставке под плотным абажуром. Стены, сплошь уставленные книжными шкафами, уходили в темноту. Хозяин усадил нас в тесный круг и стал тихо говорить, однако мы были оглушены услышанным.
Он сообщил нам, что во всех странах мира и поныне существует мистический орден, средневековое имя которого я сейчас не назову в силу взятого с меня некогда слова; что орден существовал во все века, меняя свои имена и формы, и возник, как только сознание человека развилось и стало способным воспринимать высшие идеи; сказал, что это была, есть и будет единственная рудоносная жила в организме всего человечества, которая несет поток истинного знания и ведет к совершенству и свободе все народы мира. Он утверждал, что высшие существа проходят среди людей во всех поколениях неузнанными, сказал, что орден узнал нас, избрал и призывает в свои ряды на великую работу, для которой мы и были рождены, что нам открыты двери, но что войдем мы в них не сразу. Мы узнали, что посвящение наше будет проводиться ступенями или кругами, на границе каждого перехода над нами будет совершаться малое посвящение, пока, наконец, мы не подойдем к последнему, после которого возвращения назад не будет. До этого наша воля была свободна, и от нас требовалось одно – молчанье. Мы не должны были спрашивать о том, что нам не сообщается, не могли ничего записывать и до окончательного вступления в орден не должны были видеть ни одного его члена, кроме нашего руководителя.
– Страшно! – сказала я Александру Васильевичу, когда мы вышли на улицу.
– И, кажется, это уже вполне серьезно, – ответил не сразу Александр Васильевич. – Впрочем, пока мы еще никого не обманываем – ни себя, ни профессора. Послушаем и решим, как нам должно поступить.
Сорок с лишним лет прошло с тех пор, и я не могу уже восстановить подробно содержание наших бесед. Меня связывает к тому же данное сорок лет назад слово, хотя профессора нашего давно уже нет в живых. Но за ним стояли и, конечно, все еще стоят какие-то неведомые мне люди, которым, в лице профессора, я тоже давала это обещание. С другой стороны, ничего нового мы не узнали, по крайней мере такого, чего не найдет внимательный читатель в изложении всех мировых систем гностики, если отважится погрузить себя в эту необъятную литературу: Упанишады {98} ; Ориген {99} ; гностик II века Валентин, которого Владимир Соловьев называет гениальнейшим мыслителем всех времен; Дионисий Ареопагит {100} ; Беме; Сведенборг; Шеллинг… И поэтому я расскажу здесь не столько об учении, нам преподанном, сколько о воздействии его на мою душу и к чему эти занятия нас всех привели.
На первом этапе посвящение состояло из сообщаемых нам изустно поэтических легенд, рисующих картину миротворчества. Полотно этих легенд было такого обширного охвата, что история не только Земли – всего нашего космоса выглядела на нем как история, скажем, песчинки перед Солнцем.
Не говоря о содержании развертываемых перед нами картин, я сразу перехожу к возникшим у меня тогда сомнениям, которые я держала пока в себе. Вот каковы они были.
О том, о чем рассказывали легенды гностиков, говорила нам в малой, правда, доле и Библия, говорила скупо, намеками, как бы указывая на промыслительно скрытую от нас тайну, познание которой с помощью рассудочного изучения излишне, да и невозможно для человека на его коротком земном пути. У этого пути есть свои прямые задачи – задачи спасения. «Спасения от чего и каким путем?» – спросит читатель. Постараюсь ответить на этот вопрос. Открытое для всех религиозное знание, в частности, не разделяющее верующих на посвященных и непосвященных, христианство, с точки зрения преподаваемого нам учения гностиков-эзотериков (то есть тайноведов) было детской пищей для масс, которое и подавалось в таком виде из снисхождения к простоте ума этих масс, к убожеству их духа. Мои новые учителя со снисходительным превосходством относились к христианству, не признавая его догматы по существу.
«В чем же эта сущность?» – спросит снова меня читатель. Она – в переделке своей души, в борьбе за ее просветление, движение к добру, очищение, высшей ступенью которого является, по словам великих христианских подвижников всех веков, смиренномудрие, через которое человек достигает подлинной любви и познает Бога. Этот нравственный опыт святых и был изложен в «Добротолюбии». «Смиренномудрие есть не имеющая имени благодать в душе, теми только именуемая, которые изведали ее опытом», – пишет св. Иоанн Лествичник в VI веке. И другой автор того же времени Исаак Сириянин: «Смирение есть некая таинственная сила, которую по совершении всего жития воспринимают совершенные святые… Добродетель сия заключает в себе все… Не всякий, кто скромен, или безмолвен, или благоразумен, или кроток по природе, достиг уже степени смиренномудрия. Напротив, тот истинно смиренномудр, кто имеет в сокровенности нечто достойное гордости, но не гордится… Смиренномудрие есть риза Божества».








