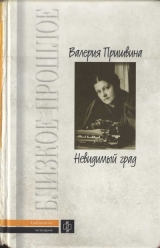
Текст книги "Невидимый град"
Автор книги: Валерия Пришвина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 38 страниц)
Блуждания в поисках пути видны из пройденной дали, а мы еще так недалеко ушли от себя. К тому же жизнь столь многогранна, что никакие односторонние суждения не исчерпывают ее глубины. Вот что, к примеру, записывает однажды Пришвин, размышляя об Олеге: «Известно, что стручки акации, как только определятся в конце весны, так и висят зелененькие, полные семян все лето, пока не потемнеют и не растрескаются, напрасно выбрасывая свои бесчисленные семена. Да и вся расточительность природы, и низшие животные отличаются обильной и напрасной тратой семян, этой жизненной силы, образующей основание пирамиды, на вершине которой монах проповедует бессемейное зачатие и новую жизнь в свете незримом» {162} .
Казалось бы, гимн монашеству как высшей форме жизни, возможной на земле. Но у того же Пришвина мы читаем: «У всякого принципа нет лица и внимания к людям. Вот почему все принципиальное – безжалостно». «Закон, обобщение, метод … соблазн „метода“ – вот этого страшного искушения нет в Евангелии» {163} .
Или читая книгу Феофана, автора XIX века, «Письма монаха к женщине», он пишет: «Начинаю понимать только теперь, что у монаха конечное счастье – покой, то есть монах является тончайшим эгоистом, враждебным нашему миру, в котором высочайшей любовью считается погубить душу за людей. Надо понять, где и когда возникло такое пагубное учение, заменившее учение Христа» {164} .
Конечно, к древним творениям аскетов-классиков эта запись неприложима.
«Последствием такого учения есть разделение мира, – продолжает Пришвин, – тогда как по нашей вере мир единится, и все люди становятся братьями, и животные постепенно приучаются человеком и входят с человеком в единство… и когда интеллигенция стала входить в церковь, тут-то вот и могли вырасти такие цветы, как Ляля и Олег. Я хотел бы, чтобы они стали цветами возрождения» {165} .
Пришвин против гнушения боготварной природой, он борется за любимую мысль о ее спасении здесь и сейчас, такой, уже спасенной, ему дано было увидеть ее. Так он видел природу с того давнего момента, как взялся за перо, когда понял необходимость целостной жизни на земле.
Эта целостность живет, конечно, в ней и во все века. Мы встречаем подобную жизнь и в наши дни среди людей, никому неведомых. А если вспомнить известных и праведных, хотя бы св. Иоанна Златоуста с его исключительной любовью к св. Олимпиаде – достаточно сравнить количество сохранившихся его писем из ссылки к ней и к другим людям.
«Кончилось бы это тем, что он сделался бы писателем, а не монахом, а Ляля была бы ему такой же чудесной женой-другом, как мне, – предполагает Пришвин. – Если бы не умер Олег, то она бы вывела его в жизнь и для того применила бы силу женского лукавства» {166} .
Но тут я должна со всею силой возразить Михаилу Михайловичу: так не случилось и случиться так не могло: именно это «лукавство», то есть эта женская (метафизическая) Хитрость, о которой писал и Олег («Хитрость Софии») не позволила мне «вывести Олега в жизнь». Она не позволила бы мне никогда нарушить цельность его существа, уже бывшего не от мира сего. И как это призвание я понимала и ценила в нем!
Вот еще несколько записей из пришвинского дневника разных лет.
«Природа романтизма – это попытка человека физическое чувство любви сделать духовным состоянием, задержать акт размножения и воспользоваться силой его для личной свободы в духе – такова природа всей культуры.
Дело культуры было отстоять неумирающее (духовное) существо личности от поглощения ее законом размножения. Отсюда возникли такие понятия, как „непорочное зачатие“ и бытовое выражение этого – монашество и т. п. В сроках жизни эти семена дали всходы современности: сокращение деторождения, аборт и т. п. Человеческий сукин сын воспользовался идеей личного бессмертия с трагедией распятия для своего житейского благополучия. Произошла ужасающая катастрофа, в которой была потеряна и религия рода (т. е. вера в будущее), и религия личности (т. е. вера в культуру), в которой уже ранее найден и дан нам пример спасения».
«Большое искусство – это одна из форм аскетизма. Художник – это монах, девственник, часто имеющий облик распутника. Это монах „в душе“. И вот именно поэтому, как все признают, семейная жизнь художника находится в противоречии с его призванием. Яркий пример этому – жизнь Олега» {167} .
В этой записи Пришвина я вижу разрешение загадки собственной жизни – «художник – это монах в душе», и когда встретился мне на пути художник, я устремилась к нему с отчаянной решимостью, как к источнику спасения. Я сказала ему безо всякого обдумывания дерзкие слова, на самом деле вызванные только отчаянием одиночества и страхом перед возможностью новой потери: «Я буду для вас неисчерпаема!»
Он смутился, он не понял. Но через три года записал в дневнике: «На чем стоит наша любовь? Я твердо верю, что меня она не поглотит никогда совсем, и меня ей заменить нельзя: родить она, конечно, может от другого, но изменить мне нельзя. Точно так же и она знает, что ее я никогда не исчерпаю, что, сколько бы я ни погружался в нее, дна никогда мне не достать». «Ляля остается мне неиссякаемым источником мысли, высшим синтезом того, что называют чувством природы». «Ночью думал, что любовь на земле, та самая обыкновенная и к женщине, именно к женщине – это все, и тут Бог, и всякая другая любовь в своих границах: любовь-жалость и любовь-понимание – отсюда» {168} .
Помню, это было за два года до нашей встречи с Олегом: знакомые предложили мне провести три дня на их пустующей даче под Москвой, в Томилине. Мне хотелось побыть на воздухе – я поехала. Ни одной книги, даже Евангелия, я с собой не взяла и постепенно стала чувствовать, как в одиночестве опустошается моя душа: казалось, что ничего своего в ней и нет. От собственной своей пустоты, которая в просторечии, по-видимому, и называется скукой, я не дотянула третьи сутки и бросилась домой, к людям.
Прошло с тех пор много лет. Спутники моей жизни ушли – я осталась одна. Теперь я не страшусь одиночества и своей «пустоты», как некогда в Томилине. Я заполнена мыслью, которой мне так не хватало, их мыслью, которая стала теперь и моей: нищенка с той открытки на царском престоле. Но ведь и женщина приходит в творчество не с пустыми руками, хотя ноша подчас так мала, что уместилась бы в ее ладонях. Это зерна мысли, которые принимает и взращивает мужское воображение… Вот когда становятся понятными загадочные слова Сведенборга: «Самое внутреннее в женщине есть премудрость мужчины».
«Она сама предупреждала меня, – пишет Пришвин, – что ее существо действенное всецело есть форма моих желаний, что все наше продвижение вперед зависит от меня». «В ней нет ничего, все отрицание и тайный вопрос: „Ты с чем пришел?“ Так рождаются боги (т. е. личности), т. е. то, чего нет в природе. Легко родить, как вся природа рождает, но как родить то, чего нет в природе… этот некий плюс. Это усилие, это сверхускорение темпа, борьба со временем, и пр., и пр. – то, чего нет… Из ее „нет“ у него рождается личность, преодолевающая „нет“. Именно это женское „нет“ – начало всему человеческому делу: создать то, чего нет» {169} .
Так что же такое любовь, на которой стоит мир, о чем пишутся книги, поются песни, которая нужнее всего, о чем бы мы ни подумали? Думаю, что любовь – это если видишь образ молчаливо Стоящего за плечом того, кого любишь. Он – единственная реальность жизни, к Нему направлена наша любовь, к Нему пробиваемся мы сквозь то, что называем земной любовью. Любовь – та же вера, путь к Богу, путь к будущему миру, к бессмертию.
«И я, и каждый из нас сам создает себе этот мир, где он будет жить после себя. И этот будущий житель созданного мною мира, конечно, и есть тот самый Он, кого я как простак всегда чувствую в себе и сверх себя, и не Он ли соединяет нас, не Он ли делает возможным дружбу величайшего по мудрости и знанию человека с человеком совершенно необразованным? После себя это Он остается, и за время жизни своей я должен сделать все, чтобы от меня большая часть осталась с Ним. В этом смысле – каждый из нас создает себе тот мир, где он будет жить после себя» {170} , – пишет в дневнике Пришвин.
И еще одна запись, сделанная Пришвиным в те годы, когда он не был еще церковным человеком, а был таким же ищущим, как многие из нас, для кого я, мне кажется, и пишу эту книгу – пишу о своем поиске.
«Толчок к творчеству. Кто-то близкий отметит вашу мысль, любовно разовьет ее и вообще поддержит. Душа окрыляется, внимание сосредотачивается на одном, и начинается работа. А когда давно написанное выходит из круга внимания, не интересует вовсе, но иногда приходит друг и хвалит, тогда захочется перечитать свою книгу, пережить ее еще раз. Так что в основе творчества лежат как бы две силы: Я и Ты.
Я ленюсь, тоскую, ничего не делаю, потому что нет Тебя.
Мое Ты: Ты прилетаешь ко мне, как лебедь, чтобы вместе лететь в общем нашем воздухе, или плыть по нашей воде, или отдыхать в наших зарослях, в нашей траве, возле наших цветов.
Я жду Тебя и очень тоскую, когда долго Ты не приходишь, но счастью моему нет предела, когда Ты являешься. Тогда вселенная – во мне, и два воробышка, которые попадаются мне на глаза, кажутся разными. Если Ты не приходишь, я никак не могу вызвать Тебя. Ты сам приходишь, и приход Твой мне всегда бывает нечаянной радостью.
Я не могу вызвать Тебя, а только верю, что Ты придешь когда-нибудь, но бывает, я теряю эту веру, и тогда мучусь и мучаю всех вокруг меня.
Ты страшно боишься насилия, и при всякой попытке моей удержать Тебя силой, Ты исчезаешь и долго не появляешься.
Я ищу Тебя в лесу, тихо переступая от дерева к дереву, прислоняюсь к стволу и ожидаю, неслышно перехожу к другому и ожидаю, и когда птицы и звери, считая меня за свое, перестают бояться меня и разбегаться, Ты, бывало, приходишь ко мне.
Я ищу Тебя в лесу, мне кажется, что дом Твой там в зелени, но я встречал Тебя в солнечных зыбульках воды, и в облаках неба, и на камнях своего дворика. Кажется мне, что весенний первый свет, когда первые капли падают с ледяных сосулек – больше всего возвещают о Твоем приходе, что это главные Твои вестники, но часто, бывает, я обрадуюсь Твоим вестникам, а Ты не являешься.
И когда бывает все разрушено в саду бурей осени и на серых ветвях остается лишь несколько красных листиков, эти листики мне становятся как огненные языки Духа Святого на головах апостолов, и Ты ко мне являешься.
Я ищутебя, я замечаю Твоих вестников, но другою осенью я смотрю на красные листы и не вижу в них Духа Святого.
А кругом говорят, что ленив я, и не могу исполнить заказ, и человек совсем не практический. Вот я под давлением их чувствую себя виноватым, начинаю лукавить с Тобой и падаю.
Тогда нужно больше упасть, в самую мерзость, и когда я достигаю последнего дна, в последнем падении я встречаюсь с Тобой.
Иногда я видел тебя в женщине и любил тебя в ней, но Ты уходил, и женщина оставалась ненужная мне. Нет! Ты равно явился мне в женщине, в юноше, в ребенке и в седом старце. Видел я Тебя в русском человеке, но видел и в немце, и в евреях я не раз узнавал тебя.
Однажды, когда заряженные ружья пьяных людей были направлены на меня, Ты посетил меня, я улыбнулся, пошутил, и пьяница не стал стрелять в меня. А другой раз негодяй направил в меня револьвер – я испугался, и негодяй успокоил меня словами, что револьвер не заряжен: Ты не посетил меня в моем унижении, Тебя со мной не было.
Что же, или мне вовсе не нужно искать Тебя, ведь Ты не бываешь там, где я ищу Тебя? Но если я не буду искать Тебя, Ты не придешь никогда.
Я ищу, я действую, я живу, а Ты приходишь как бы на зов мой, но совсем с другой стороны и не в то время, когда я зову Тебя. Да, я встречал Тебя иногда в своих мерзостях, но если я стану делать мерзость, я, наверно, не найду Тебя.
В хороших делах я всегда нахожу Тебя, но хорошее дело найти – все равно что найти Тебя. Тут опять должна быть простота, а если я для кого-нибудь сделаю, с тем чтобы этим вызвать Тебя, – Ты заметишь лукавство и не придешь ко мне, и богадельня моя будет такстоять.
Нет, никогда мне не узнать, откуда Ты приходишь и когда, – разве попробовать путь другой: когда Ты придешь ко мне, то идти за Тобой, все оставить – и за Тобой идти?
Вот сейчас Ты со мной, Ты меня покидаешь, я иду… Послышался голос: „За стихами идешь, за песнями?“
Я остановился, а Ты уже отошел, я еще вижу Тебя. „Нет, – говорю я, – не за стихами я иду, – за делами добрыми“. А Ты стал черным, как мощи, и вот собираются толпы людей со свечками и с ладаном, и гроб золотой возле Тебя. Я делаю усилие и вхожу в ту церковь: нет в церкви Тебя, старик и старуха просят милостыню.
Я пленник мира, сижу за решеткой, вокруг – мои сторожа. Но когда Ты приходишь, решетка падает, и сторожа исчезают, когда Ты приходишь, я бываю свободен, в Тебе моя свобода.
Я пленник – Ты мой освободитель.
Вот иду я к решетке своей, погруженный в мелкую думу, в мелкую злобу на сторожей, – и нет решетки! я увидел, как два облака на небе встречаются, и нет решетки – радость широты, радость охватывает, широкая, разная, как целая вселенная» {171} .
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Мечта об обители
Наступила осень. Директор кооперативных курсов не уволил меня за прогул. Олег к зиме не приехал: он с головой ушел в писание и не мог его прерывать. Я проводила к нему Борю Корди, ученика Абрамцевской художественно-прикладной школы, моложе нас лет на пять. Боря, с детских лет круглый сирота, отличался скромностью и чистотой. Он был привязан к Олегу как к старшему брату, совершенно не искушен в философии, просто и глубоко религиозен.
Сразу же по приезде Бори принялись строить новые кельи для Бори и Олега на той же поляне. Помогать им приехал из Москвы толстовец Митрофан Нечесов, каменщик по профессии, работавший некогда с Олегом в одной колонии на черных работах; из Майкопа приехал Сережа Скороходов. Настя, его сестра, к этому времени вышла замуж и долго скрывала от нас свой брак, как «измену» будущей обители. Скоро ей пришлось открыться и даже пригласить Олега в крестные отцы ее первенца. Олег специально съездил в Майкоп и записал меня заочно крестной матерью маленького Сережи. Впоследствии он мне мимоходом бросил, что сделал это умышленно, чтоб поставить между нами в отношении брака еще одно – формальное препятствие (по церковным правилам, между крестными родителями брак не совершается). Я не обратила внимания на это признание.
Пройдет зима, наступит отпуск, и снова я буду в зеленой чаше среди любимых гор. А рано ли поздно ли будет наша обитель. Но если не будет? Тогда перетерпим короткую жизнь: «Мы идем к невечернему дню вечной радости».
Впрочем, черты будущей обители уже начинали слегка вырисовываться. Дело в том, что под Мацестой много лет существовали остатки быстро изжившей свой романтический период толстовской колонии «Змейка». Теперь это было лишь совместное сосуществование людей с тягой к «духовному», всеми понимаемому совершенно по-разному. Все они жили своим трудом на земле, о которой Митрофан говорил: «Палку ткнешь – и та растет». Митрофан и стал посредником между Олегом и змейковцами: поселенцы отдали ему пустовавший крайний с горы участок с остатками покинутой и недостроенной хаты. Этот дом и стал в замыслах Олега моим.
Женская обитель, отдаленная от мужской на 40 верст по прямым сокращенным тропам, – это уже не могло возбуждать ничьего осуждения. Одно было неясно: как могла я при моих обстоятельствах жизни туда переселиться из Москвы. Вот отрывки из письма, которое я получила от Олега после моей первой поездки в горы:
«1926 г. 13 сентября. Сегодня памятный для меня день – вот прошло уже три года после нашей встречи. 11-го получил твое письмо. Все, что там сказано, уже ни в каких дополнениях и поправках не нуждается. Есть еще, может быть, многое, что можно сказать обо всех этих вещах, но, надеясь со временем „глаголати устом ко усты“, по принятому выражению, и больше писать не буду – сейчас, по крайней мере.
Вот тебе утешение. О. Симон спрашивал меня, скоро ли я буду тебе писать и велел передать что-то неясное – он не умеет литературно выражаться – поклон и благодарность, что ты у него была, и сказал мне, что „таких еще не видал“. Между прочим, о. Даниил разболтал ему, что мы с тобой вместе писали „Остров“.
Хотел сказать об иконе Владимирской Божьей Матери, что она выражает собой то, о чем ты говорила: „Зрелое полновесное сердце“. А Иверская изображает только образ совершенства девичьей красоты – и больше ничего. У о. Симона замечательный образ Иверской Б. М., и он любуется им почти с упоением.
В прошлом году ты написала мне однажды о печальном состоянии души и о том, что Бога нет – не чувствуется в ней дыхания Его. Я ответил, что нахожусь в том же состоянии, и потом получил от тебя суровое обличение за это письмо. Как-то я тебе говорил, что у меня с Господом „натянутые отношения“, т. е. так именно я их воспринимаю, но теперь совсем не так – я знаю, что натянутости нет. Мне было как-то неловко, было что-то неясное в отношении к Господу. Именно неясное, ни принятие, ни отвержение. А теперь, когда получил уверенность в прощении грехов (после нашей обоюдной исповеди), стало совсем иное основное настроение, какой-то новый фон душевной жизни.
Прежде если я и взывал: „Векую мя отринул от лица Твоего, Свете незаходимый“, я не знал, слышит ли Бог или забыл „до конца“, т. е. не то, что забыл, а лишил милости, внимания Своего. А теперь я убедился, что мы в каком-то смысле предмет Божьего внимания или, по крайней мере, внимания нам Игумена нашего.
Это и ты говорила, но я теперь как-то с достоверностью чувствую это. И теперь мне легче мириться с тем, что в душе нет Бога, и я готов терпеть до смерти.
Я оглядываюсь на минувшие дни и вижу в них не только Божье чудо, но еще и искусную руку Преподобного, направляющего нас в эти дни.
Как удивительно хотя бы это: ты ехала с намерением принести покаяние перед любимым, а оказывается, это надо было сделать не тебе, а мне, хотя мне такая мысль и в голову не приходила. И я обрел душевный мир и ощутил почву под ногами. Вот поистине всякая молитва бывает услышана! Я молился, чтоб как-нибудь получить извещение о прощении, и мне и на мысль не приходило, что это извещение может явиться таким удивительным путем.
Я говорил тебе еще в прошлом году, что, когда у меня бывают приступы отчаяния о пустоте своей души, о том, что нет у меня сердца, мне хотелось уйти от всех в горы, если не навсегда, то до тех пор, пока Господь простит, если Он вообще простит и явит милость. Иногда, однако, у меня являлось подозрение, что в этом одиночестве я не получу ничего, что может быть Богу угодно, чтобы я обрел сердце как-то с твоей помощью, и мне от этого не убежать.
Теперь я дерзнул осознать эту мысль и, хотя и не утверждаю ее как истину, но, по крайней мере, решился ясно поставить ее перед собой. А вспомнил я эту мысль недаром: мне показалось, что твоим поцелуем открывается у меня сердце, что оно начало таять и, может быть, каменность отойдет от него.
Это не есть простая слабость моя или какая-то женственность души, так как ты знаешь: я предстою Господу сам, в одиночестве. Но иногда мне кажется, что такова Его воля, и как бы я ни упирался, мне иначе к Нему не прийти, и пустыня будет для меня чревом Китовым, куда попал Иона, пожелав отказаться от заданной ему задачи. Может быть, Господь хочет, чтобы я исполнял два дела: свое творчество (с твоим вдохновением), это, во-первых, и, во-вторых, помог бы тебе осуществить самое дерзкое и великолепное произведение, какое ты задумала, хотя я до сих пор не могу поверить, что для такого замысла, словно по ошибке, Господь оказал внимание мне после всего, что ты знаешь.
Может быть, я ошибаюсь – и тогда я готов уйти во „чрево Китово“.
Сомнения твои, которые явились у тебя в день отъезда, да исчезнут без остатка. Ничего, кроме света и радости, не принесли мне дни нашего совместного пребывания в горах. Господь и Преподобный видят, что это истина.
Ляля, помни, мы ведь, не сговариваясь, пришли к мысли, что во власти Божьей изменить прошлое.
Помнишь, как я сообщил тебе свои размышления по поводу слов Спасителя, что Бог силен „из камени воздвигнуть чада Аврааму“ {172} , т. е. Господь создал бы людей, и Авраам принужден был бы назвать их своими детьми, хотя он их и не родил.
Как-то меня очень оскорбили слова св. Августина, что в воскресении на телах мучеников останутся раны, подъятые ими за Христа, но эти раны будут их украшением. Меня оттолкнула эта обращенность к прошлому, словно Царство Божье – только награда, как бы медаль за подвиги на земле. А мне кажется, что во всеобщее воскресение прежде всего с великим торжеством сожгут Четьи-Минеи – это будет радостным завершением Страшного Суда. Сожгут со всеми воспоминаниями, как о прощеных грехах, так и о подвигах, т. е. как о милосердии Божьем, так и о трудах человеческих.
Ляля, чистая и непорочная дева, Жития как бы они ни были великолепны, существуют для человеков. Господь же наперед сжег их для себя.
Еще одно замечание. Мистики начинают писать свои книги, чтобы не забыть того, что им открывалось. Например, так объясняет свои побуждения к писанию преп. Петр Дамаскин. Так как наша встреча – истинное откровение, то не следовало ли попытаться записать то, что мы помним о важнейших моментах, хотя бы в виде кратких отрывков только для памяти? Хотя и это относится к тому житию, которое сгорит, и я думаю, мы сами с удовольствием его сожжем, если спасемся молитвами Преподобного, тем не менее, может быть, следовало бы сделать это.
Бодрись. Мне кажется, что 27-й год должен нам нечто принести. Ты чувствуешь это для своей жизни, я – для своей. Мне нужен какой-то окончательный перелом, вход куда-то внутрь. Это должно быть связано с окончанием моей литературной эпитимии (можно ли так выразиться?) и постригом…
Отец Даниил говорил о твоей келии и увеличил срок „отдыха“ от Москвы уже до шести месяцев. Впрочем, не буду мечтать. Господь с тобой».
«От Бори узнал, что ты была в Абрамцеве, но в его отсутствие. Это меня удивило: что же ты ничего не написала? Боря очень понравился отцам, и они ему. Это удивительное существо, здесь он сразу расцвел. Он как будто попал на свое место, окружающая обстановка как-то подходит к нему, а в Москве он словно не на своем месте.
Кстати, это твоя формулировка или Борина собственная? Он сказал про о. Д., что тот относится к нам „с отеческим вниманием и с материнской заботливостью“. Это замечательно. Зинину критику получил. За нее благодарен ей, но не всегда она права и даже чаще всего не права. Однако критика ее ценна, как перечень мест, где у меня неясно выражена мысль или просто плохо продумано.
Бедная мысль человеческая! Все ее гонят и не понимают. Мысль есть множественный коррелят чувственности – в том небесном смысле, какой должно в философии придавать последнему слову. Ангелы не бывают мыслителями, они не пишут философских систем так же, как и Люцифер… метафизиком бывает только человек. Духовные люди с удовлетворением смотрят на самоубийство метафизики в „Острове“, но боюсь, что они не постигают при этом трагедии человеческой мысли. Она ведь если и умирает, то ради воскресения.
Есть в ее критике поразительно меткие указания противоречий. Их использую.
Между прочим, она вовсе не права, когда говорит, что в будущей жизни будет какой-то след этой, и в доказательство указывает, что Спаситель и по воскресении имел язвы гвоздиные. Ведь эти язвы Он явил по требованию Фомы, снисходя к его реалистическому настроению („Аще не вижду на руку Его язвы гвоздиные, и не вложу перста моего…“ {173} ) и т. д., т. е. это ставится условием веры. Это блаженный Августин думал, что мученики будут носить следы ран, и жаль, что он так думал. Не пойми неправильно этих моих рассуждений. Не пойми как осуждение или недовольство Зининой критикой. Во многом она верна. Но я просто задумался о том, что если даже такой человек, как она, указывает несуществующие противоречия или неясности, то как же другие?
Только что отцвели последние розы. И астры отцветают. С Ачиш-Хо надвигается осень.
Маме привет. Прости меня, так как это письмо не выражает ясно то, что нужно. Не пойми неверно. О.»
«Хочу высказать тебе ряд мыслей, которые записаны на клочках бумаги карандашом сокращенно. Некоторые из них, быть может, устарели за несколько недель, тем не менее изложу их.
Не знаю, что у тебя делается, здорова ли мама. Хотя я не очень много думаю о тебе, но после того, как мне приснился глупый сон, что тебя утащили разбойники неизвестно куда, приснилось, что мама опасно больна – и вдруг твое письмо сообщает о том, что ей, правда, было худо. Пишу это в свое оправдание, так как, наверно, она себя прекрасно чувствует, не знаю твоего настроения, и потому не уверен в том, насколько нижеследующие размышления ему соответствуют.
1. Ты очень хорошо говорила о том, что „смотришь на нашу любовь как на художественное произведение, притом очень смелое“. В обычном творчестве бывает так: художник может иметь гениальный замысел и изнемогать в попытках исполнения его. У нас же („тако глаголет Господь“) в силах недостатка не будет. Нам предоставлено замыслить самую великолепную, полновесную и страшную любовь человеческую – и силы выполнения замысла подадутся в меру нашего смирения.
Самый факт „жития вкупе“ еще не есть венец человеческой любви – разумею, конечно, даже и ангелоподобное житие. Таких примеров можно найти немало. Вовне они не различимы – где торжество Нового Адама и где прелесть. Опять-таки простое существование врозь может свидетельствовать о малой любви или об отвлеченно мысленной любви, неполной и скорее даже ложной. Ибо это может быть простой слабостью, неполной иноческой свободой. Оправдана может быть только сильная любовь, которая небезразлична к пространственной близости, как не безразличен был к ней Сам Господь по Евангелию.
Истина же в том, чтобы сознавать и подчеркивать необычайную силу любви, желание вечно быть вместе. Вместе с этим праведность любви. Она проявляется в том, что в любви выдержан строй Царства Божия, что любимый не стоит между любящим и Господом. Еще далее – надо подчеркивать полноту любви, желание вечной красоты преображенной плоти, а не духа только. И как выход, как результат всего – свобода. В этом – аскетическая логика. Из силы любви следует свобода. Не страшна удаленность, но радостны и встречи – в полном послушании Господу. И это будет иноческая любовь.
2. Итак, не вялое чувство „духовной близости“, а чрезвычайно сильная любовь, не вмещающаяся в этом мире и потому подвигающая к поискам единственного места, где она может осуществиться – Царства Небесного, стяжаемого покаянием. Покаяние – в одиночестве, творчество – в радости встреч, а вместе – свобода.
3. Из утренних антифонов воскресных св. Иоанна Дамаскина: „Се ныне, что добро или что красно, но еже жити братии вкупе. В сем бо Господь обеща живот вечный“.
Сопоставь „ныне“ и „вечный“. Это – аскетическая логика. На ней созидается и наша обитель.
4. Пример красоты целомудрия о. Даниила, а вместе с тем его наивности. Говорили о Злате. О. Даниил заявил, что хорошо было бы, если бы она у нас побывала. Пошли бы с ней к отцам. Я упомянул случайно, что она очень хороша собой. На это о. Даниил ответил: „Так и скажу отцам: приведу к вам ангела! Станем к ним девочек таскать, что они там, в самом деле!“
5. Кстати, ни в одной религии нет почитания красоты девства, кроме христианства. Я готов это доказывать, предвидя возражения, так как их легко разбить. Только христианин мог написать: „Красоте девства Твоего и пресветлой чистоте Твоей Гавриил удивися“ {174} .
У св. Григория Богослова в его „Слове о девстве“ девство противопоставляется супружеству как „жестокое житие пространному житию“, а не как нетронутость.
6. Относительно выражения „ангельский образ“. Это, конечно, не следует понимать как образ некоего бедного, только ангельского совершенства. Ибо слово „ангельский“ здесь заимствовано из Евангелия и употреблено в том смысле, как употребил его Спаситель: „не женятся, не посягают, но живут яко ангели на небесех“ {175} . А совершенство предполагается человеческое.
„Облецытеся в ризу спасения, препояшитеся поясом целомудрия, приимите знамение креста. Ноги умные вооружите воздержания орудием и обрящете покой душам вашим“.
„Да возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения и одеждою веселия оде мя. Яко на жениха возложи на мя венец и яко невесту украси мя красотою“.
Знаешь ли, откуда это? Тропари на пострижение в схиму. Схима предполагает совершенство. Схимник, как видно из чина пострижения, должен быть „светом миру“. И мы видим, что одновременно ему присуши венец жениха и красота невесты, т. е. он подлинно совершенный – полный человек.
О. Даниил думает, что тебе хорошо было бы на год или далее зиму поступить в монастырь. Тогда ты ознакомилась бы со всем чином иноческого жития, по его словам, была бы „как царица“. А далее – приехала бы сюда. Такова его мысль. Мне она кажется удачной, но, впрочем, на будущее доверяюсь Господу и Игумену {176} нашему и даже не хочу предначертывать планов, а то не сбудутся.
Еще сказал о. Даниил: „Как первые монахи нигде не были в монастырях, а почти все – святые, так будет и с последними монахами“.
Твое письмо я сначала колебался отдавать о. Даниилу, но потом дерзнул. Он был немного обижен твоими подозрениями. И я увидел, что и правда тебя отечески любит. Но о том он сам напишет в своем письме.
Господь с тобой. О.»
Письма Олега дышали той жизнью, которая так недавно приоткрылась мне на Кавказе, где я была среди близких, понятных мне людей, и то и дело ловила себя на мысли: как мне сохранить все это в себе навеки? А сейчас Олег с о. Даниилом советовали поступить в монастырь, звали снова к себе «на полгода», а мне полагался трехнедельный отпуск, мать моя всю зиму болела, и я с трудом успевала ухаживать за ней и зарабатывать деньги нам на жизнь. Я жила в каких-то неясных сомнениях и колебаниях, с мечтой об «обители» и реальностью своей повседневной жизни, которая делала эту мечту недостижимой… И в то же время всю зиму и весну 27 года я знала, что единственная реальность моей жизни – это письма Олега.
Письмо без даты. Весна 1927 года.
«Милая Ляля, последние дни почему-то часто тебя вспоминаю. Вот и письмо сел писать потому, что хотел получить известие от тебя, а его все нет – так хоть я тебе напишу.
Ляля, я никуда не годный пустынник. Не могу я уйти в исключительно молитвенную жизнь. Постоянно вспоминаю с беспокойством о тебе, о всех вообще близких. Размышляю о Рацио и Логосе, и прочих высоких материях, в промежутке с этим усматриваю свои пороки, сокрушаюсь о них. Стараюсь молиться во время работы, но молитва все время улетает и надо ее ловить. Все это можно писать только тебе, потому что у меня какое-то несомненное чувство: рассказывая другому что бы то ни было о своем душевном состоянии, как-то теряешь энергию души (конечно, за исключением случаев, когда просить совета, и молитвы, да и то – частью).
Ты дважды писала: „Напиши что-нибудь о молитве“. Эти слова звучали бы для меня совершенной иронией, – что я могу сказать о молитве! – если бы не мои немощи, которые многому научают.
Чувствую себя каким-то существом, висящим в воздухе. Милость Божья уже в том, что борьба носит чисто внутренний характер. А борьба произволения – хотя и где-то глубоко – все-таки есть. И видел, что в моменты, когда произволение уступает, вдруг чья-то внешняя сила запрещает бесу, и он отходит.
Как в эти моменты начинаешь понимать всех людей, которые падают! Как исчезают нотки осуждения и является уважение к ним. Мне ведь дана такая малая борьба и притом устроено так, что запрещено вовсе подкапываться под монашество – это какая-то имманентно-иноческая брань, – и то Господь принужден спасать вопреки всякой справедливости. И начинаешь понимать людей и уважать их страдания.
И раньше было понимание их, но то умом, а это внутренним ощущением. И видишь свое ничтожество перед страдающими и падающими.
А однажды в тот день напал враг с особой силой… И я вспомнил слово отца Даниила: „Тут молитва уже не помогает. Тут нужно прямо из сердца возопить: „Господи!“ – и сейчас же враг отойдет“.
Прежде и эти его слова казались мне иронией: так возопить – да разве я могу? Но пришло отчаяние, и я вдруг вздумал все-таки возопить. В тоске ушел куда-то в глубину и оттуда-то возопил всей силой страдания и отчаяния: „Господи! неужели оставил на поругание врагу несчастное создание Твое?“ Да нет, и слов-то почти не было… Никогда не думал, что способен я так искренно воззвать. И внезапно отлегла брань, рассеялась и исчезла вражеская сила, и совсем отошла.
Ляля, говорят, без скорби не спастись. Я до сих пор не ведал скорби, но может быть, это и есть скорбь? Но она так ничтожна – ее не могу выносить! Но какой урок! Так видишь на опыте, что только силой Божьей держимся: отымет Господь силу эту – и мятемся, и в персть свою обращаемся. Пошлет Духа Своего – и созидаемся, и обновляется душа…
Всякое упование на свою душевную силу исчезает, заменяется страхом – не потерять помощи Господа.
Детка, прости, что пишу такие печальные вещи: я и сам не знаю, зачем все это тебе написал. Никому другому мне не пришло бы в голову сказать, ибо страшусь потерять в будущем помощь Божью. А в отношении к тебе у меня нет чувства, что я другому говорю. Это все равно, что с собой беседую и уроки жизни повторяю.
Поскольку тебе не безразлично мое настроение, сообщу в утешение тебе, что в моей записной книжке совершенно непроизвольно (и даже против воли) вновь отдельные мысли стали кончаться веселым хвостиком, а это безошибочный признак, что опять блаженное детство касается души. Давно уже исчезла эта финтифлюшка из моих тетрадок, а теперь снова откуда-то прибежала и тихонько заняла свое место.
Жду вещественного доказательства твоего существования. Когда получишь это письмо, т. е. дней через пять после его отправки, я, верно, буду уже подумывать об отправлении на старое место, куда пойду недели на две-три; а потому пиши лучше туда, а если что важное – в два места.
Даниил уверяет, что ты приедешь, и велел мне привести в некоторый порядок хату. Повторяю просьбу, которая была в предыдущем письме: не забудь балахон и платок, как в прошлом году, да и непромокаемое пальто тоже. Остановиться можно, где в прошлом году, – я предупрежу. К моему доктору зайди справиться обо мне, а сама идти к нам никак не дерзай: дорога такая путаная, что обязательно собьешься и ночевать под скалами будешь.
Господь с тобою. Л.»
«Недавно видел сон, он не имеет никакого значения, так, просто фантазия отдыхающего ума, вероятно, но хорошая фантазия. Будто ездили мы вместе в Дивеево. Особенно запомнилась дорога в лесу. Мы едем на какой-то линейке, дорога русская, грунтовая, потряхивает, кое-где лужицы после недавнего дождя, яркое солнце прорывается в листву леса, листва светлая, похожая на липу. На земле солнечные пятна, воздух свежий, хороший… Я, впрочем, не знаю, есть ли по дороге в Дивеево такой лес… После такого сна – целый день воздух словно напоен целомудрием и девством…»
Наступило новое лето. Я отправила мать в Ессентуки, а сама должна была в начале июля ехать на Змейку, где Олег достраивал «мой» дом.








