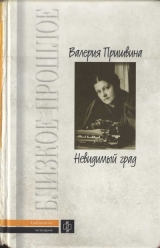
Текст книги "Невидимый град"
Автор книги: Валерия Пришвина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Пустыня
В сущности, все теперь для меня на земле было кончено, и, тем не менее, я оставалась жить: так же ходила на службу, так же заботилась о матери и об Александре Васильевиче. Наступившей зимой мы переехали в новую квартиру в Тишинском переулке, в отстроенный кооперативный дом, где был у меня давно уже пай, и поселились вместе, втроем. Жизнь шла бездушно и уныло. Бороться стало не с чем – и в каком-то смысле мне стало легче жить. Оставалось одно очень ясное и простое – существовать для матери.
Помню, ранней весной нового 1932 года вечером я возвращаюсь домой. Я не замечаю людей, они сами сторонятся меня, видя текущие по щекам моим слезы, и принимают, вероятно, либо за пьяную, либо за безумную. Я не различаю под ногами дороги, ступая по лужам, спотыкаясь. Снова бреду с мокрыми ногами по грязи. Около дома я вспоминаю о матери. Очищаюсь, вытираю лицо, прихожу домой улыбаясь. Ни мать, ни Александр Васильевич ничего не замечают.
Александр Васильевич перестал для меня существовать. Оставалось убожество тупого и сонного сожительства, переживаемого как грех и стыд. На смену росло в душе ядовитое, холодное презрение к себе и к мужу. Даже жалости, столь свойственной моей натуре, даже жалости не возбуждал во мне теперь этот честный и добрый человек. А он – он начинал привязываться ко мне…
Мать понимала мою ошибку, мое преступление, но молчала. Так длилась жизнь в пустоте и притворстве – страшное, губительное существование. Оставалось сделать последнее: уничтожить самые следы воспоминаний. Я поехала за город к друзьям Удинцевым и у них в печке сожгла дневник, хранившийся с первых лет гимназии, и с ним тополевую веточку – мой символ победы над страданьем. Сожгла все письма Бори, Сережи, о. Даниила, Михаила Александровича Новоселова и, наконец, драгоценные письма Олега – все, кроме укорных для моей совести. Все следы моей радости были уничтожены. Я как будто совершила казнь собственной души. Тело оставалось жить.
Теперь, может быть, легко вбить осиновый кол в могилу этой женщины. После гибели Олега в целом мире не оставалось человека, который задумался бы над ее жизнью, захотел проникнуть туда сочувственным вниманием и, может быть, даже ее оправдать. Но Судьба (хочется верить, что это был Промысел) оказалась великодушнее, и через десять томительных лет такой человек нашелся.
Вот почему приходится вести свой рассказ о том, как длилась эта жизнь еще одно десятилетие – тридцатых предвоенных лет.
Наперекор всему в эти годы я была особенно привлекательна и останавливала внимание встречных. Это было бесплодное цветение. Я расскажу о тех годах скупо, как о тяжелом сне, в надежде, что этот сон (или ложь) будет вычеркнут из книги жизни. Вернее всего, это будет Суд – испытание моей правдивости. Именно об этом пишет Пришвин: «Произведение искусства содержит, кроме всего, исповедь художника в том, как он, достигая правды своей картины, преодолел в себе давление жизненной лжи» {194} .
В минуты, когда я решалась взглянуть на себя и свою жизнь со стороны, я ужасалась и недоумевала перед совершенной безвыходностью своего положения. И тем не менее, по словам Олега, «безвыходных положений не бывает», и выход к нам уже приближался.
В учреждениях шла повсеместно «чистка». Жертву обрекали заранее, чтобы выполнить намеченный процент. В нашем маленьком коллективе «вычистили» меня да еще одну – Марию Ивановну Голованову, прелестную девушку и лучшую нашу работницу.
В моем случае поводом послужило мое пальто, переделанное из офицерской шинели, а также мое дворянское происхождение, которое я не скрыла при опросе. Впрочем, я не пропала: тут же устроили меня на новую работу хорошо меня знавшие товарищи-коммунисты, бывавшие у нас изредка в доме. Помогла моя доверчивость и открытость с ними – они также до конца мне доверяли. Я стала работать теперь в новом заочном институте, только высшей марки: это был заочный институт при ЦК Партии, потом – при ВЦИКе. Не буду называть имена этих людей – их давно уже нет на свете. Один из них, осторожный чиновник, умер своей смертью не так давно и в полном благополучии. Другой погиб в заключении: это был более яркий характер и потому – более выдающийся политический деятель. Воспоминания о них удлинили бы и без того растянувшийся рассказ. Запишу только сохранившиеся в памяти слова первого из них, сказанные как-то со снисходительной усмешкой:
– Мне нравятся ваши христиане: они чисты, как дети. Мы их плохо знаем, они, право, не заслуживают преследования. Вас я тоже не мог бы обмануть: это все равно что обмануть ребенка.
Такие слова остаются в памяти и проходят с тобою всю жизнь. По ним, как по вехам, можно было бы построить подлинную историю.
Александр Васильевич, выполняющий любое дело, на которое решался, не за страх, а за совесть, тем не менее, тоже был «вычищен» из Центросоюза. Один из аргументов при чистке был тот, что его «неудобно по непонятной причине звать на „ты“, как прочих» – повод в те дни найти было легко.
Для прочности обвинений в мое отсутствие были подтасованы в служебном столе бумаги. Кроме того, была подготовлена ложная свидетельница – выдвиженка из уборщиц, которую я же обучала своему делу и считала своим другом.
Партийная и советская чистка разыгралась по заранее подготовленным нотам. Это было понятно всем. Вот почему, когда проводилась наша чистка, присутствовавшие товарищи молчали. Героев выступать на бесполезную защиту не нашлось. Но когда судьи удалились, каждый из товарищей один за другим облегчал свою совесть выражением возмущения и сочувствия.
На следующий день (я сдавала дела и была еще на работе) сгорел дом ближайшей моей сотрудницы Зинаиды Васильевны Егоровой. Она еле выскочила из огня. На работу она пришла потрясенной. У нее дрожали руки, губы, дергалось лицо, и она повторяла вслух сама себе, никого не стесняясь, ни о ком не думая, как безумная: «Это мне за то, что я промолчала!» Все делали вид, что не слышат, не понимают ее слов.
Чистка свелась в этот раз, в конце концов, к игре в «свои соседи»: люди легко устраивались в другие учреждения. Всем было понятно: «вычищенные» – это лучшие работники. Но и сами «вычищенные» считали себя почти счастливыми: они могли вытащить куда более худую карту в этой игре – они могли быть арестованы как «вредители». Такую «карту» вытащил наш друг Борис Дмитриевич Удинцев, которого, как издательского работника, обвинили в «бумажном вредительстве» – шла очередная кампания по экономии бумаги. Его долго держали в тюрьме и сослали, наконец, в Тюмень на три года. Это был самый легкий срок – «за недоказанностью преступления».
В тот год была арестована Марина Станиславовна. После гибели сына она обратилась в православие и утешалась тем, что пела в церковном хоре храма Большой Крест, не бросая в то же время своей преподавательской работы. Отбыв ссылку, она осталась жить в Алма-Ате, где ее нашел отбывший лагерное заключение Боря Корди. Начальство в лагере, по-видимому, ценило его за кроткий характер и добросовестную работу: он был раньше срока освобожден. Он поселился вместе с Мариной Станиславовной, которая приняла в ссылке тайное монашество. В Алма-Ате она продолжала преподавать в музыкальном училище. Боря работал гидротехником – эту специальность он приобрел в лагерях.
Алма-Ата была одним из центров ссылки, и оба они отдавали все силы на помощь больным и бедствовавшим людям. В конце тридцатых годов они оба были вновь арестованы. Марина Станиславовна умерла в тюрьме, не дождавшись приговора. В эти же годы был арестован и сослан в лагерь о. Роман: шло уже поголовное уничтожение верующих, без различия направлений. Сосланы были на разные сроки в различные условия ближайшие ему по братству люди. Среди прочих были Зина Барютина и Лев Николаевич Виноградский, близкий семье Барютиных человек.
Отбыв ссылку в глухой северной деревне, Зина вернулась в Москву, ей удалось здесь вновь прописаться и даже доработать до старости на скромной службе. Льву Николаевичу выпала доля куда потрудней. Он всю жизнь с тех пор проводил либо в лагерях, либо в ссылках, сроки которых повторялись. Только под самый конец, больной, измученный, он получил полную реабилитацию. После того он бросил свою врачебную деятельность и принял диаконство, решив посвятить остаток дней своих Церкви. От священства, которое ему предлагали, он отказывался, считая себя его недостойным.
Левушка был очень невыразительным внешне человеком и, как говорят, «со странностями» в поведении. Большинство людей относились к нему снисходительно и даже насмешливо. На самом деле он был предан только одной мысли – благоговейному предстоянию перед Богом и потому лишен всякого житейского лукавства. После Бога он был предан своей жене. Когда Лева попал впервые в тюрьму, Людмила Барютина, движимая единственно состраданием, послала ему тут же в тюрьму свое согласие. Так, пожалев его однажды, она отдала ему душу, полюбила его и до конца безропотно несла свой подвиг. А жизнь ей выдалась трудная. Когда Лева в счастливый короткий промежуток между первым и вторым заключением принес невесте подарок – золотой нательный крест, невеста смутилась, а мать ее Мария Амфиановна спокойно ей сказала:
– Ну что же, что крест? Не пугайся, носи его, на все – воля Божья.
Людмила и Лев поженились. Она сияла от радости, стоя в подвенечном наряде. После свадьбы Лева спросил свою молодую жену, как хочет она жить с ним: иметь детей и жить для семьи или сохранить свою девственность и жить в предстоянии перед Богом? Людмила ответила, что согласна на любое решение – как ему самому лучше, а она будет счастлива с ним, куда бы он ее ни повел. Он выбрал труднейшее, и так они прожили в глубокой взаимной любви, но Левушка сохранил ее чистоту, и Людмила так и не узнала земной страсти. Она следовала за мужем повсюду, как некогда «протопопица» за своим несгибаемым Аввакумом.
Новые лагеря, потом ссылка в Калугу, потом оккупация немцев и работа в госпитале под их началом. Немцы отступают – Лева остается. Новый арест, обвинение за работу в оккупации, угроза расстрела. К счастью, много ходатаев было у Левы: свидетелей его добрых и патриотических дел. Расстрел был заменен ссылкой. Наконец, крушение сталинского режима, и Лева получает избавление – реабилитацию.
Диаконство под началом у трудных, может быть, даже неверующих, священников окончилось переводом в приход, где впервые в жизни его оценили по достоинству. Тут бы ему и пожить… Но пришла смертельная болезнь, сведшая его за полгода в могилу. Как хотелось ему пожить хотя бы для Людмилы, не видавшей еще покоя! В день смерти он об этом сказал своей жене.
– Левушка, предадимся воле Божьей. Нам с тобой она дороже нашей собственной воли, – так ответила ему Людмила.
После смерти мужа Людмила снова, как в детстве, вернулась в семью младшей сестрой. Давно уже и Женя оплакала погибшего на войне сына и похоронила мужа. Зина, Катя – сестры снова оказались вместе, как в далеком прошлом. После смерти Льва Николаевича все четверо они затужили, что он скончался простым диаконом, а мог бы украсить по достоинству своему церковь, как священник или епископ. И даже во сне не было им утешения: Лева не снился упорно никому. Приснился он, как ни странно, мне. Будто приходит и говорит: «Скажи им, чтоб не сокрушались: я не то что не дошел, я уже через это переступил…»
Незаметно перекинулась в своем рассказе через многие годы и вот теперь мне приходится вновь возвращаться в те 1930-е, когда мученичество и исповедничество у христиан только еще начиналось: я теряла самых близких друзей, как будто медленно обходила престол, прикладываясь к останкам святых и чувствуя на голове тяжелую, ведущую меня руку. Сон мой осуществлялся.
М. А. Новоселов был приговорен к длительному одиночному заключению, которое он отбывал в Суздальском и Ярославском изоляторах и которое оказалось для него пожизненным. Там он, я думаю, мог, во исполнение сна, предаваться непрестанной молитве. Старушки, посылавшие ему передачи, потеряли его след во время Отечественной войны. Посылки стали возвращаться обратно без объяснения: по-видимому, молитва Михаила Александровича Новоселова на земле была окончена.
Только однажды получили о нем живое свидетельство: к старушкам пришел освободившийся из заключения высылавшийся на родину незнакомый турок. Он выполнял данное Новоселову обещание – передать от него благословение и благодарность. Турок встретил Михаила Александровича в тюремной больнице, где тот обратил его в христианство. Он говорил о Михаиле Александровиче как о святом. Сон о церкви осуществился до конца.
Мы с Александром Васильевичем и с мамой оставались теперь одни от нашего прошлого и спасались в обыденной жизни служащих по учреждениям. Мы слушали радио, ездили в отпуск по путевкам, мы походили на серых обывателей. В эти дни разыскал нас и пришел к нам Абрамов. Мы не виделись после нашего студенческого спора в 1921 году. Это был теперь солидный партиец с хорошим положением, но было заметно, что тот нравственный огонь пытливости и поисков, который делал его тогда привлекательным и даже близким, давно потух. И лицо у него было теперь особенно серым, даже землистым.
Два друга, предупредительно обходя углы разногласий, ровно и бесстрастно перебирали воспоминания юности. Но мы чувствовали, что о чем-то главном Абрамов и хочет и не решается сказать. Уже перед самым уходом он собрался с духом, застеснялся, засветился изнутри и сказал нам:
– У меня дочка растет, еще маленькая, вот, – достал из внутреннего кармана бумажник, вынул оттуда несколько фотографий ребенка, и мы стали с изумлением рассматривать не столько фотографии, сколько самого Абрамова: перед нами снова был тот молодой человек, с которым мы десять лет назад жарко и бесплодно вели спор.
– Это такое счастье, – говорил он, перебирая свои сокровища, – торопитесь с этим! – закончил он с наивной горячностью, обращаясь ко мне. – Это единственное счастье, и в нем вся правда жизни. Ничего иного и нет.
«А как же ваши слова десять лет назад, что вы пожертвуете своим ребенком ради детей будущего? Вы помните их?» – так хотелось мне спросить Абрамова, но я удержалась и не стала выбивать оружие из рук своего неожиданно сдавшего все позиции противника. Я промолчала и с вежливой улыбкой рассматривала фотографии.
– Торопитесь, торопитесь, – проговорил Абрамов, прощаясь со мною в дверях.
После его ухода я отчетливо поняла, что боюсь именно этого – иметь ребенка, как последнего унижения и обмана в моем несостоявшемся браке.
Так я была лишена даже и «абрамовского» счастья.
Я смотрела в окно: он шел, согнувшийся, раньше времени постаревший, не нашедший ничего достойного вечности в своих идеях и обращающийся теперь, как за милостыней, снова к истокам природы. Вряд ли он отдавал себе отчет в своем поражении так же ясно, как отдавала отчет в своем поражении себе я.
Мы больше никогда с Абрамовым не видались: честный коммунист, может быть, он, подобно тысячам других, погиб в те страшные годы.
Люди вокруг становились для нас не только неинтересными – они были в большинстве случаев опасны. Мы избегали всяких новых встреч и глубоких связей. Это тягостное существование, в котором не было никакой живой свободной деятельности, всецело обращенное на личные переживания, делало вокруг призрачным все, кроме своей боли. В этой жизни «для себя» я задыхалась, значит, была еще нормальным и живым человеком. Надо было выйти «из себя», но как? И вот пришло мне спасение.
Надо сказать, что храм Большого Креста, не поминавший митрополита Сергия, еще держался к началу 1932 года. Бесстрашно (с точки зрения мирской – бессмысленно) он отдавал своих детей на погибель. Ни с кем в этом храме я не была близко знакома, но обо мне еще видимо помнили. И вот новый очередной священник, появившийся на место только что арестованного, прислал сказать, что хочет посетить наш дом. Меня безотчетно это насторожило, но было бы отступничеством отказать ему в его желании, и он пришел к нам и отслужил у нас на дому литургию. Священник оказался либо подставным филером, либо слабым человеком: все люди, которых он под тем или иным предлогом посетил, были арестованы. В их числе оказались и мы с Александром Васильевичем {195} . Это случилось ранней весной.
Два новых захлестывающих душу переживания уносила я с собой, когда меня сажали в тюремную машину. Первое – это была жалость к матери, с такой силой я ее еще не испытывала до сих пор. Воспоминание об ее опрокинутом ровно-белом, как бы посыпанном мукой лице в момент расставания разрывало физической болью сердце. Из последних сил держалась она на ногах, но как только нас увезли, тут же свалилась без сознания. Подобрала ее все та же Шура, почуявшая, как всегда, несчастье. Она и выхаживала маму в эти первые дни. Пережив случившееся, мама быстро оправилась и начала свою новую мужественную жизнь в борьбе за меня. Но я об этом ничего не знала. Мысль о матери заполняла меня безраздельно, и не было ничего, самого страшного, на что бы я ни решилась, только бы ее утешить и спасти. Об этом и ни о чем другом я думала все дни и ночи своего заключения, и никогда еще так остро, как в то страшное время, я не любила свою мать.
Второе, не менее сильное чувство, это было освобождение от плена – своего брака, от плена лжи: очищение, обновляющая уверенность, что только таким путем я могу спастись и выйти на свою дорогу.
«Я свободна!» – думала я, входя со страхом в двери Лубянской тюрьмы, испытывая вместе с тем нечто похожее даже на радость. Это не выдумка моя, рассказчика, это было одно из самых сильных в жизни переживаний: сознание освобождения на пороге тюрьмы!
С Александром Васильевичем нас тут же разъединили: я была уверена, что навсегда, и именно этому радовалась. Меня долго вели по коридорам тюрьмы, переделанной из здания гостиницы, и, наконец, я очутилась в продолговатой комнате с очень высоким потолком, бывшем гостиничном номере об одно окно, зарешеченное и закрытое снаружи вдобавок наклонным козырьком. Из-за этого в комнате было очень душно. Я заметила сразу прекрасно натертый паркет, а в углу – ведро («парашу»).
Несколько женщин – кто лежал, кто сидел на узких койках, стоящих голова к голове по стенам. Бледные лица, серьезные без улыбки, настороженно обратились ко мне. Мое «здравствуйте» прозвучало здесь неуместно и осталось без ответа. Мне молча указали мою койку. Сколько времени суждено мне так сидеть в бездействии под неусыпным «глазком» в двери? Этот глазок и правила, под ним висевшие, где точно регламентировались все возможные наши проступки («не подходить к окну, не говорить громко и т. д.») и указывались последующие за них наказания. Сколько раз глядя на них я думала: как не ценят люди на воле своего простого и несомненного счастья не видеть с утра и до утра (в камере не тушился на ночь яркий свет) одни и те же слова угрозы, не видеть равнодушного человеческого глаза, время от времени глядящего на тебя сквозь дверь.
Глаза дежурных охранников были разные, и так ли они все были к нам бесчеловечно равнодушны? Помню, прежде чем попасть мне в эту постоянную камеру, меня привели на несколько часов в тесную каморку без окон, наподобие ящика, в котором нельзя было вытянуться во весь рост, где не хватало воздуха, и я стала задыхаться. Мной овладел ужас. И тут я увидала, что в дырочку (в «глазок») на меня смотрит человеческий глаз, и я услыхала тихий голос, полный несомненного сочувствия: «Не волнуйтесь, вас сейчас отсюда переведут, немного потерпите!» Только голос и зрачок какого-то тоже зависимого человека: конвоира, часового – и мне сразу стало легче дышать.
Был и другой случай в нашей общей камере. Ежедневно часовой входил к нам по утрам и открывал наше окно, чтоб проветрить помещение. Солдаты сменялись, и в очередь с ними появлялся совсем молодой белокурый паренек. Он с любопытством разглядывал нас. Но однажды, когда нам было отчего-то полегче на душе, одна из нас встретила его улыбкой, и потом все мы почему-то ему заулыбались. Парень остановился на минуту, как бы донельзя изумленный, его молодое лицо дрогнуло, и он растерянно нам в ответ в голос засмеялся. Потом, видно, вспомнил, что совершил преступление, обеими руками закрыл лицо и бросился опрометью к двери. А в двери за ним, конечно, следил глаз уже другого человека, и больше наш парень не появился никогда – поплатился, наверное, за свою простоту.
Нас не истязали, не подвергали прямым физическим пыткам. Они, наверное, существовали для других категорий преступников. В чем же было преступление этих пяти женщин, с которыми я провела два месяца во внутренней Лубянской тюрьме? Однажды мы пообещали друг другу, что оставшиеся в живых напишут историю нашей камеры. Я выполняю это обещание.
Пожилая женщина, привезенная вместе со мной, Екатерина Павловна Анурова, в прошлом учительница и либералка, как и все лучшие женщины ее поколения, занималась кооперацией, разновидностью «хождения в народ» XX века. Я видела впоследствии ее мать – это была совсем простая крестьянская женщина в платочке узлом под подбородок.
Екатерина Павловна никогда не выходила замуж и, подобно Ольге Александровне Немчиновой, отдала жизнь идее служения добру. Под старость она поняла это добро как служение Христовой Церкви, потому что только здесь она увидала его неугасимо теплящимся сквозь изменчивую историю мира. Она была предана идее Церкви до самозабвения. Они с матерью, как и я со своей, были одни на всем белом свете.
Екатерина Павловна была сурова, фанатична и невзлюбила меня сразу. Ей подозрительно было во мне все: начиная со свободы моей критики сектантства и формализма, встреченного мною и среди церковных людей, здесь именно меня и оскорблявших, и кончая моей короткой стрижкой и завивкой. Мы провели с Екатериной Павловной бок о бок полгода по тюрьмам, мы заботились друг о друге, как могли, но она ни разу мне не улыбнулась. За время нашего совместного заключения Екатерина Павловна ни разу не нарушила поста, несмотря на то, что кормили нас либо мясной похлебкой из каких-то отбросов, либо густо сваренной перловой кашей без всякой приправы. Еще полагался нам черный хлеб. Хлебом с водой и питалась Екатерина Павловна. На Лубянке передачи из дому не полагались.
Екатерина Павловна, как и я, не состояла ни в каких политических организациях и не имела к ним расположения. Но она не посещала храмов, где поминался митрополит Сергий, и считала его «политику» в Церкви падением православия. При аресте она успела условиться с матерью ни в чем не обманывать из «жалости» друг друга и принять покорно свою судьбу.
Зоя Петрова, молодая прекрасно сложенная, привлекательная женщина с чудесным голосом. Даже на Лубянке она потихоньку пробовала нам напевать. Ее привезли сейчас неизвестно по какой причине из Соловецких лагерей, где она отбывала 10 лет наказания взамен расстрела. По ее словам, она принадлежала к компании московской молодежи, увлекавшейся в те годы запрещенной поэзией Есенина. Вся их вина заключалась, возможно, в вольных разговорах, но Зою обвинили в «антиколхозном направлении» их кружка. Я не берусь быть ее адвокатом, но… Зоя – и политика! Я могу свидетельствовать, что не видала женщину «типичнее» Зои, женщину, лишенную каких бы то ни было общественных идей и интересов. Она была призвана только к женской жизни, то есть любви к мужу и детям, и готова была из рук всякого мужчины легко принять и так же легко отдать любые идеи, если только она отдавала этому мужчине в обмен свою душу и тело. Наказывать ее лишением свободы было, по меньшей мере, бессмысленно.
В лагере она влюбилась в одного из своих начальников (Зоя пела в лагерном театре и была на общем фоне очень заметна), он стал ее негласным мужем и обещал жениться на ней по отбытии срока. Это случалось нередко в лагерях, тем более что и сам он был из заключенных. И вот теперь начинается пересмотр ее старого дела. Ей угрожали новым обвинением. Она надеется теперь на своего «муженька», о котором говорит с восторгом и преданностью. Надеется, что «онто ее отхлопочет»!
И она поет нам вполголоса и думает только об одном – о своей загубленной и уходящей молодости. Как ей хочется жить! Внезапно разбуженная на ночной допрос, она бледнеет, но привычными, жалкими, трогательными движениями пробует пудрить носик зубным порошком (нам выдавали на Лубянке порошок и мыло!). Мы, остающиеся, наблюдаем и жалеем ее, такую молодую, красивую и уже погубленную. Зоя возвращается в камеру через несколько часов, измученная, валится без слов на койку и долго плачет в подушку. Наутро она рассказывает нам… Все ясно: «муженек» за нее не заступился, есть признаки, что он даже делает себе за счет Зои карьеру. Победила ли Зоя разочарование, осталась ли сама жива? – на эти вопросы я уже не получила ответа.
На третьей койке, почти никогда не вставая и не шевелясь, лежало существо, похожее на индусского факира. Это был скелет, обтянутый бледной кожей и лишенный женственных форм. Голова скелета была перевязана длинным женским чулком, наподобие чалмы, чтобы не мешали волосы. Тело тонуло в полуистлевшем халате и просвечивало сквозь дыры. Ввалившиеся глаза сосредоточенно смотрели внутрь себя. Но все же это была женщина, и звали ее Юлией Михайловной де-Бособр. Когда Юлия Михайловна изредка нам улыбалась – она становилась лучше красавицы. Сидела она здесь уже два года по делу своего мужа, дипломата, и была уверена, что его уже нет в живых. К своей судьбе она относилась с завидным равнодушием.
Впоследствии я узнала, что муж ее был расстрелян, а сама она получила сравнительно легкое наказание и, отбыв его, была «выкуплена» в Англию своей бонной за крупную сумму валютой, что практиковалось в сталинской России.
Четвертой сокамерницей была жена известного ленинградского ботаника, ближайшего помощника Николая Ивановича Вавилова, ни имени, ни фамилии которой я не помню. Несомненно, что муж ее был невинным, влюбленным в науку человеком, подобно Н. И. Вавилову. Судьба этой женщины осталась мне неизвестной.
Пятой была молчаливая московская «советская» дама средней руки, жена какого-то партийного чиновника. Она пробыла с нами недолго, и мы почему-то инстинктивно опасались при ней откровенно говорить. Ее вызывали два раза на допрос. После второго допроса она пришла совершенно успокоенная, с вечера собрала свой нехитрый багаж и прилегла на койку, не раздеваясь. В полночь ее вызвали «с вещами». Это значило – ее переводят в другое место либо выпускают. Она сдержанно с нами простилась. Было ясно, что она выходит на волю. Ясно нам было и другое – на каких условиях ее выпускают.
Шестой была я. День и ночь ломала я себе голову, какое обвинение мне предъявят и что было поводом к моему аресту. Впрочем, терзала меня лишь одна мысль – о матери. Но в первую же ночь я получила неожиданное утешение.
Мне приснились Олег и Михаил Александрович. Они находились со мной в каком-то помещении, похожем на храм. Одежда, лица и самый воздух вокруг – все светилось. Они радостно обнимали меня и говорили: «Наконец-то ты с нами!» Вот и все мое утешение, после чего я проснулась успокоенной и утвержденной.
С Александром Васильевичем в сердце своем я рассталась навсегда: ложь и несчастье моей жизни кончились! А если встретимся, думала я, он останется мне другом и братом, как оно и было между нами сначала. Мы забудем наш несчастный брак.
Наконец через две недели ожидания меня вызывают днем и ведут длинными коридорами и лестницами, почти роскошными, с ковровыми дорожками. Только пролеты клеток для чего-то густо зарешечены. Догадываюсь: люди кончали собой, бросаясь в пролеты…
По внутренним переходам, наконец, меня приводят в учреждение, где все обычно: по коридору ходят свободно люди. Много воздуха и света. Меня вводят в один из кабинетов. Часовой остается за дверью.
За столом молодой человек, развинченный, бледный, с изящно-небрежными манерами – ему бы танцевать в ночном баре, потягивать вино из тонкого бокала… Обостренными нервами ощущаю, что я для него «не фигура», мне не придают особого значения. Молодой человек меня недолго допрашивает и предъявляет обвинение: я арестована за участие в организации «ИПЦ». Я ничего не понимаю. Молодой человек мне не верит. Наконец снисходительно объясняет:
– Истинно-православная церковь.
Только-то! У меня скатывается камень с сердца. Ведь могли придумать что-нибудь посерьезнее: я наслушалась уже от Зои, поняла по скупым высказываниям Юлии Михайловны. Следователь явно недоумевает, пытается внушить мне всю тяжесть преступлений этой «организации». Я действительно чувствую облегчение и не могу его скрыть, мне легко говорить:
– Никакой организации нет, это чистые люди, не скрывающие своей жизни. Ни с кем из священников я не связана.
– А священник, служивший у вас на дому литургию? – спрашивает молодой человек. И тут я понимаю, что это был филер.
– Его-то я знаю меньше всех.
– Назовите нам остальных!
Но я действительно не знаю никаких имен. Следователь пытается меня запугивать моей матерью, что она тоже арестована, во всем созналась, она теперь при смерти. Снова что-то внутри подсказывает мне, что все это ложь.
Меня отводят обратно в камеру с наказом «подумать». Екатерине Павловне предъявляют то же обвинение, что и мне. Мы подведены под один трафарет, и судьба наша, по-видимому, уже предрешена. Нам остается ждать. Через две недели меня вновь вызывают. На этот раз я в кабинете какого-то высокого начальника. Комната огромна. Начальник вышел и оставил меня одну. Я замечаю, что на окнах нет решеток. Наконец он возвращается. Я сижу на кончике стула. Начальник ходит передо мной и с любопытством разглядывает. Потом роняет отеческим тоном:
– Нет, такую ни за что в монастырь не возьмут! – Я вопросительно на него взглядываю.
– Любуюсь вами, – добавляет он примирительно и даже ласково.
Я настораживаюсь. К чему это поведет?
– Не буду от вас скрывать – за вас хлопочут ваши друзья и мои товарищи-коммунисты. Они ручаются за вас и готовы взять на поруки. Я – опытный чекист и вижу, что они имеют основания. Вы – белая ворона, случайно залетевшая в черную стаю. Мы вас переделаем. Но я сам связан законом, и, чтоб освободить вас, я должен подвести тоже достаточные основания для «тройки», все решающей. Основанием может быть ваше письменное согласие работать у нас.
– Быть филером?
– Как резко! – морщится он. – К тому же это называется иначе и не считается позорным. Но я вас не заставлю делать эту работу: вы слишком наивны и прямы. Я даю вам слово коммуниста, что это только формальный предлог для вашего освобождения. Решено? – Он протягивает мне руку. (Заключенным руки не подают!)








