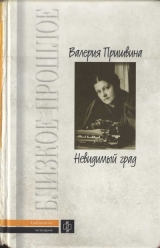
Текст книги "Невидимый град"
Автор книги: Валерия Пришвина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
Мы принялись с увлечением мастерить апостольник из моей единственной привезенной с собой простыни. Спорили мы о его форме, без конца примеряли, пока о. Даниил не отнял у нас кусок материи и утром принес нам готовый апостольник, подрубленный мелкими ровными стежками. Мы подивились работе.
– Монах должен все уметь! – весело ответил нам о. Даниил. – Я же говорю вам: мы – цари!
Медовеевка – было поселение монахов, состоящее из нескольких полян с кельями, разбросанными друг от друга на расстоянии «вержения камня». Она находилась верстах в 30 от Красной Поляны. Там уже издавна обитали несколько уважаемых старцев, и был посредине храм, ничем внешне не отличавшийся от остальных домиков, только в нем никто не жил и туда собирались раза два в год по великим праздникам окрестные пустынники для совместного богослужения и совершения таинства. Это были единственные дни их свиданий. Если кто не приходил – значит заболел или помер. Тогда шли к нему помочь либо похоронить.
Такое же поселение было в районе Сухума, глубоко в горах за несколькими хребтами, называлось оно Псху. Там жили раздельно и монахи и монахини. Псху называлась «глубокой», устав жизни там утвердился весьма суровый, и о Псху говорили с великим почтением. По рассказам о. Даниила, были в те годы на Кавказе еще более глубокие, уединенные поселения монахов. О местоположении их не знал и сам о. Даниил, только известно ему было, что путь туда, почти недоступный, идет по висячим спрятанным в тайниках мостам через пропасти и потоки. И эта «глубочайшая» пустыня была мечтой каждого монаха.
Не знаю, о каких местах довелось слышать о. Даниилу, но вот что услыхала я сама от близких друзей много лет спустя после описываемых событий – в конце 40-х годов. Это рассказ советской альпинистки Александры Джапаридзе, которая была участницей экспедиции на Казбек, совершенной уже в послевоенные годы.
Издавна внимание всех привлекала таинственная железная цепь, видная в бинокль на недоступном склоне. Данной экспедиции удалось достигнуть этой цепи, и там обнаружили огромную каменную плиту в виде двери, закрывавшую вход в пещеру в совершенно отвесной скале. Цепь усилиям людей не поддавалась. Тогда они пробили отверстие над ней и пробрались внутрь. Там оказалась просторная пещера, похожая на храм, с книгами и другими предметами православного богослужения. Самым удивительным было то, что по многим признакам люди покинули эту пещеру совсем недавно. Кто знает? Может быть, им стало известно, что в пещеру собираются проникнуть исследователи. Куда попали найденные вещи, пытался ли кто-нибудь разрешить загадку и что удалось разгадать – все это мне неизвестно.
Итак, наступил канун Троицы. Рано утром мы перебрались по кладкам через узкую, но бурную Монашку и пошли трудной, постоянно меняющейся, часто пропадающей тропой. Мы то карабкались вверх, хватаясь за кусты, то спускались в сырые ложбины, в которых стоял неподвижно, как густой туман, резкий запах гниющих растений. Мы перелезали через завалы стволов, лежащих там многие годы, проходили заброшенными аулами с одичавшими садами, оставшимися, казалось, от времен покорения Кавказа. Мы видели развалившиеся постройки – в них теперь вместо ушедших людей жили дикие звери. Семья змей грелась на крыше сакли. При нашем приближении змеи уползли в дом. Из другого выскочила и скрылась в зарослях дикая кошка – опасный зверь, часто нападающий на путника.
Александра Васильевича мы уговорили остаться дома. Он утомлялся от непривычного образа жизни, ему не хватало сна, и мы решили, что он немного передохнет без нас.
У меня сохранился словесный план дороги, записанный рукою Олега, видимо, со слов о. Даниила – путь от Медовеевки к Сочи, точнее, в район Мацесты – на Змейку. Подобный же план несомненно был в голове о. Даниила, когда он вел нас на Медовеевку, руководствуясь природными приметами и зарубками путников. План этот многое может сказать и о времени, и о характерах, как диктовавшего, так и записывавшего, если прочитать его без торопливости.
«1) От Влад. и Савватия – тропа к лужайке. Через кладку тропа до поляны. Через поляну и в Черн. речку по прав. стороне по-над речкой до скалы.
2) По тропе до кладки на лев. стор. речка повернет направо, тропа через хребет пойдет до натеса о. Мельхиседека, здесь тропа вверх, другая вниз по речке через кладку на прав. сторону. Идти правой стороной. Речка раздвоится. Тропа между речками по острову. Второй раз речка раздвоится. С боков впадают речки, но держаться на север главной рекой. Будет водопад, много кладок. Слева будет р., будет кладка и тропа по горке слева. Если не попасть, то идти прямо по речке. После водопада озеро. Озеро оставить на левой стороне и спуститься вниз снова к речке. От озера пройти версты две и смотреть в лев. сторону сухую каменистую балку. По ней идти около версты. Слева будут обсовы. Справа будет проток. До него не надо доходить 10 саж., а по обсовам искать следов налево. Подниматься на гору, держаться несколько левее, идти на хребет. Попадаются заросли чая.
Спуститься в ручей саж. на 20 выше его впадения в Сочинку. Пальма. Тропа по берегу Сочинки, но идти плохо. Саж. 100. Тропа теряется, а вверх немного косогором видать чистую балочку, на ней площадка вроде аульчика (сейчас же). Приметы: как выйдем из ложбинки, стоит черешня, а на ней метка. В конце аульчика Фундучник. По низу Фундучника сейчас же пройти маленькую балочку. Начинается ясная тропа с ½ версты. В середине ручей, в ручье ямочка саж. 20, выше в пальме балаган лиловый. Пройдя ½ версты, выйдем на большие аулы: груши, черешни. Тропа теряется. Резать на середине. В конце ручей. Его перейти, будут пасеки, выше будет уступ, на нем балаган. Гнать тропой до мертвой балки <3 строки стерты>. Место опасное. Вылазить хорошо. Тропа хорошая. Ручей надо переходить. Подходим – площадка, на ней кизил, спуск к ручью, с противоположной стороны большой обсов. Тимофей Григорьевич».
Дальше следует графический план.
На закате мы вышли на центральную поляну Медовеевки. Я присела с Олегом в стороне, а о. Даниил пошел искать о. Савватия в группе монахов, уже собравшихся около храма. О. Савватий был иеромонах, считавшийся в какой-то очень ограниченной степени главой этого вольного содружества. Разговор у монахов был недолог, после чего о. Даниил сделал нам издали знак рукой, и я пошла, робея, через всю поляну, долго, казалось мне, шла под внимательными молчаливо устремленными на меня глазами. Олег следовал за мной на расстоянии.
О. Савватий походил с первого взгляда на большого деда-пасечника в своей холщовой домотканой рубахе и таких же штанах, очень старых, заплата к заплате, но к празднику свежевымытых. На ногах у него были русские лапти и онучи. Он благословил меня по уставному чину, вместо приветствия. Вижу его добрые и строгие глаза, обращенные прямо на меня.
– А спать тебя мы положим в коЛидоре, – сказал он мне. – Не боишься?
– Я ничего не боюсь, – с поспешностью ответила я и, смутившись, осеклась. Серьезные глаза продолжали меня дружелюбно рассматривать.
– Неуж-ли? – уронил как бы про себя о. Савватий. Я молчала. – Помоги тебе Бог! – прибавил он с сочувствием и, как мне показалось, сожалением в голосе.
«О чем это он?» – смутно мелькнуло у меня в голове. Но что-то перебило мысль, и мне не хотелось к ней, тревожной, возвращаться, так прекрасно было все сейчас вокруг.
Подкрепившись принесенными с собой кукурузными лепешками и водой из медовеевского родничка, мы поспешили в храм, где уже начиналась длинная троицкая всенощная. Вся келья, вдвое больше обычной, была устлана свежей травой. Я стала позади монахов, сбившихся тесной толпой, кто – в крестьянской одежде, подобно о. Савватию, кто – в ветхом подряснике. Никаких привычных признаков храма в келье не было: ни иконостаса, отделяющего алтарь, ни икон, ни лампад перед ними. Но, тем не менее, это был храм, так как в восточной части кельи стоял грубо вытесанный топором престол, покрытый антиминсом, и на нем несколько икон. Перед иконами горели толстые самодельные свечи: аромат чистого воска смешивался с запахом чистой травы у нас под ногами. Цветов не было. Только у одного монаха я заметила в руках небольшой букет, и этим монах выделялся в обшей толпе.
Молящиеся теснились в западной части храма, и воображаемая линия иконостаса четко отделяла их от алтаря, где свободно двигался, совершая службу, о. Савватий. Он «выходил» из алтаря и снова «входил» воображаемыми дверьми. Единственной реальной осязаемой деталью была поверх его холщовой заплатанной одежды старая парчовая риза, вероятно, служившая здесь в горах давным-давно. Из-под нее трогательно выглядывали его ноги в лаптях и онучах, аккуратно перекрещенных веревочками. На груди висел деревянный священнический крест. Светлое широкое лицо простого русского крестьянина, ничем не прикрытые русые с сильной проседью волосы. Тихие возгласы; в ответ на них тихое пенье молящихся – все мы, присутствующие, были хором.
Глубокой ночью кончилась длинная служба. Монахи улеглись отдыхать тут же в храме на траву. О. Даниил принес мне охапку сена, и я легла на наружном помосте – «колидоре». Ночи на юге, сменяя жаркий день, в горах бывают часто холодными. Но я мгновенно провалилась в сон после утомительного дня. Среди ночи я проснулась вся в поту и от непонятного ощущения тяжести на теле. Оглядевшись, я обнаружила на себе гору разнообразной одежды, лежавшей бесконечными одеялами и на мне, и вокруг меня, наподобие бортов лодки. Оказалось, отцы, лица которых я не посмела рассмотреть, имена – не успела запомнить, беспокоились обо мне, и ночью каждый, конечно, не сговариваясь, выходил и тихо, в темноте, наощупь прикрывал меня своей верхней одеждой.
Я вспомнила предостерегающие слова о. Савватия и его, как мне показалось, соболезнующее лицо: «Чего он боится для меня?» – подумала я, и, не обнаружив в себе и признака тревоги или сомненья, тут же снова беззаботно уснула.
Было совсем светло, когда меня разбудил о. Даниил: начиналась литургия. Все исповедались и причастились из самодельной деревянной чаши о. Савватия. Я подошла к ней последняя. Старик ласково благословил меня и простился со мною. Больше я его никогда не видела. Через год он прислал мне в Москву с Олегом подарок: ложку своей работы, покрытую резьбой. А еще через год я узнала, что он не пришел в Медовеевку на Пасху. Отцы тут же поспешили его проведать и нашли о. Савватия лежащим в полном облачении на койке со скрещенными руками. Он давно уже скончался. Его похоронили, по обычаю, возле опустевшей навсегда кельи. Занять ее уже никому не пришлось.
После службы мы сидели с Олегом на краю поляны, ожидая о. Даниила, беседовавшего и прощавшегося с друзьями. Монахи расходились и, поравнявшись с нами, молча кланялись в пояс. Никто не любопытствовал и не разглядывал нас. Только один молодой высокий монах, проходя мимо, бросил вопросительный взгляд, и у меня навсегда осталось об этом взгляде воспоминание как бы огненного прикосновения. Монах шел быстрым летящим шагом, и чувствовалась в этом человеке сила.
– О нем отцы говорят, что это большой подвижник и одаренный человек. Это настоящий монах, – сказал мне Олег.
– А тебе не показалось, что он подозрительно отнесся к нам?
– Он стоит один перед Богом, – задумчиво ответил мне Олег, – ему не нужен никто из человеков для творчества. Ты видишь, какой он… огненный?
– Какой в нем огонь? – возразила я. – Ты же понимаешь, это он на нас направил свой огонь. Отчего же о. Даниил и даже о. Савватий нам доверяют?
Подошел о. Даниил и сказал, что перед уходом мы должны навестить его друга о. Симона, живущего тут же на Медовеевской поляне. Я заметила этого монаха еще в храме: это был тот, что один стоял с цветами в руке. Высокий, узкоплечий, измученный малярией, почти прозрачный, но еще нестарый человек с выражением лица мечтательным и кротким. Жить одному суровой жизнью отшельника ему было нелегко.
Мы разложили костер, вскипятили мятного чайку и сварили мамалыгу. Ложка постного масла в общий котел, принесенного заботливым о. Даниилом в бутылке, была праздничным украшением трапезы для о. Симона. Еще мы принесли ему в подарок сотового меда. О. Симон сочувственно и радостно принимал наши с Олегом откровенности и признания, от него веяло восторженностью, не вполне «приличной» монаху. Даже келья его отличалась ото всех виденных мною особой чистотой, и воздух в ней был свежий и ароматный, и единственная икона в ней – Иверской Божьей Матери стояла украшенная цветами.
Беседа затянулась. Пришлось заночевать. Утром мы отправились в обратный путь, и о. Симон долго стоял на пороге своего дома, махая нам слабой и тонкой рукой, пока мы не скрылись в густых зарослях. В полдень мы сделали привал у ручья. Я лежала на спине, глядя на плотные облака, изредка кораблями проплывающие по ровному густо-синему небу; они предвещали устойчивую погоду. Я думала только об одном: как сделать, чтоб это осталось со мною навеки? Ничего иного от жизни я не желала.
Когда мы пришли на свою поляну, к нам бросился как к избавителям Александр Васильевич. Он даже спал с лица за двое суток нашего отсутствия. Наш расчет на его отдых не оправдался. Оказалось, одиночество в горах с непривычки было труднее, чем если бы он совершил с нами утомительный путь: на него напало известное у монахов беспричинное «страхование». Спасаясь от душевного смятения, Александр Васильевич пытался заснуть, но напрасно: ночью к келье подошло огромное стадо зверей, оказавшихся дикими кабанами. Они перерыли и уничтожили огород о. Даниила.
Александр Васильевич уехал. Мой отпуск тоже окончился, и я каждый день отгоняла мысль о службе, с которой меня уволят за самовольный прогул. Вспоминалась больная мать, вспоминался грустный Николай Николаевич. Но все это казалось как бы сном перед действительностью моей настоящей жизни, от которой я не находила в себе сил оторваться. К тому же о. Даниил ни разу не выказал и тени утомления от непривычной «семейной» жизни, столь неожиданно свалившейся на него волею фантастического ученика и послушника. В заботах гостеприимного хозяина и внимательного отца было столько благородного такта, что я откладывала со дня на день свой отъезд. Так я пряталась от жизни с головой в нашу зеленую чашу.
К тому же необходимо было еще совершить экспедицию на вершину Ачиш-Хо, перед лицом которой проходила наша жизнь. Эта вершина всегда была с нами – то розовая, то золотая, то, как сплошной черный горб, она вздымалась на фоне неба, полном ночами частых звезд.
Мы вышли в предрассветной сырости и холодном тумане. Поднимались весь день. К ночи были у пастушьего балагана на границе ледников. Ночь упала быстро, безлунная. Звездное небо дрожало над самыми нашими головами. По горизонту на северо-востоке его обрезала сплошная черная зубчатая кайма – это был горный хребет центрального Кавказа.
Нас окружала непривычная тишина: голоса животных и птиц не доносились из лесов, оставшихся глубоко под нами. Становилось холодно; резкий ветер гулял по вершинам. Мы укрылись с подветренной стороны шалаша и, усевшись тесно на отвесном краю обрыва, ведущего уступами в пропасть, пели акафист Божьей Матери: «Радуйся, ею же радость воссияет, Радуйся, ею же клятва исчезнет, Радуйся, падшего Адама воззвание, Радуйся, слез Евиных избавление, Радуйся, высото, неудобовосходимая человеческими помыслы, Радуйся, глубино, неудобозримая и ангельскима очима…»
Кое-как продремав, подобно птицам, темные ночные часы, на рассвете мы стали подыматься по леднику к вершине. О. Даниил следил за каждым моим шагом, учил, как ступать, как помогать себе палкой. Олег и он шли за мной, и, если бы не они, я не раз рисковала свалиться в пропасть. Утомление нарастало. Были минуты, когда казалось, сил уже нет, чтоб сделать один только следующий шаг. О. Даниил посмеивался, подбодрял и говорил мне:
– Вот увидишь, перейдем одну черту – и сразу все силы вернутся. Ты только потерпи! Истинно говорю – вернутся!
И действительно, такая невидимая черта существует на подъеме. Как только мы ее перешагнули – усталость миновала, и можно было, казалось, начинать снова путь. Альпинисты знают, конечно, этот нехитрый секрет восхождения, все стали у нас спортсменами, и этим наблюдением теперь никого не удивишь. Но оно дорого мне по воспоминаниям, и я записываю его для себя – многое, наверное, я здесь записываю только для себя, и пусть меня извинит и поймет будущий читатель.
Скоро мы вошли в гущу сырых облаков, прошли сквозь них и очутились в новом мире – льдов, солнца и синевы, ослепляющем и грозном. А в полдень уже стояли на вершине Ачиш-Хо, той самой, которой любовались столько дней со своей поляны. Перед нами во все стороны открывался простор: зеленые невысокие гряды гор, поросших лесом, как мхом; долины и на них крошечные пятна редких селений – все тонуло внизу, закрывалось толпящимися облаками, то вдруг показывалось вновь в плывущие прозрачные оконца. На юго-западе виднелось огромное голубое облако, казалось, плывшее низко над землей, – это было Черное море.
На север и восток уходили вершины каменистых горных цепей, покрытых вечными льдами. Оказалось – горы можно увидеть и понять только с гор. Когда наблюдаешь их снизу, они прячутся – то скрываются за невысокие свои же отроги, расположенные на переднем плане, то за облака, толпящиеся на их вершинах. Горы стараются обмануть человеческий глаз. Но если человек достиг их вершины, они великодушно допускают его в свое царство. И ничего нет в природе величественнее гор, наблюдаемых не с самолета, и не в компании туристов, а с одной из вершин, сидя недвижно, долго и в полном молчании. После видения райского сада на побережье с парохода в 1924 году, это было мое второе видение Кавказа. Оно было сурово, оно было даже бесчеловечно; с ним я могу сравнить лишь первые строки книги Бытия, которыми открывается Библия. Мы стояли, ошеломленные зрелищем.
– Как в первый день творения! – сказал Олег.
О. Даниил называл нам все знакомые ему вершины: Чугуш, хребет Псеашко…
– А тот пик? – спрашиваю я, показывая на снежную вершину, стоящую неподалеку от Псеашко. Его почему-то отец Даниил обошел молчаньем.
– Не слыхал его имени, – ответил он. – Озеро под ним есть, это я, истинно, слышал, но никто из отцов там не жил. Видно, нет у него имени – Безымянный.
А в 1937 году группа молодых ученых-географов, ночуя около озера у подножья безымянного пика и читая всю ночь у костра Пришвина, назвала и гору, и озеро его именем, сложив тур и оставив в нем свою записку. Но это будет еще не скоро. И еще нескоро я прочту в дневнике Пришвина записи, сделанные им в 1939 году, после поездки в Приэльбрусье.
«Бывает, идешь по равнине с какой-нибудь досадной мыслью в маленьком житейском плане, и она тебе все отравляет, и ты никак не можешь выкинуть ее из себя, пока не встретится что-нибудь особенное и не расширит твой кругозор. Здесь же, при восхождении на гору, можешь не бояться ничего самого скверного; стоит сделать вперед десять трудных шагов – и открывается другой кругозор, и ты в кругозоре сам другой человек…
Психология подъема на гору: мученье в себе и радость вне, возвращаясь к себе, переносишь муку легко. Точно так же и в жизни, когда задыхаешься от мелочей и готов сам в этом погибнуть, обращаешься посмотреть вне себя, и тогда оказывается, что ты повысился, и ты видишь, ты открываешь вокруг себя невиданные горизонты, возвращаешься к мелочам великодушным и побеждаешь…»
И все же наступил день моего отъезда. Олег посадил меня на грузовик, наполненный до отказа мешками и людьми. Мы обнялись с ним у всех на виду – условности были забыты. Я увидала слезы на его глазах, перегнулась еще и еще раз к нему через борт тронувшегося грузовика. Олег пробежал несколько шагов за машиной, не отпуская моей руки. Вот он оторвался, и я вижу высокую фигуру в клубах пыли, поднимаемой нашими колесами. Мы пересекли мост через Монашку у выезда с Красной Поляны. Все скрылось за резким поворотом. Машина начала свои петли по-над берегом Мзымты.
– Это ваш муж или жених? – спросил меня голос справа. Мне трудно было сразу ответить – что-то сжимало горло. Тоска расставания? – кажется, нет, я уезжала по-новому богатой и счастливой. Это была еще настоящая свобода, и никакого спора еще не начиналось тогда в моей душе.
– Это муж ваш или жених? – повторил настойчивый голос.
– Нет, это брат, – сказала я, наконец, поворачиваясь к соседу. Прекрасно одетый, еще нестарый, но слегка седеющий человек, интеллигентного вида с резкими восточными чертами лица, он с любопытством разглядывал меня.
В ответ на мои слова он крутит недоверчиво головой:
– Так братья не прощаются, я видел его лицо, какое лицо! – повторяет он восхищенно.
Если б я писала роман, мне удобно было бы сделать эту минуту в жизни моей героини переломной: она могла, она должна была бы прочесть в этих словах запретный и сладкий смысл: не разлучаться, никогда не разлучаться! Пусть не о браке будет речь – это слово вызывает у обоих опасливое отталкивание, пусть речь идет только о том, чтоб никогда не разлучаться. Так началось бы неминуемое раздвоение ее души, после которого все здание аскетики, построенное с такими усилиями, рушится, аскетики, понимаемой в глубоком значении, как самоотвержение и полагание на Бога, без всякого запроса для себя. Так должно было случиться с молодой, нормальной, любящей девушкой, живущей среди людей, а не в душевной изоляции монастыря или пустыни. Но в том-то и дело, что этого не было.Этого не было, и слова моего спутника не задели меня. Потому ли так получилось, что я сама тогда еще не потеряла собственной силы, или потому что Олегу этого не надо было еще от меня? Не знаю. Знаю лишь одно: мы оба еще ничего не искали для себя от жизни.
Вчера на прощанье он дал мне маленькую записку, величиной со спичечную коробку: «Прочти в минуту слабости и уныния», – сказал он. Записка лежит в сумке под рукой, хотя я знаю ее уже наизусть. В ней написано: «Детка родная, не горюй, что тратишь жизнь в сером труде будней. Потерпи! Мы идем к невечернему дню вечной радости». Подписал он записку своим детским именем «Лель».
Я вспоминаю, а сосед в это время задает все новые вопросы. Я скупо ему отвечаю, скрывая главное:
– Да, у брата слабые легкие, он из-за климата живет здесь у знакомого крестьянина, лечится… Да, я осталась в Москве с матерью, работаю… Где? – и вдруг у меня вырывается с горечью помимо воли: – Я скучно работаю, я не нашла своей работы, а мне это самое нужное: мне нужно дело! Вернее всего, у меня нет никакого таланта.
Сосед снова крутит недовольно головой и смотрит мне прямо в душу добрыми, грустными глазами. Я отворачиваюсь, но не могу сердиться долго: что-то располагает к доверию в этом бесцеремонном человеке.
– У вас нет таланта? – переспрашивает он. – Неправда! Я видел, как вы прощались, я видел ваше лицо!
«Что он хочет этим сказать?» – удивляюсь я и молчу. А он продолжает:
– Почему вы уезжаете от него? Это неправда про брата и про болезнь… Зачем он отпускает вас одну? Я знаю жизнь, этого нельзя делать. Я видел, какие у вас были лица!
Я поворачиваюсь к соседу и отвечаю ему запальчиво, негодующе:
– Ему так нужно! Иначе ему не успеть окончить свое дело. Вы говорите, что понимаете жизнь: значит, вы должны понимать, как жизнь коротка. Она велика только совершенным, и мы должны успеть, чтоб заслужить вход к настоящему, непреходящему счастью, пусть оно наступит и в вечности. Я верю, надеюсь и уже в преддверии счастлива.
– Это я вижу, тут вы меня не обманываете, это меня и восхитило, – уступчиво соглашается сосед. – А вы говорите, что у вас нет таланта! Любить – это тоже талант. Я видел, как вы прощались! – в который раз повторяет он свою фразу.
«Этот человек много пережил, ему можно верить», – мелькает у меня. Поддаваясь непреодолимому желанию поделиться, я вынимаю записку Олега и протягиваю ему:
– Вот прочтите – он мне написал в дорогу для памяти. – Сосед внимательно и долго читает.
– Это не письмо, это, скорее, рисунок, – говорит он. – Так писали только в древности. Я изучил во множестве старинные рукописи, я археолог по образованию и люблю свое дело. У этого юноши буквы живут: посмотрите, у каждой свое лицо и своя манера держаться. Буквы бегут за мыслью. Они похожи на маленькие одушевленные существа. А эта концовка, вроде рыбки, сделанная одним росчерком…
– Рыбка эта появляется, – подхватываю я, – когда у него светло и уверенно на душе. Как же я могу сейчас не радоваться?!
– Записка замечательная, – говорит сосед, – и я благодарен вам за доверие. Но мне жаль вас и страшно за вас.
Бесконечно петляет грузовик. Мой сосед замолчал. Но путь наш долгий. Вот почему между молчанием и новыми вопросами я рассказываю ему свою жизнь. У въезда в город он мне говорит:
– Уже поздно, и сегодня поезда на Москву не будет. Как вы достанете завтра билет? В разгар сезона это не просто даже с моими связями. И где вы рассчитываете провести ночь? У меня целый дом пустует. Я живу один. Прошу вас – будьте моей гостьей, а завтра я вам устрою отъезд.
Что-то запрещает мне выказать ему недоверие, и я соглашаюсь. Была уже черная ночь, когда мы вошли в сад за высокой каменной оградой. Пряно пахли невидимые цветочные клумбы, по этому запаху мы обходили их, отыскивая на ощупь и на слух направление: шуршащие гравием дорожки сами вели нас к дому в глубине сада.
Залаяли собаки. Замелькали огни – это люди бежали к нам навстречу с фонарями. Дом мгновенно осветился. Хозяин провел меня в отдельную комнату с шелковой мебелью и широкой мягкой тахтой. От ужина я отказалась. Впервые за два месяца я на ночь разделась, с наслаждением бросилась в постель и заснула.
Утром меня разбудил вежливый стук. Вошла старая горничная. Она поклонилась мне в пояс, произнесла приветствие на непонятном языке, принесла таз и кувшин с водой для умыванья. Она подчеркнуто не замечала моего выцветшего, разорванного и наспех зашитого платья, сбитых, разваливающихся туфель. Горничная быстро навела в комнате порядок, накрыла стол и поставила на него букет свежих цветов. Принесла серебряный кофейник. После того пришел сам хозяин.
– Вы спали отлично – это видно по вашему румянцу. А я по-стариковски сплю уже одним глазом. Все думал о вашей судьбе.
– Какой же вы старик? – из вежливости возразила я.
– Вы правы, – не чинясь, согласился хозяин, – мне не так уж много лет, но счастье мое погублено, и жизнь моя кончена. Вот почему я и чувствую себя стариком. Я – не местный житель, я – армянин, это не мой дом, а моей покойной жены, русской женщины, и я никак не могу расстаться с ним.
Я ждала продолжения, но он не прибавил об этом ни одного слова.
– У меня осталась еще в душе моя родина, – продолжал хозяин. – Моя прекрасная родина с такой древней историей, храмами, книгами и воспоминаниями, каких вы не найдете у себя в России, может быть, во мне хватит сил, чтоб жить ради нее… Но не будем больше обо мне, послушайте, что я думал о вас этой ночью: вы будете жить одна и стариться в далеком городе…
– Мы поселимся в конце концов вместе, – перебила я его. – Если даже не изменится жизнь, и книги наши не будут издаваться, все равно мы проживем на этой благодатной земле, пусть в нищете, это нас не страшит.
– А ваша больная, с городскими привычками мать?
– Наши матери нас поймут и полюбят нашу жизнь.
Мой хозяин посмотрел на меня с ласковой усмешкой:
– Вы так уверены?
Почти такие же слова и так недавно я слышала от о. Савватия…
– Вы не следите за тем, что делается в мире, а я читаю литературу на многих языках, и кое-что предвижу. Вам никто не позволит издавать книги по метафизике. Больше того, вам не позволят даже жить своим нищенским, но вольным хозяйством. Даже в неприступных горах. Даже на никем не обитаемых, никому не нужных землях. Люди делают сейчас ставку на государственную организацию труда, на подчинение всех сил единой системе управления. Делают это ради того же спасения мира от страданий, о чем думаете и вы. Но эти новые люди смотрят сейчас только на землю, им ненавистны ваши расчеты на небо и вечность: человечество слишком долго и бесплодно обманывалось мечтами. Им надо делать жизнь здесь и сейчас.
– Мы об этом тоже думаем, – возражаю я. – В наши планы входит забота и об экономике. Пренебрежение ею было в какой-то мере грехом христианской Церкви.
– И вы надеетесь найти сейчас общий язык с современными людьми! Какая наивность! Вы сострадаете человечеству, а вас сочтут за врагов и, может быть, даже уничтожат, как преступников. Вы не знаете истории: это происходит не впервые в мире.
Я молчу. Я понимаю, что за словами этого человека – правда.
– Но самое главное, – продолжает он, – вы не хотите понять, с каким огнем играете в своей любви. Пока он горит в вас и каким-то чудом не обжигает, вы свободно расстаетесь… Но берегитесь! вы можете стать во всем виноватой. Бедная маленькая Ева, она вечно расплачивается…
«Это он о своей покойной жене», – понимаю я.
– Мне жаль вас и страшно за вас! – повторяет он вчерашние слова. И снова я отталкиваю их, вспоминая: «Потерпи! Мы идем к невечернему дню вечной радости».
– Я вам не учитель, – продолжает тем временем хозяин. – Я сам погубил свое счастье. Когда-нибудь я расскажу об этом вам, но не сейчас. Напишите этому юноше, пусть всегда останавливается у меня проездом. Я буду его ждать.
Вечером хозяин посадил меня в поезд. Из Москвы я написала ему. Он мне ответил. Но вскоре перестал отвечать, и переписка прекратилась. Вероятно, он был, подобно всем богатым домовладельцам, «раскулачен», а может быть, и уничтожен. Так я и не услыхала обещанный рассказ о его погубленной любви.
Я сейчас вспоминаю строки Ахматовой, написанные в конце жизни:
Так, отторгнутые от земли,
Высоко мы, как звезды, шли.
Она решилась, посмотрела на свое прошлое со стороны. Я долгие годы не смела этого сделать. Почти сорок лет не решалась оглянуться на прошлое, записать. Но сейчас, кончая жизнь, я тоже делаю это по завету и Олега, и Михаила Михайловича Пришвина. И мне самой сейчас стало необходимо, чтобы люди когда-нибудь после меня узнали о нашем пережитом. Вероятно потому, что мы радовались и страдали действительно не только для себя, но и для всех.
Олег был свободен от житейских связей и ушел из грешного мира. Я не смогла уйти вслед за ним. Мы оба не догадывались тогда (еще не смели) совершить то единственное, что превратило бы наше мечтательное чувство в любовь: снять один у другого с плеч его ношу и понести на своих. Не о браке речь – мы об этом и не помышляли: только о том, чтоб рядом идти, не расставаясь, шаг в шаг. Моя ноша была – охранить до конца его девственность, в которой заключалось существо этого человека, призванного к монашеству; его ноша – охранить мою слабость, мою женскую незащищенность («не умри от любезности») в этом мире, где невозможно всех любить, никому не изменяя и никому не принадлежа. В ином положении эта женская слабость может превратиться в силу и красоту. Такой, верю, она бы и стала, если б мы тогда посмели, решились – и больше не расставались.








