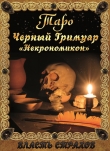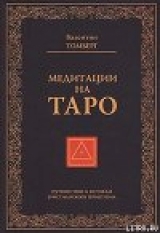
Текст книги "Медитации на Таро. Путешествие к истокам христианского герметизма"
Автор книги: Валентин Томберг
Жанр:
Эзотерика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 58 страниц)
Сама же мистическая молитва в подлинном смысле слова, т. е. состояние человеческой души, пребывающей в единении с Богом, когда, не имея даже собственного дыхания, она дышит одним лишь Божественным дыханием, представляет собой глубокое безмолвие всех свойств души – разума, воображения, памяти и воли, – которое описывает и разъясняет в своих сочинениях Сан Хуан де ла Крус. Это высочайшая степень любви между душой и Богом.
Медитация, т. е. последовательное углубление мышления, также имеет несколько этапов, в число которых входят: простое сосредоточение на предмете; постижение предмета во всей совокупности его взаимосвязей с реальностью; и наконец, интуитивное проникновение в его глубинную сущность. Подобно тому, как молитва приводит к мистическому единению души с Богом, так и медитация ведет к прямому постижению вечных и непреложных основ бытия. Рене Генон называет этот опыт слияния индивидуального разума с вселенским Разумом ( в толковании Плотина и стоиков) – как и основанные на нем учения – "метафизическим". Свои основные идеи в области этой "метафизики" он изложил на конференции по вопросам "восточной метафизики", проведенной им в Сорбонне в 1925 году. С его взглядами можно познакомиться по книге Поля Седира "История и учение розенкрейцерства". В частности:
"Метафизика – наука исключительная, необычная как в плане ее предмета, так и в плане самой специфики метафизического мышления и соответствующего познания. Точнее можно сказать, что она не имеет ничего общего со сферой научных и рациональных представлений. Она не оперирует абстрактными понятиями, но обретает знание непосредственно из вечных и непреходящих источников.
Метафизика – наука не человеческая. Поэтому в силу одной лишь своей человеческой природы человек не может ее постичь; ее постижение осуществляется в фактическом сознании сверхиндивидуальных состояний. Основным принципом метафизического постижения является отождествление через познание – согласно аксиоме Аристотеля: человек есть всё, что он знает.
Важнейшим для этого средством служит сосредоточение. Постижение заключается вначале в неограниченном развитии всех возможностей, которыми фактически наделен индивид, а затем в выходе за пределы мира форм на такой уровень универсальности, где существует одно лишь чистое бытие.
Конечной целью метафизического постижения является абсолютно ничем не обусловленное состояние, свободное от всяких ограничений. При этом освобожденное существо поистине достигает обладания всей полнотой своих возможностей. Это и есть слияние с верховным Началом.
Подлинная метафизика не детерминирована временем; она вечна. Это такой тип познания, который доступен лишь избранным [т. е. существам, состоящим из одного лишь разума]... к тому же все существующие проявления Абсолюта даны нам не для того, чтобы их игнорировали; пренебрегать ими потому лишь, что они нас стесняют, как это делает йог [sic] или архат, неблагородно и не по-христиански..." (125: pp. 13-14).
Метафизика как "непосредственное знание из вечных и непреходящих источников" и как "выход за пределы мира форм на такой уровень универсальности, где существует одно лишь чистое бытие" -это лишь одно из практических приложений медитации, хотя и далеко не единственное. Существуют и многие другие.
Люди Востока используют медитацию в уповании обрести спасение в прибежище, находящемся в некоей абстрактной точке, которая является источником всех пространственных форм. В свою очередь для иудейских эзотеристов – каббалистов – медитация есть средство спасения в поклонении и любви к Богу: вот почему их усилия в медитации направлены на углубление понимания Божественных таинств, явленных в Писании и мироздании. Зогар представляет собой неисчерпаемый источник учения об этой школе медитации и ее достижениях.
Христианская медитация также преследует цель углубить постижение двух Божественных откровений: Святого Писания и мироздания. Однако она стремится к этому прежде всего с тем, чтобы пробудить более полное осознание и понимание искупительной миссии Иисуса Христа. Поэтому высшей ее точкой является созерцание семи Страстей Христовых в их последовательности: омовение ног, бичевание, возложение тернового венца, несение креста, распятие, положение во гроб и воскресение.
Медитация христианского герметизма – ставящая своей целью постижение и содействие алхимической реакции преображению духа, души и материи из состояния изначальной чистоты до Грехопадения к состоянию после Грехопадения, а от него – к состоянию Реинтеграции (к осуществлению спасения) – переходит, к примеру, от семи "дней" творения из Книги Бытия к семи ступеням Грехопадения, затем к семи чудесам Евангелия от Иоанна, а затем к семи речениям Иисуса о Себе ("Я есмь воскресение и жизнь"; "Я есмь свет миру"; "Я есмь пастырь добрый"; "Я есмь хлеб жизни"; "Я есмь врата"; "Я есмь путь и истина и жизнь"; "Я есмь истинная виноградная лоза") с тем, чтобы завершиться семью "словами" распятого Иисуса Христа и семью упомянутыми выше ступенями Страстей Господних.
Итак, медитация может служить средством достижения различных целей, но, независимо от цели, она всегда является средством достижения все более полного пробуждения всего сознания (а не только разума) по отношению к тем или иным фактам, идеям, идеалам и, наконец, реалиям земной и духовной жизни человека в целом. Она также является средством пробуждения сознания по отношению к откровениям свыше. Медитировать означает углубляться, доходить до самой сути вещей.
По этой причине практика медитации влечет за собой преобразование формальной логики в органическую, а органической – в моральную. Последняя, в свою очередь, развивается путем выхода за пределы разумения, путем созерцания вещей, превосходящих всякое понимание: таинств, которые – не будучи принципиально непознаваемы -не ставят пределов их постижению, дабы их познание и понимание могло углубляться до бесконечности. Достигнув же этого созерцания вещей, превосходящих обычное разумение, медитация становится молитвой – как и молитва, достигшая безмолвного созерцания, становится медитацией.
Этот "алхимический синтез" молитвы и медитации – солнца и луны духовного небосвода души – и происходит в душе человека, постигающего Аркан "Шут"... Аркан единства откровения свыше с человеческой мудростью, позволяющий избежать безумия... Аркан получения "философского камня", в котором сосредоточена двоякая достоверность как откровения свыше, так и человеческого знания.
Вышеизложенное представляет собой некоторые мимолетные отзвуки, зарождающиеся в душе при медитации на карте Двадцать Первого Аркана, где изображен путник в шутовском наряде и с узелком на плече, опирающийся на посох, которым он даже не пытается отогнать нападающую на него собаку. Иные – более глубокие – отзвуки ожидают тех, кого медитация на этом Аркане увлечет за пределы того, что здесь описано. Приветствуя их, я надеюсь, что новый свет воссияет от их медитации на Аркане, эзотерическое наименование которого – ЛЮБОВЬ.
Письмо XXII. Мир
«Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны ... тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими».
Притч. 8: 27,30-31
«Lust -tiefer noch als Herzeleid;
Weh spricht: Vergeh!
Doch alle Lust will Ewigkeit –
Will tiefe, tiefe Ewigkeit!»
«Скорбь мира эта глубина, -
Но радость глубже, чем она!
Жизнь гонит скорби тень,-
А радость рвется в вечный день:
В желанный, вековечный день!».
Фридрих Ницше, «Так говорил Заратустра»
«Истинная жизнь лишь в танце».
Айседора Дункан

Дорогой неизвестный друг,
Приведенные выше цитаты звучат своеобразной музыкальной прелюдией к Двадцать Второму Старшему Аркану Таро – "Мир". На карте изображена обнаженная женщина, танцующая в обрамлении гирлянды; в левой руке у нее волшебная палочка, в правой – пузырек с любовным напитком. Длинный шарф небрежно перекинут через ее плечо. В верхних углах карты – Ангел и Орел, в нижних – Телец и Лев. Четверо священных животных со всех сторон окружают венок, в котором пляшет с развевающимся вокруг нее шарфом нагая танцовщица.
Итак, при первом же взгляде на карту в уме пробуждаются идеи танца, цветения и четырех стихий – что прежде всего обращает разум к таким проблемам, как сущность движения, роста и спонтанной мудрости, именуемой нами "инстинктом". Таким образом, эта карта как бы предлагает общее представление о мире как о ритмичном движении или танце женской души, в сопровождении многоголосого аккомпанемента четырех изначальных инстинктов, вызывая в душе образ радуги, сияющей многоцветьем различных форм – или, другими словами, представление о мире как о произведении искусства. Эту идею блестяще выразил Эдвард Карпентер в своем сочинении "Мир как произведение искусства". Общий ее смысл заключается в том, что мир в основе своей не является ни механизмом, ни организмом, ни даже социальной структурой -этакой вселенской школой или воспитательным учреждением для всего сущего, – а представляет собой произведение Божественного искусства: одновременно хореографии, музыки, поэзии, волнующим художественным полотном, скульптурой и архитектурным ансамблем.
В какой степени соответствует этой идее последний из двадцати двух Старших Арканов Таро? В самом ли деле последовательность из двадцати двух духовных упражнений – каждое из которых должно научить тому, как найти тот или иной ключ к тайнам мироздания и воспользоваться им, – завершается медитацией, в итоге которой мир предстает внутреннему взору как произведение искусства?
Карта наводит на эту мысль, но чтобы увериться в этом окончательно, нет иного средства, чем глубокая медитация. Только так можно обрести полную уверенность. Последуем же за общей мыслью, заложенной в контексте карты.
Представление о мире как о произведении искусства присутствует во всех космогонических теориях, объясняющих происхождение мироздания неким актом творения или целым их рядом, как это описано в Моисеевой Книге Бытия. Творение – каким бы ни было его человеческое понимание – неизбежно предполагает созидательное переустройство первичной материи из хаотического состояния в космическое, где превращение изначального хаоса в космос может быть понято лишь по аналогии с магическим действом или магией искусства. "Вначале Бог [Элохим] сотворил [= магическое действо] небо и землю [=произведение искусства]" (Быт. 1:1) – так начинает Библию предание о сотворении мира в Моисеевой Книге Бытия. Можно ли здесь представить себе иную идею, нежели акт преображения идеального в реальное, постижимого (т. е. принадлежащего к сфере разума) в чувственно воспринимаемое? И аналогично ли это преобразование в объективную реальность того, что существует лишь в Господних помыслах и воле, созданию произведения искусства или магическому действу? Действительно ли Божественная магия, подразумеваемая в Моисеевом предании о сотворении мира, есть то же, что и подразумеваемое в нем Божественное искусство?
В философия Платона видимый мир также рассматривается как порождение незримого мира архетипов или идей. Так, неоплатоник Плотин говорит о том, что идея "Человек" существует изначально и проявляется в каждом конкретном человеке:
"... когда же Человек входит в человеческий облик, появляется некий живой человек, который все жене перестает быть Человеком. Из одной сущности, сущности Человека – человека-Идеи, – берет свое начало материальный человек, порождая множество отдельных индивидов, что означаетприсутствие одной самотождественной сущности во множестве проявлений, или, так сказать, во множестве оттисков одной печати" (111: VI, v. 6; р. 536).
С какой поразительной ясностью изложена здесь метафизика магии и в то же время метафизика искусства! С помощью познаний, которыми располагала биология в первой четверти двадцатого века, Эдгар Даке в своей книге "Жизнь как символ" проливает свет на природу "печати", о которой говорит Плотин. Здесь уместно привести две цитаты из его "Эннеад":
"Шопенгауэр как-то сказал, что ребенку вещи видятся в таком ореоле великолепия и наделенными такой небесной природой потому, что каждую конкретную вещь он наивно воспринимает как идею всего типа (вида). Это великолепие духовной реальности совершенно утрачивается человеком, достигшим зрелости рационального мышления, когда он выходит из "инфантильного состояния" ярких и живых ощущений и попадает во власть чистых абстракций. Таким образом, каждый раз, оказавшись в состоянии восприятия идеи в некоей форме, мы оказываемся -подобно детям – внутри Природы. Таким ребенком был Гёте. ...В таком случае, если, как я все время пытаюсь показать, человек является архетипом эволюционной истории целого вида и центром живой Природы... если животный мир, как это уже было известно древним, есть человек в состоянии полной дезинтеграции – что теперь обрело совершенно реальный смысл – то мы получаем прочную основу всего тотемизма и анималистических культов, которая зиждется на данных естествознания" (46: pp. 114, 191).
Иными словами, Эдгар Даке – подобно Пьеру Тейяру де Шардену – видит животный, растительный и неорганический миры как различные вариации на одну и ту же тему, т. е. тему человека, являющегося архетипом Природы в процессе эволюции. Таким образом, человек и есть та самая «печать», о которой говорил Плотин, а все существа в Природе суть его частичные «оттиски». Не является ли, согласно Даке, мир в процессе эволюции произведением искусства в процессе его создания, при котором идея – человек – становится реальностью?
Что до Гёте, которого Даке упоминает как пример человека, умевшего в частных проявлениях видеть мир архетипов, то он представлял себе художественное творчество как неотъемлемую составную часть созидательной деятельности Природы, находящую свое продолжение в человеке. Для него цветок, пробивающийся из земли, и стихотворение, "пробивающееся" сквозь "почву" души поэта, суть два частных проявления одной и той же творческой магическо-артистической силы. Он назвал эту силу "метаморфозой". Вот почему Гёте всю жизнь занимался как наблюдением "метаморфоз" в действии, так и научным и художественным творчеством по этой тематике. Его сочинение о проблеме цвета – "Zur Farbenlehre" ("Теория красок") – есть не что иное, как описание и анализ метаморфоз света; название его труда "Metamorphose der Pflanzen" ("Метаморфозы растений") говорит само за себя, как и название небольшого отрывка "Metamorphose der Tiere" ("Метаморфозы животных"); а его шедевр "Фауст" есть не что иное, как метаморфоза человеческой души со времен Ренессанса...
Подводя итоги, следует признать, что каждый, кто верит в превращение невидимого в видимое в сотворении и эволюции мира, верит тем самым и в то, что акт творения, при котором идея преобразуется в объективную реальность искусства (и магии), аналогичен тому, что происходит в формировании и преображении мира. Он не может думать иначе, если только он не материалист, не подпускающий свое мышление к порогу величественной храмины постижимого. Ибо материалист поступает подобно читающему рукопись, который вместо того, чтобы прочесть и понять мысли автора, занимается изучением букв и слогов. Он полагает, что буквы возникли на бумаге сами по себе, а затем под действием взаимного притяжения объединились в слоги. Это взаимное притяжение, в свою очередь, он объясняет химическими или молекулярными свойствами чернил как общей для всех букв и первичной по отношению к ним "материи". Здесь я имею в виду прежде всего материалистическую веру, а не материалистический метод.
Жозефен Пеладан – сам художник и маг – говорит о взаимосвязи между искусством и магией следующее:
"Что касается гениев, то это люди интуиции, которые дают сверхъестественным законам образное выражение; они привлекают к себе потусторонние потоки и вступают в прямой контакт с оккультными силами. Ни Данте, ни Шекспир, ни Гёте не вызывали духов магическими средствами, но все трое разбирались в оккультизме; они разумно довольствовались созданием вечных образов и были в этом непревзойденными магами. Творить в мире абстрактных идей, творить в душах людей, вдыхая жизнь в отражения таинственного – это великое мастерство" (104; cf. 31: vol. II, p. 377).
Таким образом, художественное творчество отличается от церемониальной магии тем, что оно более духовно. Что до священной магии, то взаимосвязь между священным искусством и священной магией сводится к взаимосвязи между красотой и добром, т. е. к соотношению между различными цветами и тоном одного и того же цвета. Красота есть добро, которое невольно вызывает любовь; добро же – это исцеляющая и животворящая красота.
Однако добро, потерявшее из виду красоту, коснеет, превращаясь в законы и принципы и становясь чистым долгом; красота же, отрешившись от добра и теряя его из виду, размягчается в простое наслаждение – без какой-либо моральной ответственности. Превращение закосневшего добра в суровый моральный устав и размягчение красоты до чистого наслаждения есть результат разделения добра и красоты в морали, религии или искусстве. Вот откуда появилось морализаторское буквоедство и выхолощенный эстетизм. Это, в свою очередь, привело к возникновению соответствующих человеческих типов. С одной стороны, речь идет о "чопорных моралистах", процветавших в Англии в эпоху пуританства, – образе жизни и религии, которому чужды радость и искусство, – или о той же "Huguenot ennui" ("гугенотской скуке"), распространенной во Франции и Швейцарии. С другой стороны, возник этакий тип бородатого неряхи-"художника" с копной нечесаных волос на голове, исповедующего полную свободу нравов.
Двадцать Второй Аркан Таро наводит на мысль о том, что мир должен рассматриваться скорее с эстетической, нежели с интеллектуальной точки зрения, поскольку он воплощает в себе движение и ритм (как и фигура танцовщицы в центре карты). Имеет ли этот Аркан своей целью донести до нас один лишь этот принцип, или, быть может, подобно Двадцать Первому Аркану ("Шут"), в нем сокрыто и некое предостережение? Иначе говоря, существуют ли и в нем упоминавшиеся два аспекта – обучающий и предостерегающий? Ибо если Аркан, на карте которого изображен странствующий шут, привел нас к своему более глубинному названию "Любовь", то разве не может Аркан, на карте которого изображена в окаймлении гирлянды нагая танцовщица, привести нас к своему второму, скрытому имени – "Безумие"?
Так ли это, мы увидим, углубившись в медитацию на Аркане "Мир" настолько, чтобы ясно видеть как великую красоту этого мира, так и опасность этой красоты. А посему да будет наша медитация трезвой и да не упустит она из виду ни открываемых этим Арканом знаний, ни его предостережения.
Я говорю трезвая медитация, но поскольку речь здесь идет о медитации на мире как на произведении искусства, а не о восприятии его как системы законов, то, отрекаясь от упоительного творческого порыва, не обрекаем ли мы себя заранее на бесплодные умствования? Не завещал ли нам гений Бодлера упоение как единственный, незаменимый ключ к тайнам мироздания и художественного творчества?
Задавшись этим вопросом, мы сразу же с головой погружаемся в Аркан "Мир" в обоих его аспектах. Ибо как есть человеческое Искусство и искусство, так есть и космическое, Божественное, созидательное Искусство и космическое искусство миражей. И как существуют экстазы и озарения, ниспосланные Святым Духом, так существует и упоение духом миража – именуемым в христианском герметизме "ложным Святым Духом". Различают же их с помощью следующего критерия: если вы стремитесь к радости творческого вдохновения, духовного озарения и мистического опыта, вы неизбежно приближаетесь к сфере, где царит дух миража, и все более попадаете в его власть. Если же в художественном творчестве, духовном озарении и мистическом опыте вы стремитесь найти истину, то тем самым вы приближаетесь к сфере Святого Духа и все более раскрываетесь Ему навстречу. Откровения истины, исходящие от Святого Духа, несут в себе радость и утешение (дух-утешитель = ), но радость лишь следует за ними, как результат познания Богооткровенной истины (дух истины – «spirilus veritatis»; срв. Ин. 16:13), тогда как откровения, названные нами «мз1ражами», следуют за радостью – радость порождает их. (Мираж – не то же самое, что и обычная иллюзия, ибо он представляет собой «зыбкое» отражение реальности. Но он именно «зыбится», т. е. находится вне контекста объективной реальности во всех ее моральных, причинно-следственных и пространственно-временных измерениях.)
Таким образом, трезвость, которой мы собираемся придерживаться в ходе медитации на Аркане "Мир", является отнюдь не какой-либо преднамеренной сухостью (хотя лучше уж отдать предпочтение обычной сухости, нежели оказаться захваченным безоглядной погоней за наслаждением "творческой деятельностью" как таковой), но осознанием необходимости применения вышеупомянутого критерия к медитации на данном Аркане: необходимости всячески сторониться духа миражей, прибегая к единственному средству избежать опасностей мира иллюзий – соблюдению обетов целомудрия, бедности и послушания.
Радость, порождаемая истиной, и вера, порождаемая радостью, – таков ключ к пониманию Аркана мира как произведения искусства. Ибо этот Аркан открывает нам мир как творение Божественного искусства, т. е. как мир Мудрости, которая "была при Нем художницею... веселясь пред лицем Его во все время" (Притч. 8: 30), и этот же Аркан являет нам мир как творение обманчивого миража, т. е. мир майи, великой иллюзии, неустанно ведущей свою игру (лила) во вселенной. Иными словами, с одной стороны это мир, открывающий нам Бога, проявляя Его, с другой же – это мир, скрывающий Его, утаивая Его от нашего взора.
Но о каком бы мире ни шла речь, – о мире откровения или о мире обмана, о мире, явленном в свете духовной истины, или о мире, видимом в свете сферы духа иллюзий, – главную роль в нем всегда играет радость, которая по своей природе двойственна.
Что же такое радость? Каков ее глубинный смысл?
В свете Аркана "Мир" – Аркана ритмического движения или танца – радость есть гармония ритмов, тогда как страдание есть их дисгармония. Удовольствие, которое в зимнюю пору получает человек, сидя у огня, – это всего лишь восстановление соответствия между ритмами тела и воздуха, – тем, что мы называем "температурой". Радость, которую дает дружба, есть гармония между психическими и ментальными ритмами двух или большего числа людей. Радость чистой совести есть согласованность нравственных ритмов низшей и высшей Сущности. Обещанное тем, кто чист сердцем, блаженство "узреть Бога" (Мф. 5: 8), есть достижение гармонического соответствия их основных жизненных ритмов ритму Божественному. Таким образом, радость -это состояние гармонии ритмов внутренних и внешних, высших и низших, и наконец, ритмов тварного бытия с Божественным ритмом.
Итак, весь мир – это гармоническая согласованность бесконечного числа ритмов. Ибо в основе жизни вселенной лежит преобладающая согласованность отдельных ритмов, а отнюдь не их дисгармония. Таким образом, жизнь в самой своей основе есть радость.
А посему недаром Септуагинта – Библия в греческом перводе (III в. до Р. X.) – приводит двадцать третий стих третьей главы Книги Бытия в следующем виде: "...Господь Бог выслал его [Адама] из сада радости, дабы возделывать землю, из которой он взят..." (). (Этот же вариант принят и в Вульгате: "Et emisit eum Dominus Deus de paradiso voluptatis, ut operaretur terram de qua samptus est". – "И изгнал Господь Бог его из сада радости, дабы возделывал он землю, из которой вышел". В то же время древнееврейская Библия говорит лишь: "Яхве []-Элохим выслал его из сада Эдемского, чтобы возделывать землю [adamah], из которой он взят" (Быт. 3: 23). Создавшие Септуагинту переводчики, передавая древнееврейский термин gan-eden ( ) словами «сад радости», выдвинули тем самым тезис о том, что изначальным состоянием человека и Природы была радость, – что мир, будучи Господним творением, является царством радости. Страдание добавилось к ней только после Грехопадения.
Это традиционное представление вполне согласуется с логикой и жизненным опытом. В самом деле, можно ли вообразить себе мир, пребывающий в вечном движении – живой и одушевленный, -лишенным жизненных сил, всякого удовлетворения и "joie de vivre" ("радости жизни")? Разве сама идея движения – биологического, психического или интеллектуального – не предполагает наличия в основе всякого движения некоего положительного импульса, осознанного или подсознательного "да", по собственной воле или по подсказке инстинкта? В биологии и психологии много говорится об инстинкте самосохранения, но что такое этот инстинкт, как нечистое жизнеутверждение-проявление "joie devivre"? Будь это иначе, вселенская тоска и отвращение данным давно положили бы конец всякой жизни.
Даже самый суровый аскетизм свидетельствует в пользу этой "joie de vivre", ибо он стремится к очищению хаотического смешения радости и страдания, последовавшего за Грехопадением, т. е. к изначальной и истинной радости бытия. Главная идея буддизма и Йоги – освобождение от земной жизни – в конечном счете лишь утверждает бытие, проповедуя окончательный переход мира форм к такому уровню общности, который является уровнем чистого бытия. Это состояние чистого бытия – в противовес небытию – постулируется в Йоге как состояние блаженства (ананда) – одна из составляющих формулы:
сат (бытие) = чит (сознание) = ананда (блаженство).
Что касается буддистской нирваны, то это состояние полного отсутствия страданий, связанных с земным воплощением. Если бы нирвана означала попросту полное «небытие», а не блаженство чистого бытия, то никто – включая и самого Будду – не смог бы найти в себе достаточно сил для преодоления моральных и интеллектуальных препятствий на пути, ведущем к нирване. Чтобы сделать это усилие, человек должен пожелать достичь этой цели – а невозможно желать небытия, т. е. того, где нечего желать. Нирвана как идеальное самоубийство? Нет, поскольку самоубийство есть акт отчаяния, тогда как нирвана есть воплощение надежды обрести блаженство покоя, которое человек может – либо верит, что может – обрести, пройдя долгий путь дисциплины, самоотречения и медитации. Да и мы, христиане, не молимся разве за души усопших: «requiem aeternam dona eis, Domine» («даруй им вечный покой, Господи»), или «requiescant in pace» («да почиют в мире»)? Таким образом, буддисты не желают ничего иного, как обретения этого «requies aeterna» («вечного покоя»), именуемого ими нирваной. В таком случае, остается проблема самоубийства. О человеке, пустившем себе пулю в лоб, говорят, что он не хотел больше жить. Но верно ли то, что он не хотел жить? А может быть, он покончил с собой потому, что хотел бы жить иной жизнью... и потому что не верил, что сможет изменить свою нынешнюю жизнь?
У истоков уныния вплоть до отчаяния, которые приводят к самоубийству, всегда лежит неудовлетворенность, т. е. желание и стремление к иной форме жизни или иному способу существования. Невозможно испытывать неудовлетворенность, ничего не желая. Невозможно впасть в отчаяние, ни на что не надеясь. Невозможно прийти к самоубийству, не принимая жизнь всерьез. Всякая неудовлетворенность предполагает твердую веру в воображаемое счастье. Любое отчаяние предполагает существование надежды. Так и любое стремление к самоубийству предполагает страстную веру в определенные жизненные ценности: любовь, славу, честь, здоровье, счастье...
Даже падшим миром, сохранившим лишь отражение его изначального состояния ничем не запятнанной радости – состояния "сада, взращенного Богом", – даже нашим падшим миром, о котором Шопенгауэр сказал, что общая сумма страданий в нем намного превышает общую сумму радости, даже этим миром, говорю я, движет радость жизни. Даже если Шопенгауэр был прав относительно того, что количество страданий в этом мире превышает количество радости, все же качество этой радости таково, что, несмотря на всю мимолетность и недолговечность, она надолго запоминается, бережно хранится в памяти, пробуждает надежду, одним словом, становится движущей силой мира. Об этом Ницше сказал:
Скорбь мира эта глубина, -
Но радость глубже, чем она!
Жизнь гонит скорби тень, -
А радость рвется в вечный день:
В желанный, вековечный день!
И это верно, ибо источники радости глубже, нежели истоки страдания. Они по-прежнему берут свое начало в реке, которая «выходила из Едема для орошения рая» (Быт. 2:10). Радость существовала задолго до прихода страданий, а мир радости предшествовал миру страданий. Рай был до того, как на смену ему пришел мир борьбы за существование и выживания сильнейших. Как жизньпредшесгвует смерти, так и радость предшествует страданиям.
Вот почему Мудрость, о которой говорит царь Соломон в своей Книге Притчей, радуется. Двадцать восемь веков спустя эта тема была подхвачена Ницше, который ввел представление о «веселой науке» («die frohlische Wissenschaft»), противоположной «духу уныния» («Geist der Schwere»), т. е. тяжеловесности как тогдашней, так и нынешней науки. Мудрость говорит о себе:
"Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не преступали пределов его, когда полагал основание земли: тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими" (Притч. 8: 25-31).
В этом фрагменте отразился не только дух искусства, царивший на заре мира, не только радость творчества, но и идея о том, что радость есть гармоническая согласованность ритмов. В самом деле, Мудрость (, CHOKMAH) «была при Нем художницею, и была радостью всякий день», что означает присутствие Божественной радости или гармонии в ритмах Творца и Мудрости, которая «веселилась пред лицем Его во все время», «и радость Мудрости была с сынами человеческими», т. е. люди, чьи ритмы пребывали в гармонии с ритмами Мудрости, были «ее радостью», как сама она «была радостью» Творца, трудясь в гармонии с Ним.