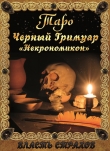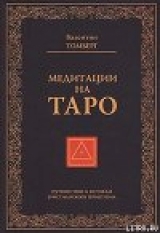
Текст книги "Медитации на Таро. Путешествие к истокам христианского герметизма"
Автор книги: Валентин Томберг
Жанр:
Эзотерика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 58 страниц)
Мог ли он упустить из виду монаду, это фундаментальное единство в основе миров макрокосма, или Бога, и фундаментальное единство в основе состояний сознания микрокосма, или души? Мог ли он пройти мимо Святой Троицы Бога-Творца, Спасителя и Святителя? Мог ли он пройти мимо тройственности человека, который по аналогии есть образ и подобие Божие в своей духовной, душевной и телесной сущности? А после этого мог ли он пренебречь или не заметить проявления этого тернера в четырех стихиях – излучении, расширении, подвижности и стабильности, или в огне, воздухе, воде и земле? А приняв в расчет действие этого тернера внутри кватернера стихий, разве мог он пройти мимо реального проявления действия этого тернера посредством кватернера, т. е. трех раз по четыре (или двенадцати) разновидностей действия, которые суть три разновидности действия тернера, осуществляемые четырьмя различными способами?
Не смея изъять из этого счета ни один из четырехэлементов священного Имени, или Тетраграмматона, – состоящего из четырехэлементов или чисел: одного, трех, семи и двенадцати, – автор Таро воплотил свой замысел в двадцати двух Арканах. Но двадцать два – это четыре, а четыре -это три, раскрывающие одного. Поэтому Таро представляет собой единство, выраженное посредством двадцати двух символов.
Что до "Повешенного", то двенадцать ветвей двух деревьев, между которыми он подвешен, обрублены. Это означает – или подчеркивает – что он свел двенадцать к одному, единственным проявлением которого является он сам, Повешенный. Он, так сказать, "проглотил" Зодиак, вследствие чего его воля стала тождественной воле Бога, проявляющейся различными путями, число которых – трижды четыре.
Он несет в себе – вернее, его поддерживает в воздухе – синтез двенадцати разновидностей действия основополагающей Божественной воли. Вот что означает «сведение двенадцати к одному». Это означает быть подвешенным; это означает висеть вниз головой; и это означает жить под знаком небесной, а не земной гравитации.
Мы сказали: "Повешенный" – тринадцатый. Заметим, что быть тринадцатым может означать одно из двух: либо сведение двенадцати к одному – и тогда «Повешенный» олицетворяет фундаментальное единство двенадцати разновидностей воли, – либо кристаллизацию некоего тринадцатого синтетического элемента. В последнем случае речь будет идти о скелете, являющемся конечным кристаллическим образованием «зодиакальной» воли и в то же время принципом и конкретным образом смерти. Поскольку смерть и ее взаимосвязь с символом скелета будут предметом обсуждения в следующем письме, посвященном Тринадцатому Аркану Таро – «Смерть», – здесь, дорогой неизвестный друг, я прошу вас лишь запомнить контекст двух выделенных нами проблем. Речь идет о тождестве индивидуальной воли воле Божественной и о притяжении свыше в его двойственном аспекте – экстаза и смерти. Ибо как в экстазе, так и в случае естественной смерти происходит «зодиакализация» воли.
"Повешенный" олицетворяет первую альтернативу, т. е. фундаментальное единство двенадцати разновидностей Божественной воли, которые суть побудительная и конечная причина излучения, расширения, подвижности и постоянства – в плане духовном, душевном и материальном.
Глубокое и захватывающее чувство этих космических бездн можно встретить в космогоническом гимне Ригведы. Он пробуждает у медитирующего по меньшей мере ощущение глубины изначального космического стремления к «зодиакальности». Вот этот гимн (cf. 114):
Вот что более тридцати веков назад почувствовала душа индуса одной звездной ночью, созерцая вселенную. Не напоминает ли это комментарий к самой эссенции мистической космогонии в Книге Бытия – "Fiat lux" ("Да будет свет")?
Анонимный автор ведических гимнов черпал вдохновение в той же глубинной сфере, которая через волю доступна и Повешенному, который есть связующее звено между бытием и не-бытием, между тьмой и сотворенным светом. Мы видим его подвешенным между потенциальностью и реальностью, причем (и это главное) потенциальность для него более реальна, чем реальность. Он живет подлинной верой – тем, что в герметической книге Kore Kosmu называется «даром Черного Совершенства», или «даром Совершенной Ночи», т. е. даром абсолютной уверенности, почерпнутой из ночи сверхсветоносной тьмы. Ибо есть тьма – и Тьма. Первая есть мрак невежества и слепоты; вторая же есть Тьма знания, выходящего за пределы природных познавательных способностей человека; она проявляется как интуитивное видение. Она сверхсветоносна в том же смысле, в каком ультрафиолетовые лучи лежат за пределами естественного зрительного восприятия человека.
Здесь напрашивается параллель из "Жития Св. Антония":
"И действительно... после сего пришло к нему еще несколько человек язычников, почитавшихся мудрецами, и потребовали у него слова о вере нашей во Христа... [Антоний отвечал им через толмача:] "...поелику опираетесь вы более на доказательство из разума и, владея сим искусством, требуете, чтобы и наше богочестие было не без доказательства от разума; то скажите мне прежде всего: каким образом приобретается точное познание о вещах, и преимущественно ведение о Боге, – посредством ли доказательств от разума или посредством действенности веры? И что первоначальнее: действенная ли вера или разумное доказательство?" – Когда же ответили они, что действенная вера первоначальнее и что она есть точное ведение, тогда сказал Антоний: "Хорошо говорите вы. Вера происходит от душевного расположения, а диалектика от искусства ее составителей, Поэтому, в ком есть действенность веры, для того не необходимы, а скорее излишни, доказательства от разума. Ибо что уразумеваем мы верою, то вы пытаетесь утверждать из разума, и часто бываете не в состоянии выразить то словом, что мы разумеем ясно; а посему действенность веры лучше и тверже ваших велемудрых умозаключений"" (6: LXXIV, LXXVII; с. 38, 40).
Перед нами четкое сравнение уверенности, основанной на "активной вере", и уверенности, порожденной доводами рассудка. Различие между ними такое же, как различие между фотоснимком какого-либо человека и встречей с этим человеком. Это различие между образом и реальностью, между чьим-либо представлением об истине и самой истиной, живой и действующей.
Уверенность веры зиждется на реальной встрече с истиной и ее убеждающем и преобразующем воздействии, тогда как уверенность, основанная на здравых рассуждениях, есть лишь некая частица – в большей или меньшей степени – подобия истины, ибо она зависит от правильности наших рассуждений, а также от полноты и ясности тех концепций, которые лежат в ее основе. Любая новая информация может поставить с ног на голову всю стройную систему наших рассуждений; впрочем, к тем же последствиям может привести и всякая информация, оказавшаяся неверной либо неточной. Вот почему любая убежденность, основанная на рассуждениях, по сути гипотетична и предполагает следующую оговорку: «При условии, что информация, имеющаяся в моем распоряжении, полна и точна, и не возникнет других, противоречащих ей сведений, я в результате следующих рассуждений прихожу к выводу, что...» Тогда как в уверенности веры нет ничего гипотетического: она абсолютна. Христианские мученики шли на смерть не ради гипотез, но ради истин той веры, в которой были абсолютно уверены.
Я просил бы избавить меня от возражений, что коммунисты тоже иногда умирают за свой марксизм-ленинизм! Ибо если они идут на это добровольно, то вовсе не во имя своих догм (главенства экономического базиса, идеологической надстройки и т. д.), а во имя той крупицы христианской истины, которая завладела их сердцами, – истины общечеловеческого братства и социальной справедливости. Материализм как таковой не имеет – и не может иметь – мучеников; если же создается обратное впечатление, то те, кого материализм провозглашает таковыми, по правде говоря, свидетельствуют против него. Ибо вот как звучит их свидетельство: «Есть ценности более высокие, нежели экономика, более даже высокие, чем жизнь, потому что мы приносим в жертву не только наши материальные блага, но и жизнь». Таково их свидетельство против материалистического марксизма. А вот как они выступают против христианства: «Мы утратили полноту веры; в нас сохранилась лишь малая ее крупица. Но даже эта оставшаяся крупица столь бесценна, что мы отдаем за нее жизнь. А вы, обладающие всей полнотой веры, какова ваша жертва ради нее?» Таково их свидетельство против христианства... в той мере, в какой оно также является материалистическим. Ибо рядом с волей, пребывающей под воздействием веры, уживается материалистическое учение, равно как и доктрина духовности сосуществует с волей, движимой материалистическими интересами.
Подобная двойственность порождает всевозможные ереси и секты. Так, приверженцы арианства отрицали Божественную сущность Иисуса Христа не потому, что это противоречило здравому смыслу, а потому что им это казалось несуразным, так как против этого была настроена их воля. Мессия, которого они желали, был Мессией, которого ждали ортодоксальные иудеи. По этой причине последние отвергли Христа и отдали Его на распятие, обвинив в том, что Он «сделал Себя Сыном Божиим» («Иудеи отвечали Пилату: Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим». – Ин. 19: 7). А вслед за ними точно так же поступили последователи Ария, выдвинув то же обвинение против Церкви, будто это она сделала Его Сыном Божиим. Ариане были никак не менее образованны и наделены интеллектом, нежели ортодоксальные верующие. Им недоставало лишь воли, просветленной откровением свыше, т. е. подлинной веры. Их воля осталась такой, какая была до Иисуса Христа, какая жила и действовала в среде иудейской ортодоксии. Ариане в сущности, желали иного Мессию и, будучи христианами, направили все усилия на то, чтобы изменить образ Мессии сообразно своей дохристианской воле.
Но когда воля ощущает откровение свыше, вслед за чем приходит и понимание, как в случае с "Повешенным", уверенность абсолютна, и нет места никакой ереси, если под "ересью" понимать учения или высказывания, наносящие вред великому делу спасения и несовместимые с истинами веры. "Повешенного" можно, разумеется, обвинить в ереси, но виновным в ней он никогда не будет. Его стихия – это подлинная вера, а как может подлинная вера, или Божественное воздействие на человеческую волю, порождать то, что ей же противоречит?
Известно ли вам, что означает непогрешимость папы "ex cathedra" (во время проповеди) в вопросах вероучения и морали? Она означает, что делая заявление "ех cathedra" по проблемам вероучения и морали, он оказывается в положении "Повешенного". В том же состоянии пребывал и апостол Петр, когда говорил: "Ты – Христос Сын Бога Живого", на что Господь ответил: "Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах" (Мф. 16: 16-17). И так же, как камень не движется сам по себе, а лишь приводится в движение извне, так и воля того, кто пребывает в состоянии "Повешенного", лишена возможности двигаться сама по себе и движима лишь велением свыше.
Это лишь одна из сторон таинства непогрешимости в вопросах веры и морали. Непогрешимость суждений в этой сфере гарантируется произвольным оцепенением воли и сведением ее к нулю – к состоянию камня. Прежде всего речь идет об устранении источника ошибок – ибо, как правило, римский папа, выступая ех cathedra, говорит как первосвященник, а не как пророк.
В целом же у таинства непогрешимости есть, безусловно, немало иных аспектов, среди которых и тот, который обсуждался нами в письме о Пятом Аркане Таро, именуемом "Первосвященник". Однако аспект, представший перед нами в свете Аркана "Повешенный", по своей природе призван внести максимальную ясность в рассматриваемый вопрос, ибо это Аркан подлинной веры.
Итак, подлинная вера приносит с собой абсолютную уверенность, особенно когда, не ограничиваясь одной волей, она подключает к опыту откровения разумение и воображение. Тогда душа становится вместилищем своеобразной христианской символики веры-премудрости, подобной символике веры-премудрости книги Зогар, т. е. иудейской Каббалы. Последняя так же относится к первой, как Ветхий Завет к Новому. И как Ветхий и Новый Заветы вместе составляют Священное Писание, так и иудейская Каббала и христианский символизм веры-премудрости вместе составляют христианский герметизм. Подобно тому, как христианская теология не может обойтись без Ветхого Завета, так и христианский герметизм не может обойтись без Каббалы. Таков закон преемственности живой традиции или заповеди: «Почитай отца твоего и мать твою». Матерью христианского герметизма является Каббала, а отцом – египетский герметизм, эллинистическое изложение которого дошло до нас под названием Corpus Hermeticum, включающим двадцать девять (или более) трактатов. Corpus Hermeticum (сочинения, приписываемые Гермесу Трисмегисту либо вдохновленные им) представляет собой египетско-эллинистический аналог иудейского Зогара и Каббалы в целом.
Речь здесь, разумеется, не о "заимствовании" – которое, к тому же, всегда бесплодно – методе, используемом в исторических и филологических науках. Ибо хотя "и научен был Моисей всей мудрости Египетской" (Деян. 7: 22), он все же пережил реальную и подлинную встречу с "Ангелом Господним, который явился ему в пламени огня из среды тернового куста" (Исх. 3: 2). Именно эта встреча и дала начало его миссии.
Нет, то, что пережито в реальном опыте, позаимствовать невозможно. Один опыт следует за другим, как сменяют друг друга поколения людей, и все они связаны между собой лишь прочными узами наследия, т. е. преемственностью жизни традиции, обеспеченной усилиями, решением проблем, стремлениями и страданиями. Подобно тому, как одно поколение передает другому органы познания и животворный импульс, позволяющий их использовать, так и стадии развития такой духовной традиции, как египетско-израильско-христианская, суть как бы воплощения новых душ, наследующих лишь органы и импульс (плоть и кровь) своих предшественников. Израиль есть новая душа по отношению к Египту, а христианство есть новая душа по отношению к Израилю. Но Египет стремился к Богу богов и преуспел в получении высшего знания – и даже подлинной веры в Бога, о чем свидетельствуют писания Corpus Hermeticum; Израиль общался с этим Богом через Моисея и пророков; и наконец, в христианстве Бог явился во плоти. Из храмов Египта через Синайскую пустыню к кресту на Голгофе проложен путь – путь божественного откровения с одной стороны и исторический путь монотеизма в человеческом сознании – с другой. Христианство ни в коей мере не «позаимствовало» у иудаизма «идею Мессии», поскольку Иисус Христос был не «идеей», но Воплощением Слова и свершением упований Израиля. Так же и Бог Моисея и пророков не был «заимствован» в храмах Египта, ибо не могут быть позаимствованы тучи, молния и гром на горе Синай, где Он явил себя. Так же ни у кого не «позаимствовано» и видение творящего Бога в египетском святилище, описанное в герметическом трактате Poemander (По-). Вот что сказано в его первых строках:
"Однажды я глубоко задумался обо всем сущем, и мое разумение возвысилось, тогда как все телесные чувства как бы оцепенели, как бывает с теми, кто впадает в глубокий сон... и пригрезился мне некто необычайно величавый видом, и его бесконечное величие обращается ко мне по имени и говорит мне: "Что ты желаешь услышать и увидеть? Что ты желаешь понять и познать?"" (112: р. 7).
Таким образом, очевидно, что речь идет о духовном опыте, а не о каких-либо учениях, передаваемых изустно. Живая традиция -это не поток слов, а последовательность откровений и подвижничества. Это «биография» подлинной веры.
Подлинная вера – состояние "Повешеннного" нашего Аркана – отличается, таким образом, от рассудочного знания тем, что несет в себе абсолютную уверенность. Однако рассуждение не является единственным методом познания. Есть еще так называемые оккультные, или сверхъестественные методы познания. Я имею в виду различные формы ясновидения – физическую, психическую и духовную. Какова же взаимосвязь между подлинной верой и опытом ясновидения?
Прежде всего следует сказать, что вся сфера сверхчувственного опыта разделяется на две принципиально различные части: на восприятие того, что находится вне души, (горизонтальное восприятие), и восприятие откровения того, что пребывает над душой (вертикальное откровение). Первая часть экстра-субъективна или объективна, тогда как вторая транс-субъективна. Св. Тереза называла их «образным видением» (то есть имеющим «образ») и «интеллектуальным видением» (то есть не имеющим «образа»). Ниже приводится пример «интеллектуального видения»:
"Однажды, когда я молилась, – а это был праздник славного Св. Петра, – я увидела рядом с собою Христа – или, лучше будет сказать, я осознала Его, ибо ничего не видела ни очами плоти, ни очами души. Он, казалось, был совсем рядом со мной, и я увидела, что это Он. Едва я успела это подумать, как Он заговорил со мной. Совершенно не ведая о том, что такие видения возможны, я вначале очень испугалась и не могла сдержать слез. Но едва Он сказал мне первое ободряющее слово, как ко мне вернулось обычное спокойствие, я повеселела, и все страхи развеялись. Иисус Христос, казалось, все это время находился рядом со мной, но поскольку это было не образное видение, я не могла сказать, в каком Он был виде. Однако я вполне явственно ощущала, что Он все время находится справа от меня и видит все, что я делаю. Всякий раз, стоило мне об этом вспомнить, либо когда мои мысли не были всецело заняты посторонними вещами, я не могла не осознавать, что Он рядом со мной.
В великой тревоге я немедля отравилась к своему духовнику и рассказала ему об этом. Он спросил, в каком облике я Его видела, и я ответила, что не видела Его воочию. Он спросил, откуда я знаю, что это Христос, и я ответила, что не знаю, но ничего не могу поделать с тем, что осознаю Его присутствие рядом со мной, и что я это отчетливо видела и чувствовала... У меня не было иного способа объясниться, кроме как прибегая к сравнениям; но нет, мне кажется, таких сравнений, которые помогли бы описать такого рода видение, ибо это одно из видений высочайшего порядка. Это мне сказал впоследствии святой человек великой духовности по имени брат Петр из Алькантары... да и другие мужи высокой учености говорили мне то же самое. Из всего разнообразия видений в это дьяволу труднее всего вмешаться... Ибо если я говорю, что не вижу Его очами плоти и очами души, поскольку это не обычное видение, как же тогда я могу знать и утверждать, что Он рядом со мной, с большей уверенностью, чем если бы я Его видела воочию? Если сказать, что это подобно человеку, не видящему в темноте того, кто находится рядом, либо подобно положению слепца, то это неверно. Некоторое сходство в этом есть, но оно незначительно, так как и в полной темноте человек может положиться на прочие органы чувств, слышать голос или движения своего соседа, либо прикоснуться к нему. Здесь же этого нет, как нет и никакого ощущения темноты. Напротив, Он является душе через знание, которое ярче солнца. Я не утверждаю, что взору открывается солнце или иной источник света, но говорю, что есть незримый свет, который просветляет разумение и позволяет душе наслаждаться этим великим блаженством, приносящим с собой иные, поистине величайшие блаженства...
Затем мой духовник спросил: "Кто сказал, что это Иисус Христос?" Я отвечала: "Он Сам часто мне это говорит, но еще прежде чем Он впервые это сказал, в моем разумении было запечатлено, что это Он, но даже до этого Он часто говорил мне, что Он здесь, когда я Его не видела..." Господу было угодно так глубоко запечатлеть это в разумении, что сомневаться в этом можно не более, чем в том, что видишь собственными глазами" (83: pp. 187-189).
А вот пример "образного видения":
"Однажды, когда я молилась, Ему было угодно явить мне одни лишь Свои ладони; их красота превосходит все описания. Это повергло меня в великий страх... Несколько дней спустя я увидела Божественный лик, который тоже, казалось, привел меня в совершенный восторг. Я не могла понять, почему Господь являет мне Себя так постепенно, коль скоро впоследствии Он даровал мне милость видеть Его всего... Однажды, когда я была на мессе в день Св. Павла, предо мною возник Его пресвятой Человеческий образ во всей красе и величии Его воскресшего тела, каким оно изображается на всех иконах... Хотя это было образное видение, я никогда не видела ничего подобного очами плоти, но одними лишь очами души. Люди более сведущие, чем я, говорят, что мое предыдущее видение было более совершенным, нежели нынешнее, хотя и это в свою очередь намного ближе к совершенству, чем все то, что можно увидеть очами плоти... даже затратив на это многие годы, я не смогла бы вообразить ничего столь же прекрасного. Я бы не знала, с чего начать. Ибо одной своей белизной и сиянием оно превосходит все, что можно себе представить. Это не слепящее сияние, а мягкая белизна и нежное свечение, радующее взор и никогда его не утомляющее; не утомляется взор и от созерцания Божественной красоты во всем ее блеске... при этом не имеет значения, открыты глаза или закрыты; если Господь пожелает, чтобы мы это увидели, мы увидим даже вопреки нашей воле..." (83: 196-198).
Этих примеров достаточно, чтобы дать ясное представление о природе транс-субъективного опыта, или «интеллектуального видения» – как называет его Св. Тереза, – и экстра-субъективного опыта, или «образного видения». Первое есть проекция в душу духовного опыта, имеющего место над нею; сама душа при этом не воспринимает ничего – она может лишь реагировать на то, что испытывает дух, и это приводит ее к участию в результатах данного опыта. Он транс-субъективен, так как само откровение происходит не внутри и не вне души, но над нею, т. е. в духе. Вследствие этого душа обретает такую уверенность, словно сама видела и слышала, ничего не видя и не слыша в действительности. Это дух вселяет в нее уверенность в реальности того или иного опыта. Это дух «видит», «слышит» и «осязает» на свой лад и насыщает душу плодами своего опыта – и эта уверенность равна либо даже выше той, которую могла бы обрести душа с помощью собственного зрения, слуха и осязания.
Что до экстра-субъективного опыта, или "образного видения", то здесь "видит", "слышит" и "осязает" сама душа. Она "видит" нечто вне себя, но "очами души", т. е. это не галлюцинации физических органов чувств, а воображение, движимое извне вместо того, чтобы быть движимым собственным произволом. Заметим, что образы, порожденные вне души, не могут ни восприниматься, ни именоваться иначе как ощущения. А поскольку это не физические ощущения, то они испытываются и описываются как "«ощущения души». Вот почему Св. Тереза говорит о видении «очами души».
"Очи души", о которых говорит Св. Тереза, – это то, что мы в современном герметизме называем "цветками лотоса", или просто "лотосами", известными в индийской Йоге как "тонкие центры", или "чакры".
Высшие лотосы – восьми-, двух– и шестнадцатилепестковый – суть органы, используемые духом (то есть либо одним человеческим духом, либо духом человека в единении со Святым Духом, либо, наконец, человеческим духом, объединенным с духом другого человека или духом иерархическим посредством Святого Духа и в Святом Духе) при откровениях свыше, т. е. при "интеллектуальном видении" в опыте Св. Терезы.
Низшие лотосы – десятилепестковый, шестилепестковый и четырехлепестковый – суть органы горизонтального восприятия, т. е. "образного видения" в опыте Св. Терезы.
Что до сердца, или двенадцатилепесткового лотоса, то оно участвует в обоих типах видения или, если угодно, наделено третьим типом ясновидения, представляющим собою синтез двух первых. Ибо «сердце» – это центр (или «лотос») любви. Здесь, по правде говоря, нет больше различий между «свыше» и «вне» и даже между «высшим» и «низшим», так как любовь устраняет все расстояния и пространственные различия (даже различия в духовном пространстве) и способна наделять присутствием все сущее. Вот так и Бог живет в горящем любовью сердце.
Сердце воспринимает присутствие различных вещей как впечатления и оттенки духовного тепла. Именно таким образом сердца двух учеников, идущих в Эммаус, узнали Того, Кто, приблизившись, шел с ними еще до того, как узнали их глаза и разумение. Когда же глаза их раскрылись, и они узнали Его, они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лк. 24: 32). Сердце, горящее по-разному, – вот что такое «видение» и духовное знание, присущее сердцу.
Дорогой неизвестный друг, прислушивайтесь к своему сердцу и к оттенкам того сокровенного тепла, которое поднимается из его глубин! Как знать, кто может идти рядом с вами по пути, оставаясь сокрытым для ваших глаз и разумения?
Итак, три высших лотоса суть прежде всего центры внушенной уверенности, или «незримого света», и представляют собой основные инструменты (инструменты, а не источники) «интеллектуального видения», или транс-субъективного откровения.
Три низших лотоса суть центры уверенности непосредственного опыта; они делают нас «очевидцами» вещей незримых. Они проявляют их нам в «зримом свете» как формы, движения, цвета, звуки и дыхание – проявляют конкретными и объективными, хотя и не вещественными с точки зрения физического мира.
Средоточие же всех центров, сердце или двенадцатилепестковый лотос, дает нам уверенность подлинной веры – то, что зародилось в «огне Эммауса», – через которую проявляется непосредственное присутствие сущностей, желающих идти по пути вместе с нами. Этот огонь одновременно содержит в себе и «незримый свет» «интеллектуального видения», и «зримый свет» «образного», которые слиты воедино и названы нами здесь «огнем Эммауса».
Помимо этих двух – или трех – типов сверхчувственного опыта существует еще один, который нередко принимается за духовный, но в действительности не является таковым. Я имею в виду тот тип ясновидения, который обязан своим существованием либо чрезмерной утонченности физических чувств, либо их подверженности галлюцинациям. Св. Тереза Авильская также упоминает о нем в своем жизнеописании, выдержки из которого приводились нами выше. Она, в частности, отмечает, что "люди более сведущие, чем я, говорят, что мое предыдущее видение ("интеллектуальное") было более совершенным, нежели нынешнее ("образное"), хотя и это в свою очередь намного ближе к совершенству, чем все то, что можно увидеть очами плоти..." (83: р. 197).
По-видимому, еще с шестнадцатого века среди "людей сведущих" общепризнано, что помимо "интеллектуального" и "образного" видения существуют образы, "видимые очами плоти", т. е. видения, вызванные либо обостренным чувственным восприятием, либо галлюцинациями. Стало быть, и тогда, так же как сегодня, был известен факт, что есть люди, способные прочесть запечатанное письмо, угадать игральную карту, обращенную к ним рубашкой, видеть разноцветные нимбы вокруг людей, животных и растений ("ауры") и т. д. С другой стороны, тогда, как и сейчас, было известно и о том, что органы чувств могут работать в двух направлениях: получать впечатления извне и проецировать образы души во внешнем мире. В последнем случае речь идет о галлюцинациях.
Отметим, что бывают галлюцинации-иллюзии и галлюцинации-откровения. Все зависит от того, что именно душа облекает в конкретную форму с помощью физических органов чувств. Поэтому вполне может быть – и так оно время от времени и происходит – что душа преобразует подлинные и достоверные ощущения в галлюцинации, т. е. проецирует их из психической – и даже духовной – сферы в физическую. Тогда в физической сфере это будет иллюзия, которая в то же время является откровением в сфере высшего порядка, где находится "оригинал" данной галлюцинации.
"Галлюцинация" и "иллюзия" – отнюдь не синонимы. Когда Мартин Лютер, как утверждает предание, швырнул чернильницу в фигуру явившегося ему демона (или самого дьявола, согласно тому же преданию), он, безусловно действовал под впечатлением иллюзии в данной сфере – поскольку чернильница не относится к той же сфере, что и демон. Но можно ли отсюда сделать вывод, что демона там ни в коей мере не было?... что его образ был всего лишь бессмысленной и беспричинной шалостью воображения?
Нет, ибо точно так же, как есть истерия, основанная на иллюзии, и истерия, основанная на истине, – как, например, в случае появления стигмат и ран от тернового венца у тех, кто прошел через духовный опыт Страстей Господних, – так и галлюцинации бывают иллюзорными, т. е. вызванными страхом или непомерными желаниями, и Богооткровенными, т. е. "галлюцинациями истины".
Вернемся теперь к вопросу о соотношении между подлинной верой и опытом ясновидения, между состоянием "Повешенного" и состоянием "ясновидца". Из вышесказанного следует, что подлинная вера -это прежде всего огонь, пылающий в сердце, которое тем самым свидетельствует о духовной реальности. Сопровождающий это горение свет порожден откровением свыше, нисходящим через три высших лотоса, что и является, по словам Св. Терезы, благодатью и милостью «интеллектуального видения».
Что касается "образных видений" – а тем более видений, вызванных либо чрезмерно обостренной чувствительностью, либо обратным функционированием чувств (не в обычном направлении "внешний мир -мозг", а в противоположном: "мозг – внешний мир"), что имеет место при галлюцинациях, – то они ни в коей мере не являются источником подлинной веры и обладают не большей значимостью, чем та, которую могут придать им подлинная вера, нравственное сознание и рассуждение (если таковое имеет место). В любом случае им предшествует подлинная вера, если они означают Богооткровенный вклад в духовную жизнь души; им предшествует нравственное сознание, если они способствуют обогащению нравственной жизни души; и им предшествует рассуждение, если благодаря им душа обогащается знаниями или приобретает новую ценную для себя информацию.
Ведь то, что человек видит или слышит, должно быть понято. А понять он может только при наличии Богооткровенного "незримого света" и "Эммаусского огня". Человек также не может ни понять, ни оценить значимость воспринятого без участия рассудка, если речь идет о получении новой информации, расширяющей его познания. Рассудок призван сопоставлять разрозненные данные, полученные в результате ясновидения, классифицировать их и выявлять взаимоотношения между ними, с тем чтобы в итоге сделать из них выводы. Любой эмпирический опыт, будь это ясновидение или что-либо иное, неизбежно является гипотетическим. Абсолютную уверенность дает только подлинная вера.