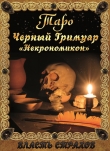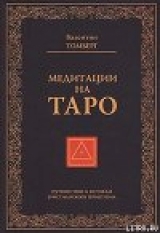
Текст книги "Медитации на Таро. Путешествие к истокам христианского герметизма"
Автор книги: Валентин Томберг
Жанр:
Эзотерика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 58 страниц)
Но этот символ скрывает – вернее, являет – еще более высокое значение, – лучезарную Святую Троицу, т. е. понимание Святой Троицы.

Таким образом, гексаграмма состоит из двух треугольников: Отец-Сын-Святой Дух и Мать-Дочь-Святая Душа (см. рисунок). Оба эти треугольника лучезарной Святой Троицы проявляются в искупительных трудах Иисуса Христа и постигаются Марией-Софией. Иисус Христос есть действующее лицо, а Мария-София – лучезарная реакция. Два треугольника открывают нам лучезарную Святую Троицу в трудах творения, совершаемых созидающим Словом и оживляемых «согласием» Мудрости-Софии. Следовательно, лучезарная Святая Троица предегавляет собой союз триединого Творца и триединой «natura naturans», т. е. единство троекратного «Fiat» («Да будет») и троекратного согласия «mihi fiat secundum verbum tuum», которое проявляется в «natura nalurata», т. е. в мире до Грехопадения; иначе говоря, это триединый Божественный дух и триединая душа мира, проявляющиеся в плоти мира – в «natura naturata».
Книга Зогар также выдвигает идею лучезарной Святой Троицы. Она учит, что великое Имя Бога являет Отца (), великую Мать (), Сына () и Дочь (второе ). Таково вечное Имя ЙОД-ХЕ-ВАУ-ХЕ. Но в истории сотворенного мира проявляются также Шехина, отождествляемая с «народом Израиля» и олицетворяемая Рахилью, которая «плачет о детях своих» (Мф. 2: 18) в изгнании и является «прекрасной девой без глаз» (139: vol. III, p. 285); Царь-Мессия, который «нисходит на землю и вновь возносится на небеса с тем, чтобы вместе со всеми пророками, какие есть на свете, осуществить вселенскую миссию спасения» (121: р. 96); и Ruah ha'kodesh («святое дыхание», или Святой Дух), о котором говорит Саадия. Посредством «святого дыхания» воздух, которым дышит человек, преисполняется тридцатью двумя путями премудрости; посредством «святого дыхания» Бог являет Себя пророкам как изначальная суть тайны творения, называемая «дыханием Бога живого» ( ) (cf. 127: р. 136).Мессия – это седьмой элемент или принцип гексаграммы: Отец-Сын-Святой Дух и Мать-Дочь-Святая Душа (= Шехина, или «народ Израиля»). Он является всеобщим действующим лицом всей гексаграммы, активным началом биполярной Троицы, или, как мы ее назвали, лучезарной Святой Троицы.
Что касается конкретного проявления Шехины, то «она подобна женщине, которая является в видениях каббалистам, таким как Абрахам Галеви, который был учеником Лурни и видел ее в 1571 году у Стены плача в Иерусалиме в облике женщины, одетой в черное и оплакивающей мужа, утраченного в юности» (124: р. 230). Плачущая Богоматерь Ла-Салеттская{125} также стояла у стены не менее реальной, чем Стена плача в Иерусалиме, – у стены вселенского греха, отделяющей человечество от Господней благодати – но от Шехины из видений каббалистов и хасидов она отличается тем, что не является олицетворением принципа, т. е. она не столько некая ипостась Бога, сколько человек из плоти и крови, живший среди народа Израиля двадцать веков назад. Подобным же образом и Мессия, которого многие видели и встречали за минувшие двадцать веков, – это уже не только дух, который «нисходит на землю и вновь возносится на небеса с тем, чтобы вместе со всеми пророками, какие есть на свете, осуществить вселенскую миссию спасения», но и человек из плоти и крови, живший среди народа Израиля двадцать веков назад. Ибо как Слово стало плотью в Иисусе Христе, так и Bath-Kol, «Дочь Голоса», стала плотью в Марии-Софии. Церковь почитает ее как Деву, как Богоматерь и как Царицу небесную, что соотносится с Матерью, Дочерью и «Девой Израиля» в Каббале и с упомянутой выше Софийной Троицей – Матерью, Дочерью и Святой Душой.
Афиняне также поклонялись аналогичной женской триаде, игравшей ведущую роль в Элевсинских мистериях. Деметра – Мать, Персефона – Дочь и Афина – "спасительница" (cf. 93: р. 111), причем Афина в то же время олицетворяет и "афинский народ" или "душу Афин", что перекликается с "Девой Израиля".
Одних лишь исторических аналогий и философских параллелей все же недостаточно для обретения полной интуитивной уверенности: последнее, решающее слово остается за сердцем. И вот, двадцать пять лет назад для автора этих строк оказался решающим нижеследующий "довод сердца".
Нет ничего более необходимого и более ценного в детских переживаниях человека, чем родительская любовь; ничего более необходимого, ибо сам по себе ребенок нежизнеспособен, если с первых мгновений появления на свет он не будет окружен родительской любовью и заботой, а при отсутствии таковой – милосердием чужих людей; ничего более ценного, ибо родительская любовь, испытанная ребенком в детстве, составляет его моральный капитал на всю жизнь. В детстве мы получаем два дара, два сокровища, из которых затем черпаем силы всю жизнь: это наше биологическое достояние, т. е. физическое здоровье и жизненная энергия, и наше моральное достояние, т. е. здоровье и жизненная энергия души – ее способность любить, надеяться и верить. Моральное достояние есть опыт родительской любви, испытанный нами в детстве. Он столь драгоценен, что дает нам возможность подняться до понимания вещей возвышенных – и даже Божественных. Благодаря опыту родительской любви наша душа способна возвыситься до любви к Богу. Без этого душа поистине не может вступить в живое взаимодействие с живым Богом, не может любить Бога, поскольку в этом случае она не может подняться выше абстрактного представления о Боге как "Архитекторе" и "Первопричине" мира. Ибо опыт родительской любви – превыше всего – наделяет ее способностью любить «Архитектора» и «Первопричину» мира, как Отца нашего небесного. Родительская любовь несет в себе истинные чувства души по отношению к Богу, которые по аналогии можно назвать глазами и ушами души.
Итак, родительская любовь состоит из двух элементов: материнского и отцовского. Оба они равно необходимы и равно драгоценны. Оба они наделяют нас способностью возвыситься до Господа. Оба являются для нас средством вступить в живую взаимосвязь с Богом, т. е. полюбить Бога, который есть прототип всякого отцовства и материнства.
Любовь по-своему учит – с убедительностью, исключающей всякие сомнения, – что Божия заповедь "Почитай отца твоего и мать твою" поистине Божественна, т. е. имеет силу не только на земле, но и на небе. Заповедь «Почитай отца твоего и мать твою» применима, стало быть, не только к преходящему, но и к вечному. Такова эта заповедь, явленная Моисею на горе Синай; и такова же заповедь, исходящая из глубин человеческого сердца. Человеку должно почитать Отца нашего небесного и небесную Мать. Вот почему верующие традиционной, т. е. римско-католической и православной Церкви, не особо заботясь расхождениями в теологических догматах относительно небесного Отца и Матери, любят и почитают в своих молитвах небесную Мать не менее, чем Отца, сущего на небесах.
Догматические теологи вполне могут предостерегать верующих против "перегибов" в поклонении Богоматери, а протестантские критики могут на все голоса критиковать культ Девы Марии, как "идолопоклонство", но подлинные верующие традиционной Церкви всегда будут почитать и любить свою небесную Мать как вечную Матерь всего, что живет и дышит. Если говорят, что "у сердца свои доводы, неведомые рассудку"{126}, то с тем же успехом можно сказать, что « у сердца свои догматы веры, неведомые теологическому мышлению». Поистине этот «догмат» сердца, пусть еще не сформулированный, – оставаясь, главным образом, в пределах бессознательного – оказывает все больше влияние на апологетов ортодоксального догматизма, так что из века в век они вынуждены понемногу отступать под этим могучим натиском: как в литургических формах, так и в канонических молитвах роль Девы Марии постепенно возрастает. Царица ангелов, Царица патриархов, Царица апостолов, Царица мучеников, исповедников, непорочных дев и святых, Царица мира именуется в текстах литургических молений также Богоматерью, Матерью Божией благодати, Матерью Церкви. В храмах Греческой Православной Церкви звучит песнопение: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, сущую Богородицу Тя величаем». Между тем Херувимы и Серафимы составляют верховный чин небесной иерархии, выше которого только Святая Троица. Этот «догмат» сердца столь силен, что наступит время, когда он будет официально признан Церковью и должным образом сформулирован. Ибо все церковные догматы некогда прошли до официального провозглашения тот же путь. Вначале они живут в сердцах верующих, затем все больше начинают воздействовать на литургическую жизнь Церкви, пока в конце концов не провозглашаются ею в качестве догматов веры. Догматическая теология есть лишь последний этап «пути догмата», который начинается в недрах человеческих душ и завершается официальной церемонией провозглашения. Этот путь в точности представляет собой то, что понимают как «руководство Святого Духа над Церковью». Церковь это знает и терпеливо ждет – целыми веками – того времени, когда созреют плоды трудов Святого Духа.
Так или иначе, сколь бы ни был долог таинственный процесс зарождения догмата, возвышающего материнскую любовь до уровня Святой Троицы, сам этот догмат уже вполне сформулирован и из века в век вершит свой труд. Во всяком случае, уважая законы терпимости и воздерживаясь от попыток ускорить ход событий, следует всячески поддерживать чувства и идеи, связанные с Божественной материнской любовью, и поощрять глубокие размышления над древними герметическими учениями, раскрывающими мистическое, гностическое и магическое значение этого аспекта Божественной любви. Иначе говоря, речь идет о медитации на таинстве лучезарной Святой Троицы, символом которой является "печать Соломона": , либо одновременно на символах Троицы и лучезарной Святой Троицы:

Этот символ перехода Святой Троицы к лучезарной Троице, т. е. от треугольника к гексаграмме, является в то же время Божественным – или высочайшим из мне известных – значением числа девять. После медитации на Девятом Аркане Таро нам понадобилось еще десять духовных упражнений, чтобы дерзнуть коснуться темы перехода от Святой Троицы к лучезарной Святой Троице, который символически представлен треугольником и гексаграммой.
Выше мы указывали, что провозглашению великих истин догматами веры предшествует их активная жизнь в молитвах верующих и в литургической жизни Церкви. Так вот, таинство числа девять, символизирующего переход от Троицы к лучезарной Троице, также живет в молитвах и обрядах Церкви.
Я имею в виду широко распространенную в Католической Церкви практику "новены" ("девятерицы") – наиболее популярная версия которой состоит в чтении одной молитвы Pater noster и трех Ave Maria в течение девяти дней. Совершая новену, молящийся девять дней кряду одновременно взывает к любви Отца (Pater noster) и любви Матери (три Ave Maria) ради блага какого-то человека или успеха начинания. Но сколько глубины в этом незатейливом обряде! Поистине – по крайней мере для герметиста – в нем со всей очевидностью проявляется сверхчеловеческая мудрость Святого Духа!
Нечто аналогичное происходит и при молитве с четками, в ходе которой обращение к обоим аспектам Божественной родительской любви – в молитве Богу-Отцу и Богоматери – совершается в процессе медитации на тайнах Радости, Страдания и Славы Пресвятой Девы. Молитва с четками – во всяком случае для герметиста – также является шедевром простоты, содержащим и раскрывающим неисчерпаемые глубины... шедевром Святого Духа!
Дорогой неизвестный друг, рассматриваемый нами Аркан "Солнце" есть Аркан детей, купающихся в солнечном свете. В нем речь не столько об открытии оккультных тайн, сколько о видении обычных и простых вещей в свете солнечного дня – как видит их ребенок.
Девятнадцатый Аркан Таро, Аркан интуиции, дает представление о Богооткровенной простоте познания, наделяющего дух глубокой проникновенностью взгляда, не потревоженного ни сомнениями, ни порождаемой ими нерешительностью, т. е. это видение вещей такими как они есть в вечно новом свете солнца. Этот Аркан учит получать простые и чистые впечатления, которые – без каких-либо интеллектуальных гипотез и надстроек -являют вещи в их первозданном виде. Обнаружение и утверждение ноуменальности впечатлений – такова цель Аркана «Солнце», Аркана интуиции.
Теперь вы понимаете, дорогой неизвестный друг, что в данном случае, когда мы говорим о церковной практике (о родительской любви в обоих ее аспектах, о совершении новены, о молитве с четками и т. д.), мы ни на йоту не отклоняемся от темы Девятнадцатого Аркана Таро; напротив, мы проникаем в его глубинную суть. Ибо мы стремимся продвинуться от понимания, что есть интуиция, к ее осуществлению, т. е. от медитации на Аркане интуиции к его применению на практике.
Письмо XX. Суд
«Состояние мозга продолжает процесс воспоминания: наделяя его материальностью, оно дает ему зацепку в настоящем; но память как таковая есть явление духовное. С памятью мы поистине пребываем в сфере духа».
Анри Бергсон, «Материя и память»{127}
«Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну...».
Ин. 5:21-22

Дорогой неизвестный друг,
Перед нами карта, традиционно именуемая "Суд", на которой изображено воскресение мертвых при звуке трубы Ангела воскресения. Речь здесь, стало быть, идет о духовном упражнении, в котором применение интуиции, составлявшей предмет Девятнадцатого Аркана – "Солнце", – должно быть доведено до максимума, поскольку тема воскресения, относясь к порядку "конечных вещей", все же доступна интуитивному постижению.
Итак, "конечные вещи" -или духовный горизонт человечества – не одинаковы для всех людей. Для одних все заканчивается со смертью индивидуума и с полным рассеиванием -максимальной энтропией -тепла вселенной. Для других существует нечто "по ту сторону" – существование индивида после смерти и существование нематериальной вселенной после конца света. Для иных существует не только духовная жизнь индивида после смерти, но и его возвращение к земной жизни – реинкарнация, – как существует и космическая реинкарнация, т. е. чередование манвантары и пралайи. Иные, опять-таки, усматривают в индивиде нечто большее, нежели просто повторяющиеся воплощения, а именно высший покой единения с вечной и бесконечной Сущностью (состояние нирваны). И, наконец, существует часть человечества, экзистенциальный горизонт которого уходит за пределы не только посмертного существования и реинкарнации, но даже покоя единения с Богом – их духовный горизонт образует воскресение.
Истоки этой идеи и идеала воскресения следует искать в иранских и иудео-христианских духовных течениях, т. е. в зороастризме, иудаизме и христианстве. Возникновение идеи и идеала воскресения было подобно молнии, которая "исходит от востока и видна бывает даже до запада" (Мф. 24: 27). Вдохновенный пророк Востока, великий иранский Зороастр и вдохновенные пророки Запада – Исайя, Иезекииль и Даниил в Израиле – провозгласили ее почти одновременно:
"Тогда он [Саошьянт] восстановит этот мир, который [с той поры] никогда не состарится и не умрет, никогда не распадется и не погибнет, будет вечно жить и разрастаться, и будет господином своих желаний, когда восстанут мертвые, когда придет жизнь и бессмертие, и мир возродится по воле [Бога]" (89: р. 113).
Здесь нашла выражение зороастрисгская идея ристахеза, т. е. воскресения из мертвых. Пророк Исайя сказал об этом так:
"Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспрянете и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя – роса растений, ибо земля извергнет мертвецов" (Ис. 26: 19).
Так в чем же смысл и цель воскресения, его идея и идеал? Их поможет нам понять следующая притча:
У постели больного собрались несколько человек и стали высказывать свои мнения о его состоянии и перспективах на будущее. Первый из них сказал: "Он совсем не болен. Просто так проявляется его природа. Его состояние вполне естественно". Второй сказал: "Он болен на время. На смену его болезни естественным образом придет процесс выздоровления. Циклы болезни и здоровья сменяют друг друга. Таков закон судьбы". Третий сказал: "Эта болезнь неизлечима. Он напрасно страдает. Было бы лучше положить конец его мучениям и из сострадания даровать ему смерть". И, наконец, заговорил последний: "Его болезнь фатальна. Без помощи извне он не поправится. Следует сделать ему переливание крови, поскольку его кровь заражена. Я пущу ему кровь и отдам свою кровь для переливания". История заканчивается тем, что после соответствующего лечения больной был исцелен и выздоровел.
Существуют четыре основных мировоззренческих позиции. Позиция язычника состоит в том, чтобы принимать мир таким, каков он есть. "Язычник", т. е. гот, кто верит, что мир совершенен, и для кого мир есть бог "Космос", отрицает тот факт, что мир болен. Никакого Грехопадения Природы не было. Природа есть олицетворение здоровья и совершенства.
Позиция "духовного натурализма", т. е. точка зрения разума, горизонт которого расширен за пределы нынешнего состояния мира до признания полуциклической эволюции – "времен", составляющих великий космической год, "годичный круг" мира, – заключается в вере, что вырождение и возрождение мира циклически сменяют друг друга, что периоды "упадка" и "возрождение" мира чередуются подобно временам года. Для "духовного натурализма" нынешний мир определенно "болен", т. е. вырождается, но впереди у него период восстановления, непременного и естественного возрождения, в соответствии с законом цикличности. Нужно только подождать.
Позиция "духовного гуманизма" объединяет тех, кто возвышается над элементарной цикличностью "духовного натурализма" и от лица индивидуальной сущности выступает против нескончаемой смены циклов (будь то смена "времен" мира или реинкарнация отдельных индивидов), видя для человека во всем этом бесконечное порабощение и страдание. Это позиция отрицания (как в целом, так и частностях) прошлой, настоящей и будущей Природы – духовной или материальной, циклической или неповторимой. Жизнь есть страдание; и потому любая ее апология жестока и антигуманна. Продиктованное состраданием человеческое спасение заключается в том, чтобы навеки пресечь всякую связь человеческого духа с миром и его цикличностью.
Наивное космопоклонство язычества – это позиция первого собеседника в нашей притче, сказавшего: "Он не болен". "Духовный натурализм" просвещенного язычества -это позиция второго собеседника, утверждавшего что болезнь -это всего лишь эпизод в общем круговороте. Отрицание мира, присущее "духовному гуманизму", выразил третий, сказавший: "Болезнь неизлечима, а посему страдальцу лучше помочь умереть".
Три эти мировоззренческие позиции, нашедшие историческое выражение в языческом эллинизме, индуистском брахманизме и буддизме, отличаются от четвертого подхода, т. е. активного вмешательства с целью очищения и возрождения этого мира, тем, что им недостает терапевтического импульса и веры в лечение. В то же время позиция, нашедшая историческое выражение в пророческих религиях (иранской, иудейской и мусульманской) и в религии спасения (христианстве), где обновление мира есть одновременно и движущая сила, и конечная цель, целительны по самой своей сути. Так вот, четвертый собеседник в нашей притче – тот, кто действует, исцеляя недуг путем переливания крови, – олицетворяет христианскую позицию, включающую и приводящую к реализации позиции пророческих религий. Христианский идеал есть обновление мира – «новое небо и новая земля» (Откр. 21: 1), т. е. вселенское воскресение.
Идея воскресения простирается гораздо дальше отрицания Природы, присущего "духовному гуманизму" буддизма; она означает ее полное преображение, вселенский алхимический труд над преобразованием Природы, как духовной, так и материальной, – как "небес", так и "земли". Нет идеала более возвышенного и идеи более смелой, более противоречащей всякому эмпирическому опыту, нет более мощного потрясения для здравого смысла, чем идея воскресения. Действительно, идея воскресения предполагает силу души, наделяющую ее способностью не только вырваться из-под гипнотизирующего влияния совокупности эмпирических фактов, т. е. вырваться из пут мира; не только решиться на участие в эволюции мира – уже в качестве не объекта, но субъекта – т. е. вместо духа "движимого" стать духом "побуждающим"; не только активно участвовать в процессе мировой эволюции; но и возвыситься до осознанного участия в деяниях священной магии, магического действа в космическом масштабе, целью которого является воскресение.
Идея, идеал и труды воскресения – все это включает в себя понятие "пятого аскетизма". Ибо существует "естественный аскетизм" – сдерживание и обуздание желаний – ради сохранения здоровья; есть «аскетизм отрешенности» – аскетизм духа, осознавшего себя и свое бессмертие перед лицом вещей преходящих и незначительных – ради обретения свободы; есть «аскетизм привязанности», т. е. любви к Богу, где возлюбивший Его избавляется от всего, что может встать между ним и Возлюбленным – ради единения; есть еще «аскетизм деятельности», аскетизм активного участия в эволюции, т. е. человеческих трудов и подвигов, направленных на совершенствование; и есть, наконец, «аскетизм священной магии», аскетизм великих трудов воскресения. Этот «пятый аскетизм» включает и венчает собой все остальные виды, поскольку труды священной магии предполагают единство с волей Божией, осуществление и выход за пределы эволюции, полную свободу духа, и исцеляющее воздействие на человека и Природу.
Таким образом, идея, идеал и труды воскресения обращены ко всему, что есть в человеческой душе творческого, благородного и отважного. Ибо душе предлагается стать активным и сознательным орудием свершения – ни много ни мало – чуда в космическом масштабе. Сколько же веры, надежды и любви заложено в идее, идеале и трудах воскресения! Как не вспомнить в свете идеи и идеала воскресения слов святого Павла:
"Где мудрец, где книжник? где совопросник века сего?... Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих" (1 Кор. 1: 20-21).
"Юродство проповеди"... неужели и ныне, девятнадцать веков спустя, идея, идеал и труды воскресения все так же подпадают под категорию "юродства проповеди"... после девятнадцати веков усилий и развития религиозной, философской, научной и, не в последнюю очередь, герметической мысли человечества?... после Свв. Августина, Альберта Великого, Фомы Аквинского, Бонавентуры, великих мистиков, алхимиков, плеяды философов-идеалистов?... после научного "эволюционизма", глубинной физики и глубинной психологии?... после Анри Бергсона, Тейяра де Шардена и Карла Густава Юнга? Иными словами, неужели после колоссальных трудов в течение девятнадцати столетий человеческая мысль не обогатилась и не развилась настолько, чтобы – при наличии доброй воли – увидеть в идее, идеале и трудах воскресения нечто большее, нежели «юродство проповеди»?
Искренняя и глубокая медитация на идее, идеале и трудах воскресения, т. е. на Двадцатом Аркане Таро, есть единственный способ прийти к положительному либо отрицательному ответу на этот вопрос. А посему углубимся в его анализ.
Прежде всего разберемся в контексте карты этого Аркана. Как Марсельское Таро (1761), Таро Фотриза{128} (1753-1793), так и Таро де Жебелена изображают мужчину и женщину, созерцающих восстание из могилы третьего персонажа, ребенка или подростка. На карте представлен своеобразный «параллелограмм сил воскрешения» – вверху Ангел с трубой, родительская любовь отца (справа) и матери (слева), а внизу восстающий из открытой могилы ребенок. Мужчина и женщина находятся около могилы; воскрешается только их дитя. Таким образом, перед нами параллелограмм (см. рисунок).

Эта геометрическая фигура, образуемая персонажами карты Двадцатого Аркана, отражает расстановку сил, осуществляющих воскрешение: звук Ангельской трубы, родительская любовь отца и матери и усилие восстающего из могилы воскресшего ребенка. Такую же расстановку действующих сил мы находим при воскрешении Лазаря из Вифании, где Иисус исполнил сразу все три роли: Ангела, отца и матери.
"Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как Он любил его!... Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнимите камень... Итак, отняли камень от пещеры... Он воззвал громким голосом: "Лазарь! иди вон". И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его было обвязано платком. Иисус говорит им: "развяжите его, пусть идет" (Ин. 11: 35-44).
Прослезившись, Иисус тем самым проявляет нежную любовь матери; восскорбев внутренне и подойдя ко гробу со словами: "отнимите камень", Иисус проявляет активную любовь отца; а громкое воззвание Иисуса: "Лазарь, иди вон!" звучит словно труба в руках Ангела воскресения. Громкий голос, воззвавший: "Лазарь, иди вон!" – это звук трубы воскресения, преобразующий любовь матери и отца в магический призыв.
Магия воскресения, которая заключена в Двадцатом Аркане Таро, есть, следовательно, магия слившихся воедино голосов любви матери и отца. Подобно тому, как земные отец и мать дают жизнь ребенку в его воплощении, когда Ангел жизни трубным гласом призывает его душу к инкарнации – а "труба" эта суть его распахнутые и обращенные вверх крылья -так и небесные Отец и Мать возвращают при воскресении дитя к жизни, но "труба" распахнутых крыльев Ангела направлена при этом вниз.
Таков общий смысл этого Аркана. Остается прояснить "детали", т. е. прийти к его конкретному пониманию. Нам еще предстоит вникнуть во всю безбрежность "как ?" воскресения.
Мы уже говорили в тринадцатом письме, что в земной жизни человека забвение, сон и смерть противоположны вспоминанию, бодрствованию и рождению. Забвение, сон и смерть суть члены одного семейства. Говорят, что сон – это младший брат смерти; столь же правомерно утверждение, что забвение есть младший брат сна. Забвение, сон и смерть представляют собой три этапа одного процесса уничтожения живого и мыслящего существа. Немаловажно и то, что приведенный нами рассказ о воскрешении Лазаря также наводит на размышления о цепочке "забвение-сон-смерть". В Писании говорится:
"Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же он услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. ... говорит им потом: "Лазарь друг наш уснул, но Я иду разбудить его"... Тогда Иисус сказал им прямо: "Лазарь умер"; .Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним" (Ин. 11:5-16).
Фома понял так, что Учитель позволил забвению (оставаясь в том месте, где услышал весть о болезни Лазаря), сну (сказав: «Лазарь уснул») и смерти довершить свое дело. Если такова была воля Учителя, любившего Лазаря, то не лучше ли будет, заключил Фома, ученикам пойти и умереть вместе с Лазарем? Право, Фома не ошибался относительно того, что Учитель дал в этом случае полную силу забвению, сну и смерти. Отсюда и вывод: «Пойдем и мы умрем с Лазарем».
Рассмотрим теперь подробнее две аналогичные и в то же время противоположные смысловые связи: с одной стороны забвение, сон и смерть, а с другой – вспоминание, бодрствование и рождение. Тем самым мы получим в свое распоряжение концептуальное средство, которое поможет нам в постижении таинства воскресения.
Мы знаем, что сознание нашего "это", сознание, пребывающее снами в течение шестнадцати часов дневного бодрствования, есть лишь малая частица всей совокупности нашего сознания. Это всего лишь срез единого целого, всего лишь центральная точка действия, т. е. суждения, слова и поступка.
По сути, в каждый конкретный момент содержимое нашего бодрствующего сознания ограничено рамками того, что как-то связано с тем, о чем мы судим, говорим или что делаем, либо собираемся судить, говорить или делать. Все прочее, т. е. все, что не относится к внешнему или внутреннему действию, в нашем сознании не присутствует и находится "где-то". Ибо действие подразумевает концентрацию сознания, т. е. отбор из множества принадлежащих нашему сознанию образов и понятий того, что интересует нас в плане этого действия. Так, всё, что мы знаем об астрономии, химии, истории и юриспруденции, будет бесполезными на время уйдет во тьму забвения, когда мы затеем разговор с садовником о нашем саде. – Чтобы действовать, нужно забывать.
С другой стороны, чтобы действовать, требуется также, напротив, извлечь из той же тьмы временного забвения все сберегаемые памятью образы и понятия, которые могут оказаться полезными. – Чтобы действовать, необходимо вспоминать.
Поэтому забывать означает отдалять во мрак скрытой памяти то, что нас не интересует; вспоминать же означает вновь вызывать интересующее нас в активном сознании "эго" из того же мрака скрытой памяти. Само собой разумеется, что эти образы и понятия не рождаются в тот момент, когда мы их вспоминаем, и не пропадают, когда мы их забываем; они, скорее, либо присутствуют в нашем разуме, либо удалены из него. Умение "сосредоточиваться" сводится, таким образом, к способности быстро и полностью изгонять из сознания все образы и понятия, которые бесполезны для данного действия. Это и есть совершенное владение искусством забвения.
Напротив, обладание "хорошей памятью" означает овладение механизмом вспоминания, который делает присутствующими необходимые человеку образы и понятия. В этом состоит владение искусством вспоминания.
Стало быть, между обычным бодрствующим (или церебральным) сознанием и сферой памяти происходит непрерывный процесс появления и исчезновения. Всякое "исчезновение" соответствует засыпанию или умиранию. Всякое же "появление" соответствует пробуждению или воскресению. Всякое представление, покидающее сферу церебрального сознания, ожидает та же судьба, о которой сказано: «Лазарь друг наш уснул... Лазарь умер». А судьба всякого вспоминаемого представления подобна той, что провозглашена устами Иисуса, громко воззвавшего: «Лазарь, иди вон!»
Таким образом, память дает нам ключ к аналогии, позволяющей разуму не впадать в растерянность, столкнувшись с проблемой воскресения. Она делает воскресение доступным пониманию. Собственно, аналогия между «громким голосом», воззвавшим Лазаря к жизни, и внутренним усилием, вызывающим к жизни воспоминания, раскрывает – mutatis mutandis – сущность магии Иисусова «громкого голоса» и «трубного гласа» Ангела воскресения, в чем мы убедимся далее.