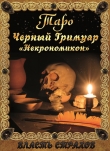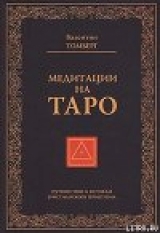
Текст книги "Медитации на Таро. Путешествие к истокам христианского герметизма"
Автор книги: Валентин Томберг
Жанр:
Эзотерика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 58 страниц)
Так придет для начала понимание полного равенства всех членов человеческого сообщества в осознании собственных ошибок и недостатков. Это осознание станет общим и для великих посвященных, и для первосвященников, и для глав народов, и для простых тружеников в различных сферах человеческой деятельности прошлого.
Это великое грядущее осознание общечеловеческого равенства – в свете полностью пробужденного сознания -предвосхищено в обряде покаяния католической мессы, во время молитвы у подножия алтаря, когда священник и паства вместе произносят такие слова: "Confiteor Deo omnipotenti etvobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa" ("Исповедуюсь перед всемогущим Гоаюдом и перед вами, братья и сестры, что согрешил я по собственной вине, помышлением, словом и делом, ведением и неведением..."); причем со словами "mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa" все трижды ударяют себя в грудь. Этот обряд, имеющий целью пробуждение совести во всех и в каждом, олицетворяет вместе с тем абсолютное равенство людей перед живущим в совести Божьим законом. Он предвосхищает всеобщее равенство в час Страшного Суда.
Таким образом, страшный суд по сути станет для человечества пробуждением совести и полным восстановлением памяти. Само человечество станет собственным судией. Только само человечество сыграет роль собственного обвинителя. Бог никого не станет обвинять. Он будет лишь миловать, оправдывать и прощать. В ответ на "обвинительный акт" (выдвинутый восстановленной памятью всего прошлого человечества) Он раскроет "книгу жизни", т. е. явит свету то, что мы называем третьей хроникой Акаши, – картину Господней памяти, содержащую все то из прошлого человечества, что достойно вечности. Она станет Господней "защитной речью" на Страшном Суде – актом отпущения грехов, помилования и прощения.
Страшный Суд станет таинством вселенского покаяния, включающим в себя всеобщую исповедь и всеобщее отпущение грехов. И только нераскаявшиеся грешники лишат себя благодати всеобщего отпущения грехов, хотя в такой ситуации трудно себе представить упорствующих в грехе. Не мог этого представить и один из отцов Церкви Ориген, веривший, что спасены будут все, в том числе иерархии зла во главе с сатаной. Прав он был или ошибался? В качестве ответа я ставлю два вопроса:
1. Есть ли на свете кто-либо, которому (или которым) достоверно известно, кто в отдаленном будущем останется нераскаявшимся грешником?
2. Есть ли на свете кто-либо, кто был (или были) бы вправе определять границы любви и милосердия Божия?... утверждать и своею властью установить, что Господня любовь распространяется лишь до некоего предела и не дальше?
Оба эти вопроса адресованы тем, кто считает себя вправе утверждать, будто вера Оригена во всеобщее спасение была ошибочной. Приводя в доказательство своей правоты цитаты из Книг Пророков, Евангелий и Апокалипсиса, где говорится об уделе преданных проклятию, они должны учитывать, что ни пророки, ни Евангелия, ни Апокалипсис не считали удел преданных проклятию неотвратимым, кем бы они ни были. Они гласят, что если грешники человеческие и иерархические не раскаются, если к концу времен их совесть не пробудится, если грешные души отвергнут все бесчисленные возможности, предложенные им для того, чтобы обратиться к добру, тогда только их ожидает изображенный в Святом Писании удел преданных вечному проклятию. Иными словами, их судьба несомненно реальна, но нет никого, кому было бы отказано в спасении. И выбор души должен определяться не страхом преисподней, но любовью к Богу и к добру.
Страшный Суд станет последним кризисом. В греческом языке слово означает "суд". Замечание Шиллера вполне справедливо: мировая история в самом деле есть мировой суд, т. е. непрерывный кризис, этапами которого являются "исторические эпохи". Таким образом, Страшный Суд станет кульминационной точкой истории и этим самым целью, смыслом и итогом истории – истории конденсированной, т. е. кризисом, присутствующим в каждом частном историческом кризисе. Вот почему на нем неизбежно присутствие Иисуса Христа, ибо Он есть моральный и духовный центр тяготения истории. Второе пришествие станет объективным проявлением всего ее смысла. Такова будет роль Иисуса Христа как «Судии» на Страшном Суде. Одно лишь Его присутствие со всей очевидностью выявит все, что несхоже с Ним, все, что несовместимо с Ним в пробужденном сознании.
Однако Он не ограничится одним лишь присутствием: Он примет активное участие в Страшном Суде-именно в качестве Судии. И судить Он станет по-своему: не будет ни обвинять, ни осуждать, ни налагать кары. Напротив, в Нем будут черпать силы души, представшие перед Судом пробужденного сознания и полностью восстановленной памяти. Суд Христа состоит в утешении и поддержке тех, кто судит самого себя, и в Его нетленной заповеди тем, кто судит других: "Кто из вас без греха, первый брось на нее камень" (Ин. 8: 7). Так судил Иисус Христос при жизни, так Он судит теперь, так будет судить и на Страшном Суде.
Наша медитация на Двадцатом Аркане Таро – Аркане воскресения и Страшного Суда – близится к завершению. Это не означает, что сказано все самое важное. Это означает, что в пределах Аркана Таро рассматривалось наиважнейшее – в пределах, которые нам пришлось установить, чтобы суметь довести эти медитации в письме двадцатом до конца. Теперь пришло время подвести итоги.
Воскресение есть магическое действо – по природе своей одновременно Божественное и человеческое, – в котором любовь Божия и любовь человеческая совместно превозмогают забвение, сон и смерть. Ибо любовь никогда не забывает, неизменно бодрствует, и сила ее выше смерти.
В момент воскресения дух и душа человека нисходят свыше и соединяются со своим бессмертным телом, которое восстает им навстречу.
Любовь Отца позволяет духу и душе снизойти с небес к вечному воплощению; любовь же Матери позволяет телам воскресения – покоящимся в лоне Матери – восстать из мертвых.
Воскресший человек станет образом и подобием Божьим; будет триедин, как триедин Господь. Три начала человека – дух, душа и тело – составят подобную Святой Троице троицу человека, три ипостаси которой образуют основополагающее и нерасторжимое единство человеческой индивидуальности.
Но воскресение – это еще и Страшный Суд. Как сказал апостол Павел:
"Каждого дело обнаружится; ибо день покажет; потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня" (1 Кор. 3: 13-15).
Письмо XXI. Шут
«Никто не обольщай самого себя : если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб стать мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом».
1 Кор. 3: 18-19
«Безумие – это состояние, не позволяющее понять то, что ИСТИННО».
Платон, «Определения»{129}
«... Сознание слишком легко поддается подсознательным влияниям, которые зачастую оказываются истиннее и мудрее, чем наше сознательное мышление... Существование личности не обязательно предполагает наличие сознания. Оно вполне может быть дремлющим или спящим».
К. Г. Юнг, «Сознание, бессознательное и индивидуация»{130}

Дорогой неизвестный друг,
Прежде всего следует объяснить, почему я – на первый взгляд, своевольно – изменил порядок карт Старших Арканов Таро, поместив Аркан "Шут" следом за Двадцатым Арканом – "Суд". У Аркана "Шут" вообще нет никакого номера, т. е. он соответствует числу ноль, и в Марсельском Таро номер XXI отведен карте Аркана "Мир" – Двадцать Второго в нашем изложении. Причина избранного нами порядка рассмотрения Арканов в том, что медитация на Аркане "Шут" не может, на наш взгляд, завершать собою ряд предыдущих медитаций на Старших Арканах, если их воспринимать как "школу" духовной подготовки, т. е. как целостную "систему" духовных упражнений; иными словами, в той системе фундаментальных воззрений и идей, которая представлена символикой Таро, медитация на Аркане "Шут" – именно как духовное упражнение – не может быть заключительной «точкой зрения».
Есть и другие причины. Одна из них указана Полем Марто в книге "Марсельское Таро", где он говорит:
"Эта карта не обозначена никаким номером, ибо надлежало бы наделить ее либо номером "О", либо номером "22". "О" не подходит, так как в этом случае Шут олицетворял бы вселенскую неопределенность, тогда как в действительности он подвижен и символизирует ход эволюции. С другой стороны, ее нельзя обозначить и числом "22", т. е. двумя пассивными началами, подразумевающими бездействие, что совершенно противоречит поведению персонажа, изображенного на этой карте" (88: р. 93).
Есть и третья причина. В России, в Санкт-Петербурге около пятидесяти лет назад существовала группа эзотеристов, в которую входил цвет столичной интеллигенции. Эта группа имела внутреннюю иерархическую структуру, т. е. включала в себя несколько "степеней" – мартинистов, тамплиеров и розенкрейцеров. В сущности, это была школа подготовки и обучения, состоящая из трех "курсов" или "классов" – в первый входили мартинисты, во второй тамплиеры, а в высший розенкрейцеры.
Всю школу возглавлял преподававший в петербургском Пажеском Корпусе профессор высшей математики Григорий Оттонович Мёбес{131}.
Так вот, после большевистской революции (положившей, разумеется, конец и самой группе, и ее деятельности) автор этих строк познакомился и подружился с некоторыми членами этой распавшейся группы. Поскольку дружба эта была подлинной, т. е. основывалась на безоговорочном взаимном доверии, они (принадлежавшие к так называемой "розенкрейцерской" элите группы) передали все, что знали, и поведали обо всем, что касалось деятельности их группы, в том числе и о пережитых ими кризисах и тяжких испытаниях. Это было в 1920 году. Тогда-то автор этих строк, уже проштудировавший в 1917 году блестящую книгу инженера Шмакова "Великие Арканы Таро"{132} (почти вдвое превышающую по объему, скажем, книгу Освальда Вирта «Le Tarot des imagiers du moyen age»{133} или книгу Поля Марто «Le Tarot de Marseille»{134}) и посвященную Таро книгу П. Д. Успенского{135}, был поражен, узнав, сколь плодотворными могут оказаться коллективные труды над Таро для изучения, исследований и духовного роста в сфере эзотеризма. Ибо все труды этой группы мартинистов-тамплиеров-розенкрейцеров были основаны на Таро. Изучение Каббалы, магии, астрологии, алхимии и герметизма направлялось и вдохновлялось постижением Таро. Благодаря этому вся работа отличалась исключительной согласованностью и органическим единством. Все вопросы, связанные с Каббалой, магией, астрологией, алхимией и т. д., трактовались как отдельные аспекты того или иного Аркана. Так, например, медитация на двадцати двух буквах еврейского алфавита совершалась с тем, чтобы вывести их каббалистический смысл в свете двадцати двух Старших Арканов. При этом делался вывод, что каждая буква еврейского алфавита – в каббалистическом понимании – соответствует определенному Старшему Аркану Таро. Так, Аркану «Шут» приписывалась двадцать первая буква еврейского алфавита – SHIN (). Говорили, что это буква Аркана «Шут», добавляя по секрету, что эзотерическим названием Аркана «Шут» является AMOR (Любовь). Хотя учение и опыт этой группы санкт-петербургских эзотеристов живет ныне в душе автора этих писем лишь как полученный в юности общий импульс к более глубокому проникновению в символику Таро – до сей поры он даже ни разу не ссылался в своих письмах на их учение (в течение последовавших за этим сорока пяти лет Таро открылось ему в новом свете, далеко превосходя по значению и глубине все, что он узнал из учения и опыта санкт-петербургской группы) – есть, однако, одно исключение, о котором я упоминал выше: Аркан «Шут» соотносится с буквой SHIN и, стало быть, число его – двадцать один, а эзотерическое наименование – Любовь.
Вот почему, дорогой неизвестный друг, в моем понимании медитация на Аркане "Шут" следует за медитацией на Аркане "Суд" и предшествует медитации на Аркане "Мир". И потому речь здесь идет, помимо упомянутых двух причин, связанных с диапазоном медитативной работы над Таро и значением числа двадцать один, о возложении "памятного венка" на несуществующую гробницу (т. е. несуществующую в дольнем мире) группы санкт-петербургских эзотеристов начала нашего века.
Обратимся теперь к рассмотрению карты. На ней изображен идущий человек в мешковатой одежде. Он опирается на посох и несет на правом плече палку с висящим на ней узелком. Сзади на путника нападает собака, рвущая его штаны. На голове у человека желтый колпак, увенчанный красным помпоном; на плечах у него синий воротник, кончики которого украшены колокольчиками; он одет в синие штаны и красные башмаки. На нем красный камзол, из коротких желтых наплечий которого выглядывают синие рукава; талию стягивает желтый пояс или кушак, к которому подвешены маленькие колокольчики. Иначе говоря, он одет в костюм традиционного средневекового клоуна или шута.
Шут идет слева направо. В правой руке у него посох, левой он удерживает на правом плече палку, к которой привязан узелок. Голова его на три четверти повернута вправо... Да и сам Шут также наклонен вправо... Шут добрый, а не злой, о чем свидетельствует хотя бы то, что он не защищается от собаки – хотя легко мог бы отогнать ее палкой.
Добрый шут... Одних этих слов достаточно, чтобы вспомнить бледную и тощую фигуру Дон Кихота Ламанчского – странствующего рыцаря, бывшего всеобщим посмешищем и заслужившего при жизни прозвища "El Loco" ("Дурачок"), но после смерти прозванного "El Bueno" ("Добрый"). О Дон Кихот, появившись на страницах романа Мигеля Сервантеса как литературный персонаж, ты обрел самостоятельную жизнь, более яркую и реальную, нежели жизнь литературного героя! Ты будоражишь воображение целой вереницы поколений, временами даже возникая в видениях. По вечерам в засушливых и скалистых местах, когда удлиняются тени, не твой ли долговязый застывший силуэт с гротескно искаженным профилем, восседающий на изнуренной кляче, мерещится случайному взору?
Воображение, видение... Да о чем это я? Тебя зачастую можно встретить в трудных исторических ситуациях – напоминающих засушливый исковерканный пейзаж, – когда сердца ожесточены, а головы твердолобы. Это ты... это твой голос, перекрывая гром выстроенных вокруг гильотины барабанов в один из дней месяца термидора или фруктидора II или III года (по французскому республиканскому календарю), выкрикнул "Да здравствует король!" – прежде чем твоя отрубленная голова скатилась на землю с высокого эшафота. Это ты на глазах у торжествующей революционной толпы сорвал со стены и изодрал на куски красный плакат, возвещающий жителям Санкт-Петербурга о начале Новой Эры в жизни России... и тут же был поднят на штыки красногвардейцами. Это ты в 1941 году открыто заявил немецким властям в оккупированных Нидерландах, что Германия, захватив эту страну, нарушила Гаагскую конвенцию, подписанную ею же тридцать лет назад...
Дон Кихот Ламанчский действует. Ибо Сервантес вовсе не придумал его, а просто описал таким, каким тот явился ему в Кастилии на закате рыцарских времен. Дон Кихот существовал и действовал задолго до Сервантеса, как продолжает существовать и действовать в наши дни, много лет спустя после смерти автора книги. Он живет – из века в век – жизнью архетипа, во все времена по-разному проявляясь во множестве людей. Сервантес изобразил его в виде странствующего рыцаря, а безвестные художники средневековья представляют его в виде Шута Таро. Как образ, Шут относится к средневековью. Это очевидно. Но каков может быть его источник как идеи, как архетипа и, наконец, как Аркана? Греческий? Пожалуй. Египетский? Готов это признать. Еще более древний? Почему бы и нет?
Идеи, архетипы, арканы не имеют возраста. Только их зримый, символический образ может быть отнесен к определенной эпохе. Это касается не только "Шута", но и "Мага", "Верховной жрицы", "Императрицы", "Императора", "Первосвященника", "Возлюбленного", "Колесницы", "Правосудия", "Отшельника", "Колеса Фортуны", "Силы", "Повешенного"... Ибо Арканы Таро суть нечто большее, чем символы, и даже большее, нежели духовные упражнения: это магические сущности, действующие и посвящающие в таинства архетипы.
Воображение западного мира будоражит не только Дон Кихот, но и Орфей, Вечный Жид, Дон Жуан, Тиль Уленшпигель, Гамлет и Фауст.
Орфей – его страдание от разлуки с душой умершей возлюбленной было столь велико, что стало магией, превозмогшей реку сна, забвения и смерти, которая отделяет мертвых от живых. Орфей всегда и повсюду живет там, где любовь к душе, отторгнутой смертью, не довольствуется лишь набожным и безропотным поминанием, но стремится отыскать ушедшего из этого мира и встретиться с ним за порогом смерти. Такова была любовь Орфея к Эвридике, и такова же была любовь Гильгамеша к его другу и брату Эабани. И как знать, сколько человеческих сердец билось, бьется и будет биться в такт с сердцем Орфея или Гильгамеша, героя вавилонского эпоса?
Вечный Жид, или Агасфер– это архетип "иного бессмертия" – бессмертия кристаллизации, о которой шла речь в письме о Тринадцатом Аркане Таро. Он олицетворяет принцип и душу магии, стремящейся к свертыванию витального (эфирного) тела до состояния "камня", слишком твердого для косы смерти. Формула, лежащая в основе этой магии, обратна формуле жизни и благодати: "Tu es non dignus ut intres sub tectum meum" ("Ты недостоин войти под мой кров"), т. е. обратна формуле "Domine, поп sum dignus, ut intres sub tectum meun: sed tantum die verbum, et sanabitur anima mea" ("Господи, недостоин я, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи лишь слово, и исцелится моя душа". – Срв. Мф. 8: 8). Такова глубочайшая тайна и "великий аркан" тех, кто, запечатлев себя в камне, желает из этих камней воздвигнуть храм человечества (см. медитацию на Шестнадцатом Аркане). Само собой, из них это ведомо лишь горстке людей; прочие же, которых большинство, даже не подозревают об этом.
Дон Жуан – это не просто богохульствующий распутник, а скорее верховный жрец маленького божества, обладающего огромной силой и известного в античности под именем Эрос или Амур (Любовь). Он олицетворяет собой магию Эроса, а в роли жреца главенствует в его мистериях.
Будь все иначе, будь он всего лишь заурядным распутником, как мог бы он оказать столь могучее воздействие на воображение таких поэтов, как Мольер, Корнель, лорд Байрон, Лоренцо да Понте, на Моцарта (в музыке) и Алексея Толстого{136}? Именно поэма-мистерия последнего лучше всего раскрывает читателю глубинную природу Дон Жуана, который, согласно Алексею Толстому, не был ни богохульствующим распутником, ни вероломным соблазнителем, ни даже грубым авантюристом. Он был скорее преданным и смелым слугой ребячливого божества, любящим и умеющим воспользоваться и страстным порывом, и восторженным пылом, презирающим взвешенную и благоразумную рассудочность с ее законами полезности и выгоды, осмотрительности и соблюдения условностей и, наконец, господства холодной головы над горячим сердцем. Однако право на существование имеет не только любовь, но и ее трансцендентная метафизика, философия и мистицизм. Для Алексея Толстого Дон Жуан был более чем жертвой любви, беспомощным поклонником этой своевольной богини. Он глубоко воспринял ее философию и мистицизм и тем самым стал ее сознательным приспешником, верховным жрецом, посвященным в ее таинства. Вот почему он стал архетипом – архетипом любви ради любви, любовником par excellence.
Дон Жуан живет за счет эротической энергии и ради этой энергии – лелея и поддерживая ее, словно огонь, которому вовек нельзя угаснуть. Причина в том, что он осознает всю ценность и предназначение этого огня в нашем мире. В извечном противостоянии между законом – права, здравомыслия и Бога – и любовью, он отдаег предпочтение любви, что требует известной смелости. Вот почему Дон Жуан олицетворяет идею, архетип, аркан. Он воплощает в себе юношу, изображенного на карте Шестого Аркана "Возлюбленный", который избрал огонь любви как таковой, во всем ее многообразии, предпочтя ее единству любви к своей извечной родственной душе и поддавшись на уговоры Вавилонской блудницы, посвященной в тайны эротической магии.
Тиль Уленшпигель, бродяга из фламандского городка Дамме неподалеку от Брюгге, – герой многочисленных народных преданий о розыгрышах и грубоватых проделках, а также трагический персонаж эпического романа де Костера -является архетипом революционного анархизма, который в следствие полного разочарования во власть предержащих знать не желает ни веры, ни закона. Это дух бунтарства против всякой власти во имя свободы отдельной личности – свободы бродяги, который не имеет ни гроша за душой, никому не подчиняется, никого не боится, не ожидает вознаграждения и не опасается кары ни на том, ни на этом свете... дух-насмешник, который в то же время переворачивает вверх дном святыни и алтари человечества, обрушивая их с помощью своей волшебной палочки: насмешки. Эта палочка неузнаваемо преображает все, к чему ни прикоснется: торжественное становится напыщенным, трогательное – сентиментальным, отвага – самонадеянностью, слезы – хныканьем, любовь -мимолетной причудой... Ибо и эта палочка "не имеет иной цели, как только конденсировать могучий поток флюида, эманирующего из оператора... и направлять проекцию этого флюида в определенную точку" (102: р. 204). И этот "сконденсированный флюид" оператора есть его сконденсированная вера в то, что все на свете – лишь один великий фарс.
Тиль Уленшпигель является архетипом, поскольку он тут как тут со своей неизменной палочкой, едва какой-нибудь насмешник возомнит себя "просветителем", выворачивая наизнанку вещи, идеи и идеалы, которыми дорожат другие. Так, присутствие и влияние Тиля Уленшпигеля заметно не только в рифмоплетстве русского большевика и воинствующего атеиста Демьяна Бедного, но и в сочинениях такого выдающегося писателя и мыслителя, как Вольтер. Впрочем, Тиль Уленшпигель – будучи архетипом -это не просто обычный насмешник. Это лишь одна сторона его бытия. Есть у него и другая сторона – воинствующий анархизм: бунт черни против тех, кто издает законы и предписывает, что делать, а чего не делать. Примером могут послужить следующие относительно недавние события:
Моряки Балтийского флота России обеспечили в октябре 1917 года победу большевистской революции, открыв огонь из орудий крейсера "Аврора" по последнему очагу сопротивления верных демократическому правительству войск (женского добровольческого батальона) и взяв штурмом Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Так они стали бесспорными и прославленными героями Октябрьской революции. Однако не менее бесспорным фактом – хотя и никогда не упоминаемым – является то, что в 1921 году те же моряки Балтийского флота подняли мятеж против режима, которому оказали столь решительную поддержку в октябре 1917 г. Они захватили военно-морскую крепость в Кронштадте, которая затем была взята в осаду. После месяца осады отборные войска красногвардейцев отбили кронштадскую крепость – у кадетов или курсантов (большевистской военно-морской школы).
Так чем же была вызвана столь радикальная перемена в отношении моряков Балтийского флота к большевикам? Дело в том, что в октябре 1917 года моряки сражались за анархическую свободу -за советы рабочих, крестьянских, солдатских и матросских депутатов, в которых не будет генералов и адмиралов, министров, т. е. всех тех, кто стоял выше советов. Они стремились к воссозданию боевого товарищества, бытовавшего в XVI, XVII и XVIII вв. на Украине под названием Запорожская Сечь. Это был идеал анархистского коммунистического братства. Однако в 1921 году они поняли, что ошиблись. Ибо Октябрьская революция привела к возникновению не сообщества братьев и товарищей, а системы контроля с новым, сильным полицейским государством диктаторского толка, управляемого кликой, которая решала все от имени народа, тогда как сам народ не решал ничего. Убедившись в обмане, кронштадтские моряки вновь взялись за оружие. И снова их незримо возглавлял Тиль Уленшпигель, как в свое время он вел за собой толпу на штурм Бастилии и сочинил в 1793 году бунтарскую песню "Карманьолу"...
Датский религиозный мыслитель Серен Кьеркегор, ставший родоначальником философского течения (точнее -эстетического умонастроения), известного в наши дни под названием "экзистенциализм", писал:
"В современной философии было более чем достаточно разговоров о том, что размышления начинаются с сомнения, но с другой стороны, когда мне самому доводилось разбираться с подобными заключениями, я тщетно пытался найти свидетельства различия между сомнением и отчаянием. Здесь я попытаюсь пролить свет на это различие... Сомнение есть отчаяние мысли, отчаяние есть сомнение личности; вот почему я столь решительно привержен к категории выбора, ибо в ней мое решение, краеугольный камень моего мировоззрения..." (77: vol. II, pp. 177-178).
Экзистенциальная философия нашего времени отличается от традиционной спекулятивной философии тем, что она основана на отчаянии, т. е. на сомнении личности в целом, тогда как спекулятивная философия берет начало в сомнении, т. е. отчаянии одного лишь мышления. А всякое отчаяние, всякое сомнение личности сводится к знаменитому гамлетовскому вопросу: "Быть или не быть?" Ибо если датский философ Кьеркегор является автором современного экзистенциализма, то датский принц Гамлет – герой шекспировской трагедии, точнее – положенного в ее основание предания, записанного Саксоном Грамматиком, – представляет собой экзистенциалиьный архетип отчаявшейся личности. Это архетип изоляции полностью автономного сознания, отрешенного как от Природы, так и от духовного мира, – архетипа человека, пребывающего в нулевой точке между двумя полями тяготения: земным и небесным.
Сомнение есть нечто большее, нежели психологическое состояние нерешительности; это пребывание души в промежуточной сфере между двумя полями тяготения – земным и небесным – откуда нет иного выхода, иначе как посредством простого акта веры, исходящего из глубины души без какого-либо участия неба и земли. Таким образом, это акт свободной личности при полном безмолвии неба и земли. Так вот, Гамлет и является архетипом такого испытания, где приходится выбирать одно из двух: либо акт веры, либо отчаяние и безумие.
Доктор Фауст – это синтез различных форм безумия и мудрости тех шести архетипов, о которых мы говорили выше. Как Дон Кихот, он стремится к неслыханным подвигам; как Орфей, он ищет обратный путь к свету из мрака смерти, много веков назад поглотившего Елену Троянскую, которую он страстно любит, несмотря на разделяющие их столетия и порог смерти; как Дон Жуан, он «видит Елену в каждой женщине» и ищет «вечную женственность» (das Ewig Weibliche) в каждой земной любви; как Агасфер, он возвращает свою молодость спомощыо черной магии, чтобы начать новую жизнь и новую земную биографию, не прерванную смертью, т. е. обретает новое воплощение, минуя предшествующий ему период развоплощения; как Тиль Уленшпигель, он отрешается от всяких привязанностей, религиозных, научных и политических авторитетов, и в компании с Мефистофелем насмехается над моральными и иными ограничениями, препятствующими свободе дерзания и воли; и, наконец, как Гамлет, он подвергается испытанию великим экзистенциальным сомнением «быть или не быть», переосмысленным как «жить или не жить».
Но помимо всего общего, что есть у него с этими шестью архетипами, Фауст олицетворяет – по крайней мере в представлении Гёте – еще один вечный архетип человека, подвергаемого испытаниям и искушениям: вечного Иова, которого мы находим в Библии. Фауст – это Иов эпохи гуманизма, т. е. на заре современного мира. Подобно библейскому Иову, он оказался залогом в пари, предложенного -и принятого -Богу Мефистофелем. Но испытания и искушения Фауста отличаются от выпавших на долю библейского Иова тем, что они связаны не с ударами и превратностями судьбы, а, напротив, с невероятной удачей и успехами. В распоряжении Мефистофеля все средства, чтобы удовлетворить любые желания Фауста. Испытание же, о котором здесь речь, сводится к тому, сможет ли относительный и преходящий мир вечно удовлетворять запросы Фауста – человека, порожденного современным миром, современного человека... Могут ли все радости этого мира усыпить человеческое стремление к абсолюту и вечности, сделав его всецело удовлетворенным и счастливым. Иов доказал, что страдания, в которые мир может ввергнуть человека, не способны оторвать человеческую душу от Бога; Фауст продемонстрировал, что это не по силам и всем радостям этого мира.
Освальд Шпенглер, автор известного сочинения "Закат Запада"{137}, называет современного человека «фаустовским человеком» («der faustische Mensch») – и в этом совершенно прав. Ибо Фаустпоисгинепредставляет собой господствующий архетип в эпоху, которая последовала за средневековьем, -эпоху, для которой характерны огромный рост власти человека над Природой и появление у него средств удовлетворить такие желания, о которых могли мечтать только самые могущественные маги прошлого: летать по воздуху, видеть и слышать на большом расстоянии, путешествовать без лошадей (т. е. в автомашине), вызывать к жизни живые образы и звуки событий давно минувших либо происходящих на огромном удалении и др. Казалось бы, князь мира сего получил всю власть для того, чтобы удовлетворить одно за другим все желания современного человечества и тем самым убедиться, что власть и наслаждения этого относительного и преходящего мира могут заставить человека забыть об абсолютном и вечном, заставить его забыть Бога... Со стороны же Бога это попытка показать всем иерархиям зла, что человек стоит выше всего относительного и преходящего, а посему вся власть и все радости мира дольнего никогда не принесут ему удовлетворения. Испытание нашей эпохи есть испытание Фауста. Это искушение удовлетворением желаний.
Новейшим феноменом нашей эпохи является коммунизм – или, если угодно, общественный и коллективный государственный контроль. Коммунизм открыто ставит своей целью как можно более полное удовлетворение всех нужд и желаний как можно большего числа людей, живущих на земле. Что ж, предположим, что он добьется успеха в России. У каждого будет хорошо меблированная квартира с телефоном, радио, телевизором, холодильником, стиральной машиной... А что потом? Да, кино, театр, концерты, балет, спорт... А потом? Да, наука найдет новые возможности и новые направления деятельности, для воображения и... желаний. Человек будет летать на Луну, на другие планеты... А потом? Потом будут невероятные приключения в сфере опыта и познания, которых мы пока не можем себе представить, – как, например, открытие других форм разумной жизни, иных "цивилизаций" на планетах... А потом? Ответа нет.