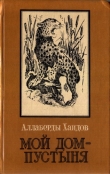Текст книги "Разбег"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
III
На углу Артиллерийской левую половину дома – две комнаты и коридор – снимали брат и сестра Иргизовы. До приезда сестренки частенько к Иргизову захаживала семидесятилетняя старушонка – уборщица. Приходила днем, когда «комиссара», как величала старуха Иргизова, – дома не было. Подметая пол или занимаясь мытьем тарелок, частенько она отвлекалась – рассматривала его имущество. В одной комнате стоял стол и старый коричневый буфет, в другой – письменный стол, кровать и полки с книгами. Два месяца назад, когда Зинка приехала в Полторацк и пришла к брату, – застала старушку за разглядываньем картинок в книге. Подивилась Зинка нимало, узнав, что книжка принадлежат брату, а старушка – всего лишь его уборщица. «И чего вы тут копаетесь, бабушка?» – «Да ведь бог его знает, чем он тут занимается, – отозвалась уборщица. – От книг, говорят, мозги на бок сползают, а ведь у него только и на уме – книги. Да наган, еще держит. Захожу раз к нему, в выходной день, отворила дверь, а он лежит, значит, на кровати и наган на меня наставил. Глаз прищурил, целится и молчит. Я обмерла вся, счас, думаю, застрелит. А он руку с наганом опустил и опять вытянул. Не бойся, говорит, Матрена, это я руку тренирую, чтобы не дрожала во время стрельбы»…Зинка посмеялась тогда над страхами уборщицы, а когда встретилась с братом и выплакалась с дороги как следует у него на груди, сказала строго: «Ты чего же по-буржуйски живешь? Уборщицу себе завел. Маманя в деревне с голоду померла, а ты тут буржуйничаешь. Я сама буду подметать и мыть обе комнаты». Иргизов дал уборщице расчет, и с той поры в доме хозяйничала двенадцатилетняя Зинка, – длинная, голенастая девчонка, с веснушками под глазами и большими, как у брата, голубыми глазами…
Первого мая Зинка со своей школой была на демонстрации. Там купила разноцветные шары, но мальчишки тотчас прокололи их иголками. Зинка бросилась за одним, надавала ему подзатыльников и опять купила шарик. Чтобы не прокололи и этот, ушла она с шумной улицы в переулок и выбралась на свою. Хотела отсюда пробраться на площадь, поближе к трибунам, и тут увидела на крыльце своего дома мальчугана. Он сидел на ступеньке и грыз семечки.
– Эй, ты, чего здесь соришь-то?! – возмутилась Зинка. – Только и знают, что шары прокалывают, да семечки лузгают. Чего ты тут уселся-то, спрашиваю?
– Ничибо, – отозвался паренек. Был он в чистом синем хлопчатобумажном костюме, в фуражке с лакированным козырьком и черных заплатанных ботинках.
– Иди, иди отсюда, – в приказном тоне заговорила Зинка, и тут подумала, что где-то уже видела этого мальчишку. Мгновенье, другое – и вспомнила. – Тебя Сердаром зовут? Твой отец Чары-ага Пальванов?
– Да, ми есть Сердар, – сказал он и встал.
– Извини, что нагрубила, – улыбнулась Зинка. – Я тебя знаю. Ты на фотокарточке у нас, с отцом. На, держи шарик, я открою дверь. – Зинка покопалась в карманчике юбки, достала ключ, открыла дверь, и они вместе вошли в комнату.
– А дядя Иван игде? – спросил Сердар.
– На параде, где же ему быть еще. Придет скоро, не беспокойся. Давай-ка познакомимся. Меня зовут Зиной; я приехала из России. С Урала. Может, слышал?
– Слышал, – кивнул Сердар. – Мне дядя Иван рассказывал.
– Чай пить будешь? Туркмены, почему-то, все любят чай, а ты?
– Ай, давай попьем…
Зинка выбежала в коридор, разожгла примус и скоро вернулась с фарфоровым чайником. Она сама налила ему и себе в пиалы, достала с полки шоколадку и разломила ее пополам. Сердар без всякого восторга, отправил свою долю в рот, разжевал и сморщился. Зинка засмеялась:
– Не нравится? Скажите, пожалуйста, лорд Байрон еще мне нашелся. Тогда пей с сахаром. – Она подала на стол сахарницу с неровно наколотыми комочками.
Они мирно пили чай и беседовали. Сердар плохо выговаривал русские слова, и Зинка беззаботно хохотала. Сердар не обижался. Наоборот, ему все больше и больше нравилась эта веселая, смеющаяся девчонка.
– Ты в школе садоводства и огородничества учишься?
– Да, конично.
– Ты будешь агрономом?
– Нет, агроном моя ни будит.
– Ха-ха-ха! А кем ты будешь?
– Лочик буду.
– Летчиком? – удивилась Зинка. – Да как же станешь летчиком, если учишься на агронома?
– Ай, не знайт. Агроном бросай буду – лочик буду.
За разговором они не заметили, как отворилась дверь и в комнату вошел Иргизов. На лице смущение, Зинка сразу поняла – что-то не то. Глянула – ас братом женщина… интеллигентка в белом чесучевом костюме и шляпе.
– Зинаида, ты, оказывается, не одна… Ба, да это Сердар к нам пожаловал! Ну, молодец. Празднуешь? Проходите Лилия Аркадьевна. Тут у нас молодежь веселится. Сын моего лучшего друга в гости пришел. От отца есть письма?
– Есть письма, – несмело отозвался Сердар. – Деньги тоже есть? Ботинки купить будем.
Лилия Аркадьевна приветливо улыбнулась, Иргизов подставил ей стул, но женщина прошла мимо.
– Ну, что ты, Иргизов. Я садиться не буду – помнусь. Просто мне захотелось взглянуть, как ты живешь. Не шибко, между прочим… Открой окна, проветри комнаты.
Зинка мгновенно сдернула в сторону шторки и распахнула небольшие голубенькие ставни. Сделав это, преданно посмотрела на Лилию Аркадьевну.
– Может, еще что?
– Да нет, не надо. Впрочем, Иргизов, ты давно бы мог догадаться, что стол у тебя никуда не годится. Стол солдатский. Шкаф тоже. Можно подумать, ты его взял напрокат у старого генеральского денщика. И кровать солдатская. Кто спит на ней?
– Я сплю, – с готовностью отозвалась Зинка.
– Боже. А ты где, Иргизов, изволишь почивать?
– В другой комнате, Лилия Аркадьевна.
– Можно, я пройду туда? – спросила она и, не дожидаясь разрешения, вошла.
– Тут тоже – так себе, – попробовал отшутиться он. – Я же полуоседлый кочевник.
– Именно, так себе, – подчеркнуто небрежно согласилась Лилия Аркадьевна. – Надеюсь, когда ты меня в следующий раз пригласишь к себе в гости, то будет все иначе. Не пристало красному командиру перебиваться кое-как. Слишком ты неприхотлив. Неужели ты завоевывал право на лучшую жизнь для того, чтобы жить по-прежнему, серо и скучно?
– Ну, Лилия Аркадьевна, вы меня прямо в тар-тарары сбросили!
– Ладно, ладно, – сказала она примирительно. – Надеюсь, мои замечания пойдут тебе впрок. – И обратила внимание на керамические черепки, лежащие на этажерке. – Хлам какой-то. Хоть бы эти черепки выкинул.
Лилия Аркадьевна собрала черепки в обе руки, намереваясь вынести и выбросить во двор, но не тут-то было. Иргизов, с испуганными глазами, подскочил к ней:
– Лилия Аркадьевна, да вы что?! Это же материал с древних крепостей Согдианы! Когда мы шли походом из Чарджуя в Керки, я собрал эту древнюю керамику.
– Скажите, пожалуйста, – удивилась гостья. – А зачем они тебе? Ты же не историк, и тем более – не археолог.
– Готовлюсь постепенно, – пояснил Иргизов и подал ей учебник «Основы археологии». – История – моя страсть. Я еще в детстве увлекся походами Македонского. У нас в Покровке ссыльный татарин Юнуска жил. Он мне привил любовь к истории. А тут комбат – наш сельский, Сергей Морозов, ехал из Москвы – заглянул в Покровку и увез меня в Туркестан. Тут я и вышел на след Македонского и прочую древность.
– Ну-ну, доморощенный археолог, желаю тебе успеха! – Лилия Аркадьевна поощрительно улыбнулась и перевела взгляд на стоящих с разинутыми ртами Зинку и Сердара.
Иргизов сообразил: надо ребятам представить гостью – кто она и что, а то непонятно им что за ревизорша явилась и поучает славного красного командира.
– Зина, ты не пяль глазищи-то, – сказал мягко Иргизов. – Лилия Аркадьевна – инспектор Наркомпроса, Это она тебе помогла устроиться в школу. Когда ты приехала, я к ней в Наркомпрос наведался. Так мол и так, – сестренка из Оренбургской волости пожаловала – помогите.
– Ладно, Иргизов, – возразила женщина. – Не столь уж велико мое участие в судьбе твоей сестренки. Любая другая на моем месте тоже бы помогла. Я думаю, нам пора идти. – Лилия Аркадьевна посмотрела на ручные часики и испуганно округлила глаза. – О, Иргизов, уже второй час!
Тотчас они вышли, оставив Зинку и Сердара одних, и направились в сторону пригородного аула, где у отца поселился новый знакомый Иргизова, – Ратх Каюмов.
У синих, давно некрашенных ворот, за которыми виднелись два дома с айванами и сараи, Лилия Аркадьевна остановилась – удобно ли идти? Из-за ворот доносились голоса и звуки дутара. Иргизов отворил калитку и потянул за руку, свою спутницу. Во дворе дымились котлы и, поодаль у айвана, стояли мужчины в косматых тельпеках. Поежившись, Лилия Аркадьевна поправила прическу под белой шляпой, словно боясь, что здесь, наверняка, ее растреплют, и ужаснулась:
– Иргизов, куда ты меня привел?
Лилия Аркадьевна остановилась в нерешительности, но тут с веранды легко спустилась женщина лет тридцати пяти, с красивыми, строгими чертами лица и испытывающим взглядом, – жена Ратха. Она была в коричневом платье, которое ей очень шло, элегантно подчеркивая стройность фигуры.
– Будем знакомы… Тамара Яновна, – назвала она себя, взяв под руку гостью. – А как вас зовут?
– Лилия Шнайдер, – несколько чопорно представилась гостья. – Инспектор Наркомпроса.
– О! – восхитилась Тамара Яновна. – Вы еще совсем юная, а уже инспектор!
Иргизов пошел следом за женщинами, оглядывая огромный каюмовский двор – полуразоренное бурями нового времени поместье сельского старшины – арчина.
Ратх вышел на веранду в светлом костюме. В нем он показался Иргизову немножко ниже и изящнее, чем в военной форме. Тамара Яновна представила ему Лилию Шнайдер. И та, мгновенно освоившись, тут же вспомнила:
– Иргизов мне рассказывал о вас, о вашей молодости. Будто бы вы еще в первую революцию были цирковым джигитом!
– Было такое. – Ратх немного смутился и повел гостей к мазанке, стоявшей напротив, у самого дувала. Он распахнул дверь, и взору предстала небольшая комнатушка, обклеенная с потолка до пола цирковыми афишами. Несущиеся на скакунах всадники, клоуны, акробаты, велосипедисты.
– Романтично, – отметила Лилия Шнайдер. – Красные кони вынесли вас на революционную стезю!
– Цирк для нас был революционной ареной, – сказала Тамара Яновна.
– А вы в ту пору – тоже жили в Полторацке? – удивилась Шнайдер.
– Разумеется. Видите вон ту желтую коляску, – показала она рукой из открытой двери в угол двора. – В этом ландо по ночам мы развозили прокламации. Бедный Каюм-сердар не подозревал даже.
Когда вновь поднялись на веранду и вошли в одну, затем в другую комнату, где был накрыт стол, Иргизов увидел на стене большую фотографию: на ней Ратх и Аман гордо восседали на скакунах.
– Это, кажется, Аман? – удивился Иргизов. – Совсем еще молодой, как мальчик. Кстати, где он – что-то не вижу моего друга Амана?
– У отца торчит, – недовольно отозвался Ратх. – Там старые друзья Каюм-сердара собрались, и он заодно с ними. Любит всякую ерунду слушать. В Амане старое, как гвоздь в доске, – щипцы нужны. По натуре он – анархист. Полный беспорядок – это его родная стихия.
– Садитесь, друзья, за стол, – попросила Тамара Яновна и добавила: – Аман – вольная птица, он никогда не знал дисциплины. Каким был в молодости, таким и остался.
Ратх махнул рукой и начал разливать в бокалы вино.
– Главное для него – бесшабашность и еще богатство. Причем, он никогда не был жаден. Заимев, допустим, тысячу рублей, он швырял их направо и налево. Но стоило ему оказаться без денег, и он старался любым способом и как можно быстрее раздобыть их. Три месяца назад, когда мы только приехали в Полторацк и я повстречался с Аманом, мне показалось, он сильно изменился. Семья у него, все же… Сын взрослый… две дочери… А когда разговорились и стали поглубже заглядывать в суть событий, он мне выдал фразу: катись ты, говорит, со своей политикой к дьяволу, – моя политика – лошади! Не понимаю, Ваня, что ты нашел хорошего в моем брате? Ведь это ты его заприметил и предложил работу на конюшне!
– Но ведь на конюшне, а не в Совнаркоме! – возразил Иргизов. – Именно за то, что Аман – заядлый лошадник, я и люблю его.
Лилия Аркадьевна поднесла к губам бокал, лизнула вино и удовлетворенно чмокнула:
– У-у, сладенькое, оказывается. – И тут же заметила. – А может быть, ваш Аман просто не воспитан. Но если даже он анархист, то и это не страшно. Многие анархисты перешли на нашу революционную платформу. Наша с вами задача помочь этим заблудившимся людям стать людьми нового, созидающего класса.
Ратх понял – гостья решила щегольнуть своими знаниями и не остался в долгу перед ней.
– Я не совсем согласен с вами. По-моему, сейчас, как никогда, анархизм дает волю своим страстям. НЭП вместе с оживлением экономики и уровня жизни пробудил и деклассированный элемент. Я думаю, надо как следует дать бой буржуазной морали.
– Вот и я думаю: пока есть еще время – встряхните своего брата, чтобы его анархизм посыпался медной монетой!
– Лиля, вы такая многоопытная, а ведь вам чуть больше двадцати. Откуда это у вас? – спросила Тамара Яновна.
– Боже, ну какой тут опыт! – отмахнулась Лилия Аркадьевна. – Просто, определенные знания истории и текущего момента.
– Тома, тебе было всего семнадцать, когда ты меня просвещала в смысле революционной борьбы партии и ее фракций. Мы с тобой немножко одомашнились, а молодые люди только начинают жить, – сказал Ратх.
Иргизов решил, что Лилия Аркадьевна и Ратх умничают, и вышел на веранду, покурить. Прикурив и затянувшись дымком, он облокотился на перила и увидел во дворе паренька лет пятнадцати.
– Ты, вероятно, сын Ратха Каюмова?
– Угу… Мы из Москвы сюда приехали.
– Как тебя зовут?
– Юркой вообще-то.
– А в частности?
– Кто как, – улыбнулся Юрка. – Мать и отец зовут Юрок, дед – Юврук, а по метрикам Юрий Ратхович.
– Молодец, за словом в карман не лезешь. Дед почему на русских обижен? Мать твоя звала его к себе за стол, а он отказался.
– На русских он не обижен, – возразил Юрка и пояснил: – Если хотите знать, до революции все его главные друзья были русские. Генералы да полковники разные. Он все время с ними заодно был. А теперь, когда мы победили, вот он и злится на всех бедняков. Он их босяками называет.
– Значит и отца твоего не признает?
– Признает, но все время сердится. Все время другого своего сына, дядьку моего хвалит. Дядя Аман и сейчас у него… Там много у дедушки людей собралось.
– Силен старик, – заметил Иргизов. – А бабушка есть?
– Есть. Она добрая. Ей все равно – царский строй или советский, лишь бы хлеб был.
– Учишься?
– Угу… В седьмом.
– Ну, идем за стол, а то без тебя там скучают.
– Я потом, – отказался Юра, но гость уже потянул его в комнату.
– Вот он – явился, не запылился! – воскликнула Тамара Яновна. – Садись, поешь плова – не каждый день праздник.
– Он у вас между двух огней, – сказал Иргизов. – И родителей жалко, и деда. Занял, так сказать, нейтралитет, чтобы никого не обижать.
– Дед наш сам кого хочешь обидит. Пока я на службе в Наркомздраве, он тут распоряжается внуком, как хочет. В своего вестового превратил. Гоняет – то к ишану, то еще к кому-то.
Странно складывалась у Тамары Яновны жизнь на этом старом подворье. Все тут было не так, как в Москве. Там она была полновластной хозяйкой в доме. Здесь, едва приехали, сын оказался в руках Каюм-сердара, да и сама она то и дело попадала по его прихоти в самые неловкие положения. Сначала старик понять не мог, как можно позволять женщине уходить из дому чуть свет и возвращаться ночью. Но постепенно узнал, что невестка разъезжает по всему городу и даже по окрестным аулам, людей лечит, и удивляться перестал. Зато ей самой теперь приходилось даваться диву. Однажды к Каюм-сердару пришел старик-туркмен, поклонился, как встарь, и подал баранью ляжку, завернутую в мешковину. Каюм-сердар сухо напомнил: «Я давно не арчин. Зачем мясо принес? Разве я могу чем-то помочь тебе?» – «Помог уже, – заулыбался гость. – Думали, внучка помрет: совсем плохая была. Потом твоя невестка пришла, вылечила». Теперь такие гостинцы приносил и чуть ли не ежедневно.
Тамара полушутя-полусерьезно рассказывала о причудах Каюм-сердара, когда в комнату бесцеремонно и шумно вошла Галия-ханум:
– О, да здесь, оказывается, пир горой идет! А меня наш почтеннейший отец послал за мужчинами. Говорит, позови Ратха и его приятеля.
– Только мужчин просит? – улыбнулась Тамара Яновна.
– Если он пригласит к себе женщин – людям небо на голову упадет! – беззлобно упрекнула свекра Галия. – Это такой феодал, каких свет не видывал. Простите, я даже не поздоровалась ни с кем. – Галия, поочередно подавая руку, защебетала: – Вас, Иргизов, я уже знаю – однажды на ипподроме видела. А вас, милочка, вижу впервые. Меня зовут Галия.
– А меня Лилия Шнайдер.
Ратх тотчас добавил:
– Между прочим, дорогая Галия-ханум, ваша новая знакомая работает в Наркомпросе. Вы, если не изменяет мне память, завидовали нынешним учителям и бранили Амана за то, что он вам не позволяет работать. Я думаю, Лилия Шнайдер могла бы помочь вам устроиться учительницей в школу.
– С большим удовольствием выполню вашу просьбу! – Лилия Аркадьевна посмотрела в глаза импозантной ханум. – Вы что окончили, какое заведение?
– Ах, что вы, Лилечка! – всплеснула руками Галия. – Я окончила пансион в Петербурге, но это было так давно. Кому теперь нужны мои знания! Тем более, что и жизнь начинается по-новому. Всеобуч, ликбезы. Мне это непонятно.
Ратх, видя, что Галию, в общем-то, можно уговорить, подсел к ней поближе.
– Галия, добрейшая душа, вы меня знаете – и я ни разу в жизни не солгал вам. Кроме хорошего вы от меня ничего не видели, верно ведь?
– Верно, деверек, не отрицаю.
– Так вот поверьте мне, ханум. В настоящий момент учитель – самое нужное, самое дорогое лицо во всем обществе. Вы знаете, что сказал Михаил Иваныч Калинин об учителях! О, Галия, я сам слышал его слова. Я сопровождал его в поездке по Туркмении. Мы были в Иолотани, он встретился с одним сельским учителем, выслушал его внимательно и сказал нам: «Мне кажется, учителей, проработавших определенное число лет в отдаленных местах Средней Азии, Сибири и Далеком Севере, надо бы вознаграждать орденом трудового Красного Знамени, как за особое геройство и самопожертвование».
– Неужели, Ратх, такое отношение к учителям? – глаза у Галии заискрились.
– Галия-ханум, вы могли бы обучать женщин грамоте прямо здесь, у вас во дворе. Если согласитесь, я помогу вам собрать женщин нашего аула, – предложила Шнайдер.
Иргизов, следивший с любопытством за беседой, подморгнул озорно Лилии Аркадьевне, затем перевел взгляд на Галию:
– Ханум, эта женщина говорит только правду – верьте мне. Она ведет у нас политэкономию в Доме Красной Армии, и мы все, командиры и красноармейцы, уже знаем прибавочную стоимость наизусть.
– Не очень мудро, Иргизов, – сухо заметила Лилия Аркадьевна.
– Ох, что же я! – спохватилась Галия. – Я же пришла за мужчинами. Ратх, дорогой, и ты тоже, Иргизов, оторвитесь на минуту. Каюм-сердар что-то хочет вам сказать и ждет вас. Я пойду туда – надо подать чай. – И она удалилась так же шумно, как и вошла.
Ратх посмотрел на Иргизова, пожал плечами:
– Отказываться неудобно. Давай заглянем, послушаем, что им от нас надо. Доброго, конечно, ничего не жди. Сейчас они как разворошенное осиное гнездо.
IV
В комнате Каюм-сердара тесно. На ковре человек восемь: шестеро в папахах и халатах, двое в европейских костюмах. Сам старик в центре внимания. Сидит на красном месте, потчует гостей едой, подливает в пиалы чай. Увидев младшего сына с гостем, привстал, широко улыбнулся:
– Ну, вот и Ратх. Очень хорошо, что пришел, а то люди уже хотели уйти. Садись сюда. Проходите и вы, уважаемый, – пригласил он Иргизова.
Ратх, поглядывая на гостей, узнал в одном посланца Джунаид-хана: недавно он выступал на съезде Советов, ему дали слово. Кажется, его имя Сейид-оглы. Он просил прощения, клялся во всех грехах, совершенных против народа, и просил, чтобы заблудшим душой и умом людям дали место в новом государстве туркмен. Съезд Советов простил басмачам: что ж, коли одумались, пусть займутся мирным трудом. Но что же еще надо этому курбаши?
– Выслушай нас, Ратх, – обратился Каюм-сердар. – Люди очень внимательно следили за вашими собраниями, но не все поняли. Вот уважаемый гость Сейид-оглы хотел бы…
– Я слушаю вас, уважаемый, – сухо сказал Ратх, посмотрев на рябого курбаши с одним глазом.
– Два вопроса у нас, – произнес тот с чванливым достоинством, отпивая из пиалы чай. – Первый вопрос будет таким: являются ли прощенные полноправными людьми?
– Безусловно, уважаемый гость. А почему вы сомневаетесь? – мгновенно отозвался Ратх.
– Но если мы полноправные, то почему ни Джунаид-хана, ни меня, ни других из наших не выбрали в правительство?
Ратх даже удивленно хмыкнул от столь циничного вопроса, а Иргизов откровенно засмеялся.
– В правительство избраны самые достойные и умные люди, – терпеливо пояснил Ратх.
– Да, – раздумчиво процедил Сейид-оглы. – Выходит – они умнее нас, а мы глупее их. Нет, это неправильно. Вы должны нам дать несколько мест в правительстве, иначе Джунаид не сможет жить мирно. Он обид не прощает, а за унижение наказывает. Передайте наши слова, уважаемый, Атабаеву, Айтакову и Сахатмурадову – пусть они подумают, пока еще не поздно.
– Ладно, передам, – согласился Ратх, кривя от ненависти к басмачу губы.
Иргизов, внимательно следивший за басмаческим курбаши, спросил:
– Приятель, но вы же еще месяц назад занимались грабежом и убийствами. Вы убивали неповинных дехкан. Неужели они станут вам подчиняться?
– Мы получили прощение, – уточнил Сейид-оглы. – Съезд нас простил, значит – все дехкане простили. Теперь у меня другой вопрос. – Он вновь уставился на Ратха: – Что такое репорм и зачем репорм?
– Реформа, вы хотите сказать? Да, мы продолжаем земельно-водную реформу. Смысл ее в том, чтобы наделить землей и водой всех бедняков.
– Как же вы это сделаете? – ухмыльнулся курбаши. – Разве появилась дополнительная земля и вода?
– Мы сделаем это очень просто и по совести, – пояснил Ратх. – Мы урежем землю и воду у богатых и отдадим беднякам. Мы оставим каждому, кто будет трудиться, по полгектара земли и по тридцать пять голов овец. Этого вполне достаточно.
Сейид-оглы усмехнулся:
– Уважаемый, вы говорите, что Советы достойнее и умнее нас, но сами вы ведете себя неразумно. У вашего отца, почтенного Каюм-сердара, – курбаши с улыбкой посмотрел на старика, – в песках пасутся две отары: каждая по тысяче голов. Мы, его преданные слуги, охраняем овец от волков. Если понадобится, мы защитим его овец и от большевиков. Но я думаю, вы – сын Каюм-сердара, богатого и знатного аксакала, не посмеете поднять руку на отца.
Ратх побледнел, но молчать нельзя. Сказал сдержанно:
– Руку, конечно, я никогда не подниму на своего отца, но обе отары придется отдать беднякам.
Сейид-оглы рассмеялся мелким злым смехом, а Каюм-сердар заерзал на месте, закрутил головой, словно в нос ему ударило вонью.
– Ратх, – сказал он, стараясь быть вежливым и спокойным, – покинь нас или извинись перед гостями за свои глупые слова.
– Я сказал правду, отец, – поднявшись, проговорил Ратх. – Не сегодня-завтра тебе придется отдать не только овец, но и землю, и воду. Будь благоразумным, не оказывай сопротивления. Если воспротивишься ты, то окажут сопротивление и другие. Но тогда, поверь мне, пощады никому не будет. Мы один раз вас простили. В другой раз не просите прощения. Пойдем, Иргизов.
Они вышли во двор. Никто – ни Каюм-сердар, на Сейид-оглы не сказали им вслед ни слова.
Возвратясь в свою комнату, Ратх, как ни в чем не бывало, сказал:
– Тамара, завари чай. Все-таки, без чая стол – не стол, если даже на нем вино и коньяк.
– Слушай, Ратх, – посоветовал Иргизов, – может быть тебе переселиться из этого двора? Сними комнату в центре города или подай заявление Сахатмурадову – пусть выделит казенную квартиру.
Ратх решительно возразил:
– Ни я, ни мой отец из этого двора не уйдем, пока не найдем общий язык. Я должен заставить их поверить в справедливость наших дел, иначе какой из меня большевик!
– Так-то оно так. И я тоже за то, чтобы все шло мирно, но прежде чем ты убедишь их в правоте советской власти, они пустят пулю тебе в окно, – сказал Иргизов.
– Все может быть. Постараюсь быть осторожным, но отворачиваться от борьбы не стану. Вся тяжесть борьбы настоящего момента и заключается в том, что мы должны победить в самых малых наших ячейках – в семьях и родовых кланах. За Амана боюсь, как бы он опять не попал под их влияние.
– А вот и твой брат идет сюда, – Иргизов кивнул на дверь.
Оба посмотрели на Амана и поняли: он пришел, чтобы продолжить разговор.
– Ратх, – попросил он, потупившись. – Мне бы хотелось поговорить с тобой один на один. Прости, Иргизов, за откровенность. Отец и эти все считают, что русский мешает Ратху быть самим собой. В голове у них не укладывается, чтобы сын мог пойти против собственного отца.
– Все правильно, – сказал Иргизов. – Может быть, без меня и найдете общий язык. Я не буду мешать.
– Хорошо, Иргизов, – согласился Ратх. – Если они думают, что моими мозгами управляют посторонние, то я постараюсь их разубедить в этом. Давай выйдем, Аман.
– Не горячись, Ратх, – удержал его Иргизов.
Братья удалились во двор…
– Ну, говори, – сказал Ратх, первым спускаясь с веранды.
– Может, зайдем туда, к отцу?
– Нет. Там мне нечего делать. Разве не отец велел мне удалиться? Я выполнил его просьбу.
– Ратх, ты, ради аллаха, не обижайся так сильно.
Отцу семьдесят пять лет скоро. Он воспитался на том, что всю жизнь повелевал бедняками, множил богатства и большего ничего не желал. Единственно, что он еще желал – сделать и нас с тобой богачами. Мысли и чувства его по отношению к нам – самые искренние.
– Ты считаешь, что заблуждение не может быть искренним? – засмеялся Ратх. – А заблуждение отца состоит в том, что он печется только о нас с тобой, а не обо всем народе.
– Ну и сказанул же! – удивился Аман. – Если каждый будет думать обо всем народе, то сам никогда вдоволь не насытится, да и ходить будет по улицам с голым задом. Хе-хе… Признаться тебе, я так и не понял: грозил ты для солидности или говорил правду, когда упомянул насчет двух отцовских отар?
– Я думаю так, Аман, – поразмыслив, сказал Ратх. – Если отец сам не прикажет чабанам сдать овец союзу «Кошчи», то ты поедешь в пески и сделаешь это.
– Не выдумывай, Ратх. Ты сходишь с ума. Я отдал восемь своих скакунов в государственную конюшню. Неужели этого мало?
– Дело не в «мало» или «много», а в том, что человек не может владеть таким большим богатством. Мы должны поделить овец между всеми, у кого их нет. Равенство и братство – вот наше кредо.
– Значит, если я тебя правильно понял, у отца теперь будет только тридцать пять овец? – ужаснулся Аман.
– Ровно столько же возьмешь из отары и ты, поскольку у тебя – собственная семья, – пояснил Ратх. – Что касается меня, мне овцы не нужны. Я живу на собственный заработок.
– Всего семьдесят овец из двух отар, – упавшим голосом заговорил Аман. – Надолго ли их хватит? Мы даже пасти их не сможем – чабану платить будет нечем. Не поеду же я в пески чабаном!
– Ты сможешь сдать своих овец в коммуну, – пояснил Ратх. – На днях мы займемся созданием коммуны в нашем ауле. Мы объединим дехкан в коммуну: они будут трудиться сообща, и весь скот будет общим.
– Братишка, что-то ты путаешь, – возразил Аман. – Я же служу на ипподроме. Как же я могу быть на ипподроме и в коммуне одновременно?
– Ты прав, Аман, тогда так: отдашь овец коммуне, а жить будешь, как и я – на зарплату.
Аман перестал спорить. Сделал такой вид, будто все понял, со всеми доводами согласен. Посмеиваться начал над новыми порядками, над реформой. Пошутил немного и спросил:
– Так когда мне ехать в пески к чабанам?
– Аман, только без глупостей, – предупредил Ратх. – Может ты надумал опять уйти к ним? Если так, то пожалеешь, но будет поздно.
– Не бойся, младшенький, постараюсь не подвести тебя. Я ведь тоже понимаю, о чем ты больше всего беспокоишься. Ты боишься за свою партийную репутацию. Я все время думаю: как это Ратху Советская власть доверяет, когда у него отец и брат никудышние люди?
– Аман, ты ведь знаешь: доверие это я заслужил не сегодня, – упрекнул брата Ратх. – С этим доверием я живу уже двадцать лет. Ни ты, ни отец не сможете его пошатнуть.
– Ну что ж, Ратх, я должен вернуться сейчас к отцу и сказать всем им, что ты непреклонен: судьба его отар решена. Сын посягает на отцовское богатство. Сказать им, что ты меня посылаешь в пески? – начал дурачиться он.
– Можешь сказать… Делай, как подсказывает твоя совесть.
Аман вошел в отцовскую мазанку. Ратх поднялся на веранду, облокотился на перила.
«Неужели силой придется вырывать у отца отары? – подумал с горечью. – Ведь понимает же он, что ни мне, ни Аману его овцы не нужны. Самому – тоже. Или он, как истинный мусульманин, верующий в аллаха, считает, что возьмет овец вместе с собой на тот свет? Но это же глупость. Можно верить в аллаха, но верить в потусторонний мир со всеми его прелестями, смешно. Скорее всего это жадность, и в таком преклонном возрасте ее одолеть невозможно. Несусветная жадность сформировала все его отрицательные качества! Его поступками движет забота о себе самом и о своем потомстве. А остальные? Остальные для него пусть пропадут пропадом. Он не думает, что помимо пищи плотской существует пища духовная. Он не знает, что стоит почувствовать духовный голод, как в человеке появляется чувство ко всем, и забота обо всех. Но разве думал он когда-нибудь, что его народ со дня образования самой нации был голоден, бос и бесправен?»
Ратх разогнулся, услышав голоса. Отец с гостями шелпо аллейке к воротам.
– До свидания, болшабик, – по-русски сказал, увидев Ратха на веранде, Сейид-оглы. – Не забудьте сказать своим: крепко вы обидели нас.
– Саг бол, – попрощались другие и ушли со двора.