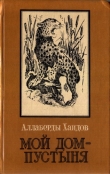Текст книги "Разбег"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
– Чары, не обессудь меня, – сказал Иргизов, – но старые методы руководства, действительно, сегодня себя изжили и никуда не годятся. Открытая война, считай, кончилась.
– Кончилась?! – не соглашаясь, крикнул и встал из-за стола Чары-ага. – Ничего не кончилась – только начинается!
– Кончилась, – спокойно возразил Иргизов. – Сейчас такое время, что надо бороться только вниманием и заботой.
– А разве я тебе говорю не об этом! – Чары-ага выплеснул из пиалы остывший чай и налил новый. – Жизнь – нитка, а я неуклюжий верблюд: потянул и порвал. Такой я. Мне хоть десять «строгачей» давай, но все равно я Куванч-бая по голове не поглажу: рука у меня не для этого. Вообще, я не хочу больше говорить о Куванч-бае. Ваня, помоги мне поступить на текстильную фабрику. Ты же знаешь – моя давняя мечта сделать дочерей и жену ткачихами. Еще в двадцать пятом, когда туркменские девушки в Реутово собирались, я жалел: «Эх, почему мои девчонки маленькие!» А сейчас обе подросли. Мечтают о ткацких станках.
– Ну, что ж, если ты всерьез решил, то пойдем на фабрику, – сказал Иргизов. – Директора я немного знаю. Бывший кавалерист, политработник. Поймет нас, так я думаю.
Выйдя из Дома дехканина, они устремились по пыльной немощеной дороге в сторону аула Кеши, затем свернули на Чарджуйскую. Отсюда, с перекрестка, открылся вид на только что выросшую на окраине города фабрику. Громадный корпус стального цвета, с огромными окнами и высокой башней с часами возвышался над низкими домиками персидских кварталов, над садами и посевами джугары.
Строительство текстилки уже было завершено. В цехах велись отделочные работы. Во дворе достраивались складские помещения и навесы для хлопковых кип. Пока еще не завезли прядильные и ткацкие станки: их ждали со дня на день. Предполагалось осенью станки поставить в цехах, а к новому 1930 году пустить фабрику в производство.
Директора друзья отыскали в строящемся жилом текстильном городке, отделенном от фабрики только что разбитым сквером. Городок текстильщиков был уже обнесен кирпичным забором. Вдоль широкой центральной аллеи стояли новые, под жестью, бараки. С крыш и веранд разносился стук молотков и скрежет пил. Вдоль аллеи молодежь поливала молоденькие тополя. Директор работал вместе с комсомольцами. В белой рубашке, с засученными рукавами, он окапывал саженцы. Увидев Иргизова, положил лопату, отряхнул руки:
– Здравствуйте, Иван Алексеевич. Чем могу служить?
– Да есть разговор. Вот, познакомься: мой друг Чары-ага Пальванов. Не только друг, но и бывший вояка. В двадцать первом он командовал туркменским отрядом. Ты-то, как мне помнится, в ту пору по Восточной Бухаре путешествовал?
– Наш полк стоял в Вахшской долине, под Курган-Тюбе, – сказал директор. – Но, как говорится, отслужился, – теперь иная служба. Посмотрите, какой дворец труда отгрохали! Это же не фабрика, а дворец, ей-богу! А клуб какой! Видели клуб? Я уже не говорю о нашем жилом городке. Скоро приедут ученики из Реутово, Егорьевска, из Твери – поселятся в этих теремах.
– Хватит рабочей силы, чтобы фабрику пустить? – спросил Иргизов.
– Хватит. По аулам наши товарищи ездят, вербуют туркменочек на производство.
– Охотно едут?
– Да всякое бывает, но желающие есть.
– Вот, рекомендую тебе, Демьянов, Чары-агу, с семьей. У него жена и две дочери.
– Да ну?! – оживился директор. – Это интересно. А сколько лет дочерям?
Чары-ага нахохлился, разгладил бороду.
– Большие уже. Одной пятнадцать, второй семнадцать.
– А жилье есть?
– Ай, нет пока. – Чары-ага отмахнулся. – Найдем кибитку. Жилья не будет – свои две юрты привезу, поставлю рядом с бараком.
– Ну, зачем же юрты? – смутился директор. – Тут у нас новый социалистический городок. Юрты ваши ни к чему. – Он задумался. – Значит, вы отрядом командовали?
– Да, товарищ директор. Именно, отрядом.
– А сами у нас не собираетесь поработать? Вы, как командир, могли бы помочь мне в вербовке рабочих на фабрику! Поедете по аулам, уговаривать людей. Как на это смотрите?
Чары-ага не ожидал такого поворота дела: смутился даже. Иргизов понял его по-своему.
– Чары-ага, соглашайся. Только запомни – тут саблей махать не надо. Только уговоры.
– Да, я согласен. – Чары-ага подал руку директору в знак согласия.
– Проедете от Ашхабада до Бахардена, а потом видно будет. Пока будете заниматься вербовкой, я подберу вам должность.
Чары-ага еще раз сердечно встряхнул директору руку:
– Спасибо, дорогой. Большое тебе спасибо.
– А что касается жилья, – рассудил директор, – я думаю так. Вон, видите, второй барак строится? Включайтесь в бригаду. К осени получите квартиру, и семью перевезете. Пойдемте, представлю вас десятнику.
Вместе осмотрели строящийся барак. Стены его уже были возведены до крыши. Вверху несколько плотников прилаживали стропила. Чары-ага поднялся по лестнице, по-хозяйски потрогал кирпичи, поздоровался с работягами, крикнул сверху:
– Ну, что, Ваня. Наверно, я останусь здесь. Скажи, где тебя разыскать вечером?
– Да дома, где же еще. Знаешь Артиллерийскую? Возле площади Карла Маркса. Дом прямо на углу. Спросишь – подскажут. Обязательно приходи. Мы тебя ждать будем. Познакомлю тебя с женой. – Иргизов посмотрел на часы. – Я ведь к тебе на полчаса отлучился. Извини, Чары, спешу на службу – дела есть, – Иргизов подал руку директору.
Чары-ага остался в городке.
Увлекшись работой, он не заметил, как свечерело: солнце опустилось за хребты Копетдага. Строители, один за другим, начали складывать инструмент. Потянулись домой. Но не все. Некоторые здесь же, на недостроенных верандах, садились за ужин. Во дворах задымились печи, запахло съестным. Чары-ага умылся под водопроводом и хотел было уходить, чтобы завтра утром снова вернуться сюда, но рабочие его остановили.
– Дост, садись, поужинаем вместе, – пригласил один туркмен в тельпеке. – Куда спешишь? Топором ты работал ловко, да и кирпичи укладывал не хуже остальных. Хотелось бы посмотреть, как будешь орудовать ложкой. Шурпа сегодня у нас. Жена приготовила. Чуешь, как пахнет бараниной?
– Откуда ты сам? – спросил Чары-ага. – Кажется, Непесом тебя зовут?
– Да, дорогой, я – Непес, из Бахардена. Вот приехали со старухой помочь сыну. Садись на ящик, чего стоишь. Сын у нас в Твери учится. Скоро вернется – помощником мастера ткацкого дела будет. А мы ему дом строим.
Вскоре вокруг Непеса сидело человек восемь – все туркмены. Все из аулов. Один из них, молодой парень, Клыч, – недавно вернулся из Москвы: ездил к жене, – начал рассказывать о том, как живут и учатся посланцы Туркмении в Реутово. Непес, слушая его, спросил:
– Слышали мы, что дом там какой-то построили. Вроде бы сам Атабаев строил.
– Да, друзья, это прекрасный дом, – подтвердил Клыч. – Атабаев, конечно, его не строил – неудобно ему было с кирпичами возиться. Но чтобы дом построить, он в Реутово не раз приезжал. Говорят, у Калинина в гостях бывал, со Сталиным разговаривал. Все вместе они думали – каким должен быть туркменский дом. Люди говорят: вроде бы, товарищ Калинин посоветовал построить дом в виде кибитки. Огромный каменный дом, круглый, как кибитка, и со всех сторон в этот дом прорубить двери. Калинин же в двадцать пятом у нас в Туркмении был, заходил в войлочные, кибитки туркмен – понравились они ему.
– Значит, товарищ Атабаев текстильными делами тоже интересуется? – насторожился Чары-ага.
– А как же, дорогой! – весело отозвался Непес. – Три дня назад заходил сюда, смотрел, как мы строим бараки. На фабрике в цехах был. Сказал – со дня на день ждем оборудование. Пообещал зайти еще.
Чары-ага примолк, подумал с опаской: «Придет еще раз – увидит меня, сразу узнает. Скажет: как ты сюда попал, да еще с выговором? Может, бороду сбрить – тогда не узнает? Все тут почему-то бритые, с голыми подбородками». Приуныл Чары-ага, стал думать о том, как все у него хорошо началось, и как все плохо может кончиться. Тут жена Непеса принесла шурпу в огромной чаше. Гости взялись за ложки: беседа пошла еще живее. Насытившись, Чары-ага достал из кармана большие круглые часы с медной цепочкой, поднес их к лампе.
– Да, Непес-джан, засиделся я, – сказал виновато. – Одиннадцатый час уже. Надо идти. В Доме колхозника я живу.
– Э, дорогой, куда идти в такой поздний час? – остановил его Непес – Не успели познакомиться, только разговор начали, а ты уже собираешься уходить. Сиди – сейчас еще чаю попьем. И вообще, какой разговор! Оставайся здесь ночевать. Сколько бараков – и все пока пустые. Места много, постель найдется. Да и вставать, опять же, рано. В шесть утра начнем работу. Чары-ага вспомнил об Иргизове, о его приглашении, подумал: «Ничего… Не обидится». И остался ночевать у Непеса.
Наутро Иргизов приехал к текстильщикам на коне. Процокал по аллее городка, собак поднял на ноги, строителей отвлек от работы.
– Чары-ага, что случилось? Как тебя понимать? Мы ждали тебя весь вечер – не дождались.
– Ваня, дел было много, – извинился Чары-ага. – Ты езжай на службу, за меня не беспокойся. Долго я тут, наверно, не задержусь. Может быть; даже придется возвращаться к семье, в Карабек. Оказывается, сюда все время заглядывает Кайгысыз. Увидит меня здесь – вряд ли потерпит, чтобы человек с выговором на текстильной фабрике работал.
– Ну, Чары, я не узнаю тебя! – невесело засмеялся Иргизов. – Тоже мне – командир. Работай, и ни о чем не думай. Думай лучше, как тебе сюда побыстрее семью привезти. Вечерком – ко мне. Не придешь – обидишь…
Через неделю Чары-ага, командированный директором завода, уже ездил по Геоктепинским и Бахарденским аулам. В гимнастерке защитного цвета, в галифе и шапке-кубанке, он совсем не был похож на того Чары-агу, которым его видели раньше. Не только друзья, но и жена родная не узнала бы его, встретив в такой полувоенной форме, а главное – без бороды. Из поездки Чары-ага возвратился с несколькими семьями. Осторожные сельчане приехали на арбах и прихватили с собой разобранные юрты. В городок не пошли – даже смотреть не захотели. Поставили кибитки в отдалении от фабрики. Затем к ним присоединилось еще несколько семей – появился на окраине небольшой рабочий аул…
Время для Чары-аги шло незаметно. Пока он ездил по аулам, на фабрику прибыли станки. В цехах шел монтаж. Приехали из Реутово, Твери, Егорьевска обученные текстильщики. Рабочие бараки заполнились энергичными людьми. Директор фабрики как-то раз вызвал Чары-агу к себе в кабинет:
– Ну, что, товарищ Пальванов. Решили мы сделать вас своим экспедитором-заготовителем. Поедете на хлопкоочистительные заводы в Мары, Чарджуй – заключите договоры на поставку хлопка для фабрики. Семью заодно перевезете. Скоро пуск производства – пусть ваши дочери подучатся у опытных мастериц ткацкому делу.
– Спасибо за доверие, – расчувствовался Чары-ага. – Я оправдаю ваше доверие.
– Ну, какая может быть благодарность, – сказал директор. – Это я вас должен благодарить за то, что вы уже сделали для фабрики.
– Когда ехать? – спросил Чары-ага.
– В понедельник можете отправляться – мы подготовили нужные документы, а пока зайдите в ЦК партии, вас пригласили на десять. Собственно, я и вызвал вас для того, чтобы сказать.
Чары-ага потускнел. Голос у него сразу упал, сделался не своим:
– А зачем вызывают, не знаете?
– Не знаю, товарищ Пальванов. Но в ЦК по пустякам не вызывают. Был небольшой разговор, о вас…
Чары-ага, войдя в приемную секретаря, стал ожидать вызова. Но вот его пригласили в кабинет.
Войдя, Чары-ага увидел за столом нескольких человек, в их числе Кайгысыза Атабаева. Попятившись, Чары-ага схватился было за бороду, которой давно у него не было, и жестом своим рассмешил сидевших за столом.
– Товарищ Пальванов, а где же ваша борода? – смешливо прищурившись, с некоторым недоумением спросил Атабаев.
– Какая борода? – удивился Чары-ага, и опять взялся за подбородок. – А… Вы говорите о моей бороде… Да нет ее давно… Зачем она мне?
– Как работается на новом месте? – поинтересовался Атабаев. – Людей не обижаете?
– Товарищ Атабаев, что вы! Я никогда никого не обижал, не считая врагов Советской власти.
– Ладно, присядьте… Мы вас вызвали, чтобы сообщить: строгий выговор, вынесенный вам весной, с вас снимается. Партбюро разобралось во всех обстоятельствах и признало вас невиновным.
– Спасибо, товарищи. – Чары-ага гордо выпрямился и улыбнулся.
– Как семья? Не перевезли еще в Ашхабад?
– Нет пока.
– Поторопитесь, к новому году – пуск фабрики.
– В понедельник я поеду по делам, и за семьей. – Чары-ага принялся было рассказывать все в подробностях, но Атабаев остановил его:
– Счастливого вам пути, товарищ Пальванов. И успехов в работе. Будьте всегда внимательны к людям. Можете идти…
XVIII
Весной, до выхода кавполка в летние лагери, Иргизов уволился в запас. Сколько раз оставляли его рапорты без внимания, а тут помог случай. Объезжая жеребца, вылетел Иргизов из седла, сломал руку – больше месяца пролежал в госпитале. Пока был в гипсе, Нина каждый день приходила к нему в палату, уводила во двор и там, прохаживаясь по аллее, говорили они – как им жить дальше. Решили, что Иргизов подаст документы в САГУ, на исторический факультет, Нина же спишется с узбекским театром, где, наверняка, не хватает актрис, и уедут они в Ташкент. Уговорились и начали действовать. Примерно через месяц Иргизова, правда с трудом (вмешался опять Морозов, чуть было не испортил дело), комиссовали. А еще через неделю Нина получила письмо из Ташкента, от главного режиссера. Главреж писал, что с удовольствием ждет ее на заглавную роль в «Интервенции», которую он собирается ставить.
Немного покапризничала Зина: страшно оставаться одной. Пристыдил Иргизов сестренку: ей ли кукситься! Из Оренбурга до Ашхабада добиралась, на чем бог послал, не дрогнула, не растерялась, хотя всего-то было ей тринадцать лет. А теперь – двадцатилетняя красавица с медицинским образованием, заведующая здравпунктом прядильно-ткацкой фабрики. Да и надолго ли уезжают они с Ниной?
На всякий случай Иргизов позвонил в Наркомздрав Тамаре Яновне, попросил, чтобы присматривала за Зиной. Красовская с удовольствием согласилась, и тоже не высказала никаких опасений. Напротив, пожурила свою ученицу, когда встретила ее, чтобы нюни не распускала, а дала возможность брату получить высшее образование.
Иргизов с Ниной стали готовиться в дорогу. Уже накануне самого отъезда, когда Нина зашла в театр, чтобы проститься с друзьями, режиссер предложил ей выступить на городском вечере, в честь создания Все-туркменского объединения писателей. Нина охотно согласилась – решила прочесть со сцены любимые стихи.
В тот же день Иргизов позвонил Аману и Ратху – пригласил их на вечер. От обоих получил согласие. Согласилась пойти в театр и Зина. В фойе встретились с Аманом и Галией.
Зал театра был полон. Зрители заняли все ряды. Некоторые стояли в проходе. В ложах и бельэтаже тоже тесно. Пестро от цветастых платков – это первый туркменский пролетариат – работницы недавно вступивших в строй текстильной и шелкомотальной фабрик.
Средняя часть зала выделяется форменной черной робой железнодорожников. За ними – зеленая полоса: командиры и красноармейцы. Аман с Галией и Иргизов с сестрой в этой полосе.
Галия-ханум в вечернем, черном платье, с белым ридикюлем. Зина нервничала: кажется, Галия – единственная из присутствующих женщин разрядилась «в пух и прах». Зина касается плечом се шикарного шелкового платья, от которого пахнет духами, и стыдливо отодвигается: всё-таки, Зина Иргизова – комсомолка, а тут такой шик… Она смотрит в президиум на сцену и ей кажется, все писатели смотрят на Галию и не сводят с нее глаз. Вот на трибуну поднялся Мурадов. Встретили его аплодисментами. Он соединил руки над головой, приветствуя новый, нарождающийся рабочий класс Туркмении, по посмотрел, как показалось Зине, на Галию-ханум. «Надо же было Ивану посадить меня рядом с ней! – подумала она стесненно. – Сел бы сам… А то сами с Аманом отодвинулись, разговаривают между собой, а я должна отвечать на вопросы этой павы и слушать ее восхищения».
– Мурадов сегодня прямо бесподобен, – сказала Галия-ханум. – Посмотрите, как он держится. Усики какие отрастил… – И Оразов – тоже…
– А почему Тамара Яновна с мужем не пришли? – спросила Зина, чтобы не казаться совсем уж дикушкой.
– Ах, девочка, у них там такое теперь. Ратха же сняли с должности, передвинули куда-то.
– Да? А я и не знала, – удивилась Зина. – Ваня мне ничего об этом не говорил.
Иван Иргизов сам только сейчас узнал от Амана о некоторых переменах. Оказывается, приезжал секретарь Средазбюро ВКП(б) товарищ Кахиани.
– За что же, конкретно, сняли Ратха? – с недоумением спросил Иргизов, и оглянулся на сидящих рядом, красноармейцев. – У него же партийный стаж с девятьсот пятого. Могли бы учесть. Да и прислушаться к его принципиальности следовало бы.
– Его подвел Бабаораз, – тихонько отозвался Аман. – Бабаораз представил материалы о сплошной коллективизации в Чарджупском округе. Ратх подтвердил данные. А потом все это назвали «левацкими» ошибками, перегибами, и отменили прежнее решение. Да и какая там коллективизация! – усомнился Аман. – Дехкан загоняли в колхозы силой. А теперь опять действует басмачество, и колхозы разваливаются.
– Да, дела, – с сожалением сказал Иргизов. – Вероятно, поэтому и не пришел сегодня Ратх?
– А почему же еще. Он, знаешь, какой самолюбивый. Партия для него – все на свете. Она ему заменяет и отца, и мать, и брата. Ратх так переживает, словно тяжело заболели все его близкие.
– Да, дела…
– Чего ты все время «дакаешь», – рассердился Аман. – Время опять начинается такое, что не дай бог. У нас уже поговаривают – скоро оба полка двинутся в Каракумы. Басмачи уже совершили налет на Ташаузский округ.
– Так, наверное, и будет, – согласился Иргизов.
– Так, конечно, – уточнил Аман. – Но у тебя не так. Зачем ты уезжаешь в такой момент? Разве твое место в университете? Твое место на коне, в кавалерийском эскадроне.
– Аман, все давно решено. Вещи собраны. – Иргизов помолчал, посмотрел на сцену, где сменился выступающий, и добавил: – Я не пришел бы сегодня сюда. Только ради Нины. После собрания концерт. Она будет читать Блока. Это ее последнее выступление в ашхабадском театре.
– Слышал уже, – сказал Аман. – Галия мне говорила. Но мы не очень-то радуемся вашему отъезду. Ты меняешь конское седло на коровье, – понял?
– Еще бы не понять!
– Твою археологию я вообще не признаю.
– Ладно, потише, на нас с тобой уже люди смотрят. Вон смотри, Кермолла выходит.
Шестидесятилетний старик в тельпеке и халате, поднявшись на трибуну, начал читать стихи о большевиках.
Туч больше нет. На небо вышла луна.
Ночь ушла. Пришел яркий день.
Нет царя. Давно прогнали царя.
Молодец ты – правишь страной, большевик!
Зал зааплодировал. Кермолла рассказал в стихах о победе большевиков, поклонился и гордо сел на место. Ему долго хлопали, и председательствующий попросил, чтобы Кермолла выступил еще. Старый поэт, однако, лишь приподнялся со стула, еще раз раскланялся и сел.
– Я понять не могу, Ваня, что тебе даст археология? – сказал Аман. – Я все в тебе понимаю. У тебя добрая душа, ты любишь женщин. Еще больше любят женщины тебя. Все правильно: так и должно быть, потому что женщины – это жизнь и продолжение жизни. А археология – что?
– Археология – воскрешение жизни, – ответил Иргизов. – Я хочу оживить всех когда-то погибших великих людей. И не только людей, но и целые эпохи, в которые жили великие люди.
– Товарищи, можно, в конце концов, потише, – попросили сзади.
– Все, молчим, – сказал Аман, оглянувшись, и спросил: – Интересно, долго еще будут выступать поэты.
– Сиди. Все равно, пока моя жена не выступит – никуда не уйдем. Вон, опять Мурадов на трибуне, смотри.
– Хороший парень, – подтвердил Аман. – Он мне нравится. Но тоже не пойму, зачем он в поэзию ударился? Медресе окончил, ученый человек, а сочиняет стихи. Слушай, о чем говорит!
Иргизов не согласился:
– Хорошо говорит, брось незаслуженно обижать человека. О раскрепощении женщин никто пока не писал. Он первый.
Через несколько минут начался концерт. Выступили туркменские бахши. Показали отрывок из «Ревизора» артисты Туркменского драмтеатра. Женскую роль в отрывке исполнял мужчина, знакомый Амана, и это доставило ему особое удовольствие. Он все время наклонялся к Иргизову и, смеясь, шептал:
– Это Курт. Я его давно знаю. Он моложе меня лет на пять. Это первый бабник был, клянусь. А теперь сам вышел на сцену женщиной. Вот как меняется жизнь, Ваня. Один из красного командира превратился в археолога, а другой – из мужчины в женщину!
– Эй, прекратите же вы! – опять потребовали сзади.
– Ладно, все. Молчу. Извините. – Аман разогнулся, привалился к спинке стула и стал смотреть на сцену.
Нина Ручьева вышла в длинном, до пят, светло-голубом платье. Иргизов замер. Аман сказал тихонько:
– Сиди тихо, а то еще скажешь ей что-нибудь.
Зина пододвинулась к Галие-ханум.
– Правда, у нее красивое платье? Мы вместе с ней шили.
– Ах, Зиночка, она так мила, – ответила Галия.
Нина свела ладони. Громкий бархатный голос актрисы заставил замереть всех. Нина читала Блока «На поле Куликовом». Читала не торопясь, с какой-то, незнакомой доселе Иргизову, приподнятостью.
Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.
В степном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь…
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль…
Аман опять приклонился к Иргизову. Тот вздрогнул, поморщился: любые слова сейчас неуместны.
– Ваня, это она о ком?
Иргизов отыскал руку Амана, пожал. Когда Нина прочитала и, после долгих аплодисментов, ушла со сцены, сказал:
– Это о нас.
Публика, выйдя из театра, растекалась по улицам и улочкам Ашхабада. Два молодых актера, держа под руки Нину Ручьеву, подвели ее к Иргизову.
– Пардон, дорогой товарищ, – сказал один. – Вот ваша возлюбленная.
– Идите, гуляйте, – грубовато спровадил их Иргизов.
Галия и Зима тотчас подхватили Нину под руки и защебетали около нее, словно весенние ласточки.
– Ну, что, Аман, едем в Гранд-Отель? – предложил Иргизов.
– Ну, разумеется. Как ты скажешь, так и будет. Стол давно заказан…
На другой день, с утра, укладывали вещи. Хлопотала, в основном, Нина: складывала все, что могло пригодиться. Иргизов не находил себе места. Наконец, оделся, вышел из дому и вскоре был у Каюмовых.
Ратха нашел в глубине двора: он стоял возле клумбы с распустившимися розами и внимательно смотрел на них. Иргизов окликнул его, но Ратх не услышал.
Иргизов еще раз, погромче, окликнул Ратха. Тот обернулся. Сухое, сосредоточенное лицо подернулось скупой улыбкой. Он вынул руки из кармана вельветовой жилетки и подал руку:
– Здравствуй. Извини, что вчера не смог разделить с тобой застолье. Признаться, не хотелось тебе портить настроение. Вы с Ниной уезжаете, у вас настроение, а я, как видишь…
– Ратх, что, все-таки, случилось? Где ты теперь? Говорят, тебя освободили от должности инструктора?
– Я теперь в Осоавиахиме, – усмехнулся Ратх. – Тоже – инструктором. Бюро решило, что именно в Осоавиахиме подходящ метод командования, а в колхозах командовать нельзя.
– Ратх, но, наверное, так оно и есть, – мягко заметил Иргизов. – Надо вырабатывать в людях сознательность. А это делается постепенно.
– Ты еще! – вспылил Ратх. – Вот такие, как ты, добряки, и портят все дело! Наша революционная сознательность формировалась иначе. Нас уговаривали, убеждали, пугали, чтобы мы не шли против царского строя, но мы брали оружие! Нас били по головам, гноили в тюрьмах и ссылках! Нас расстреливали пачками. Нас вешали на площадях! Вот так формировалось наше сознание! А теперь за то, что я раскулачиваю врагов Советской власти и записываю их в колхоз, чтобы перевоспитать в коллективе, меня снимают с должности. Нет, Иргизов, выльется вам ваша доброта кипятком на голову. У туркмен есть поговорка: «Камыш крепко не зажмешь – пальцы порежешь». Вы забыли эту поговорку!
– Каюмыч, да ты что? – удивился Иргизов. Таким разгневанным он еще не видел Ратха. – Ты успокойся, Каюмич. Я знаю, что ты человек бескомпромиссный, как говорится: или – или… Но сейчас такое время… Даже не знаю, как точнее сказать… Словом, жизнь начинает строиться на доверии… Одно доброе слово сильнее десяти строгих.
– Да брось ты, – отмахнулся Ратх. – Ты и такие, как ты, заблуждаетесь. Вы сняли с обстановки строгость. Вы разрядили ее. Но не сегодня, так завтра вы пойдете с саблями наголо против басмачества, потому что ослабили обстановку и дали возможность басмачам ополчиться на Советскую власть. Завтра вы будете рубить басмачей и кричать, что занимаетесь самым гуманным делом. Но вы могли бы не допустить кровопролития, если б не развенчали нашу строгость. Революционную строгость! С вас это спросится. Времена меняются, Иргизов. Вы выставляете себя людьми добрыми, но вы – просто либералы.
– Каюмыч, опомнись. Ну, что ты взбеленился? – пошел на примирение Иргизов. – Ну какой я либерал? Просто я терпеливее тебя. Я прощаю девять смертных грехов из десяти каждому грешному человеку. И тоже тебе приведу хорошую пословицу: «Терпение и труд – все перетрут».
– Терпение – добродетель ослов. Так когда-то высказался один умный француз, – Ратх скривил губы в ухмылке.
Спору не было видно конца. И если б не женщины, вернувшиеся из магазина, долго бы еще вздорили боевые друзья. Но вот донесся требовательный голос Тамары Яновны:
– Ратх, что все это значит?! Ты почему так ведешь себя с гостем?
– Какой еще гость! – отмахнулся Ратх. – Друг не бывает гостем. С Иргизовым я говорю, как с самим собой. Сам себя переубедить не могу, а Иргизов со мной справиться не может.
– Ах, какой ты самокритичный! – рассердилась Тамара Яновна. – Придется мне взяться за тебя, раз ни сам, ни Иргизов не можете привести в порядок нервы.
Подошла Галия. Посмотрела озабоченно на осунувшееся лицо Ратха, улыбнулась.
– Стоит ли убиваться из-за всяких пустяков? Вчера мы весь вечер думали о тебе, деверек, переживали, а оказывается тебя сделали инструктором Осоавиахима! Но эта же служба гораздо чище, чем ездить по аулам! Планеристы, парашютисты, мотоциклисты… Это же так интересно!
Ратх с досадой вздохнул.
– Галия-ханум, очень жаль, но вы мало разбираетесь в нашем деле. Ну да, ладно, не будем говорить об этом. Кажется, я попортил всем вам настроение. Простите меня. Как дела у вас в интернате? Давно не интересовался.
– Ах, деверек… – Галия вдруг плотно сжала губы, отчего они скривились, и полезла в карман за платочком, чтобы промокнуть на глазах слезы.
– Что с вами, Галия? – насторожился Ратх.
– Что-нибудь случилось? – перепугался Иргизов.
– Со мной-то ничего… А с другими… Сейчас, когда шла из магазина, я встретила нашу заведующую. Она мне сказала, что басмачи в Тахта убили мою бывшую соседку Джерен. Молодая такая, прямо красавица. Заведующая говорит: пришли басмачи в Тахту, приказали всем женщинам, чтобы немедленно надели яшмак и не показывались нигде без яшмака. Тогда Джерен собрала всех подружек и сказала: «Не хочу жить под яшмаком! Хочу жить с открытым сердцем». Сказала так, а ночью пришли к ней в кибитку человек десять и вырезали ей грудную клетку. «Живи с открытым сердцем!» – сказали… и ушли… Два дня Джерен жила с открытым сердцем, потом умерла. – Галия расплакалась…
Ратх стиснул зубы. Иргизов нахмурился. Долго молчали. Наконец, Ратх не выдержал:
– Вот она, ваша доброта! Вот! Вы их уговариваете, а они отвечают зверствами. Да какими зверствами! Какая изощренность? Палачи средневековья позавидовали бы! Нет, Иргизов… Я никогда не соглашусь с тобой. Пусть я допустил «левачество», но и вы допускаете либерализм!
Две черноглазые девчушки – дочери Амана принесли и поставили на тахту большой фарфоровый чайник и две пиалы. Ратх взялся за чайник. Иргизов озабоченно посмотрел на часы:
– Каюмыч, мне ведь некогда. Я зашел проститься с тобой.
– Спасибо, Иргизов, но я все-таки приду на вокзал, провожу тебя. Ратх налил чай и бросил в пиалу кусочек сахара. – В конце концов, я не из таких, которые вылетают из седла при первом же встречном ударе. Мы еще повоюем за истину.