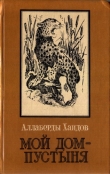Текст книги "Разбег"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
– Вот ты, оказывается, к чему ведешь! – рассмеялся Иргизов и налил из графина в бокалы. – У меня складывается представление, что там, где находишься ты, всегда самое главное место. Но ты не прав, Ратх. Ты говоришь об опасностях извне… Почему же тогда расформированы наши туркменские кавалерийские полки? Если нам грозит война, то, наоборот, надо заниматься укреплением кавалерийских частей! Разве не так?
– Не так, мой друг. Все дело в том, что кавалерия в предстоящей войне не сможет стать главной, ударной силой. Предстоящая война – война моторов: нам нужны танки, броневики, аэропланы. Мы, осоавиахимовцы, готовим нашу молодежь для службы в Красной Армии… Создаем оборонные кружки на предприятиях, в школах, открыли, несколько клубов: планеристов, парашютистов, ворошиловских стрелков… Так что, твое место, Иргизов, на стрежне… Еще не поздно. Я бы посоветовал тебе подумать как следует… Ну да ладно, будем общаться – глядишь, и договоримся. Во всяком случае, покоя тебе с твоей археологией не будет…
Разговор этот продолжался бы и дальше, но неожиданно появился Аман. Прежде чем увидеть его перед собой, они услышали голос:
– Иргизов, эй! Почему заранее не сообщил о своем приезде? Я бы привел в порядок войска и выслал тебе навстречу почетный караул! Здравствуй, дорогой, с приездом! Когда приехал?
Они обнялись, и Иргизов почувствовал, как Аман отвел плечо и поежился. Вспомнил, что Акмурад рассказывал, будто бы отец был ранен в песках. Спросил осторожно:
– Болит рана?
– Болит немного, – признался Аман. – Из-за этой чертовой болячки – комиссовали, как негодного.
– Так выходит… вот как? – Иргизов чуть было не сказал: «Выходит, не за укрытие золота тебя рассчитали, а по ранению!», но на ходу обрубил фразу, боясь обидеть старшего товарища.
– Да и возраст уже не тот, – продолжал Аман. – Теперь не только наружная рана, но и внутри все ноет.
– Я привез тебе привет от сына, – сказал Иргизов. Ратх, видя, что вниманием Иргизова целиком завладел Аман, слез с тахты.
– Ладно, вы тут пока толкуете, а у меня дело есть. Будешь уходить, Иргизов, загляни ко мне.
Ратх ушел, и Аман тотчас спросил:
– Ты видел Акмурада?
– О чем ты говоришь, Аман! Мы же, все-таки, с твоим сыном друзья. Он относится ко мне как к старшему брату, и гордится нашей дружбой. Знаешь, как он сказал обо мне на свадьбе? «В военном училище я оказался только благодаря моему боевому командиру Ивану Иргизову!»
– Зато об отце у него самые дурные мысли, – упавшим голосом произнес Аман. – За то, что я привез золото за отары своему отцу, Акмурад готов меня со света сжить. Представляешь?
– Представляю, Аман.
– Я ради своего отца пошел на все, а мой сын меня даже на свадьбу к себе не пригласил.
– Ты не прав, Аман, – возразил Иргизов. – Ты все еще в плену старых предрассудков. Для тебя отец выше чести, выше долга. Но Акмурад воспитан в другом духе. Для него прежде всего честь коммуниста. Иное дело, горяч слишком – сплеча рубит. Он, например, считает, что тебя со службы уволили именно за твой малодушный поступок, а ты мне говоришь – по ранению.
– Хай, Ваня! Ты что – не веришь мне? Я могу тебе показать военный билет.
– Не надо мне ничего показывать. Лучше соберитесь вместе с Галией да навестите сына. Аман, клянусь тебе, потом мне спасибо скажешь. Знал бы ты, какая у него красивая и добрая жена!
– Не надо, – прервал вдохновенную тираду Иргизова Аман. – К нему мы никогда не поедем. Землей клянусь, что не будет ноги моей в его доме. Он опозорил нас. Он даже не пригласил нас на свадьбу, не говорю уже о том, что не попросил разрешения на женитьбу.
– Можно подумать, ты спрашивал у своего отца разрешения, когда на Галие-ханум женился. Ты ее просто-напросто украл у своего старшего брата и увез в пески. Но самое интересное, что ты и сейчас хвастаешься своим удалым поступком, а сына своего готов с землей смешать. Странный ты человек, Аман.
– Ваня, не путай жареное мясо с галушками. Тогда совсем другие времена были. Брат мой был жандармом, офицером царской армии – я сделал доброе дело. А сейчас иная жизнь! Зачем Акмураду поступать, не посоветовавшись с отцом?
– Сын твой, весь в тебя, так что не суди строго. Поезжай, помирись. Жена у него беременна, скоро внук у тебя будет.
– Нет, Иргизов. Я землей поклялся перед тобой, что не будет моей ноги в доме сына!..
II
Нина в первые дни после приезда ходила по магазинам – покупала все необходимое, чтобы освежить жилье. Вечерами шила на машинке занавески, дверные шторы. Заодно сшила рубашку сыну. Сережка все время крутился возле матери, не отходя ни на шаг. Занимаясь делом, она все время думала: «Как же быть с театром? Ведь этот «проказник» не даст мне отлучится из дому. А о гастролях и говорить нечего. Может быть, действительно, попытать счастья на «текстилке»? Напомнила Зине о детском садике.
На следующий день Зина чуть свет разбудила Сережку и увела его с собой. Вернулись поздно вечером. Малыш – в слезах: задал реву в непривычной обстановке. Но – не беда, привыкнет.
Нина, покончив с хозяйскими делами, в один из дней отправилась в театр. Артисты были где-то на гастролях, но режиссер Васильев на месте. Встретив Ручьеву в фойе, нарядно одетую, модно причесанную, он сразу и не узнал ее: стесненно кивнул и прошел было мимо, но Нина окликнула его:
– Павел Петрович, здравствуйте. А я к вам…
– Боже мой! Кого я вижу! Неужели Ручьева? Какими судьбами, голубушка? Совсем приехали или проездом?
– Совсем, Павел Петрович. Муж закончил учебу – направлен в ашхабадский пединститут. А я – что ж? Куда он, туда и я.
– Прекрасно, прекрасно, Нина Михайловна. Признаться, я не верил в серьезность вашего увлечения этим красным рыцарем. Думал – разочаруетесь. На вас ведь не угодишь.
– Ну, что вы, Павел Петрович. У нас уже сын – шестой год малышу. Такая прелесть! Как-нибудь увидите.
– Ну что ж, Нина Михайловна, рад вашему счастью. К нам, вероятно, в театр вернетесь?
– Если примите. – Нина улыбнулась. – Я так скучала без вас.
– Ну-ну, милочка, так уж и скучали?! Ну да, ладно. Вам мы всегда рады. Вот скоро вернутся наши из поездки – и тогда милости просим на репетицию. Начнем «Вассу Железнову». Я подумаю, какую вам поручить роль… Хотите ознакомиться с пьесой?
– С удовольствием.
Спустя час, Нина спешила домой поделиться своей радостью с мужем. «Удачно получилось, – думала она. – Не успела войти в фойе – и Васильев тут как тут. Словно специально меня ждал. Все теперь пойдет своим чередом. Только бы не возобновил Павел Петрович свои ухаживания. Человек он неплохой, но кавалер – упаси боже: нафталином попахивает. Да и не дай бог, Иргизов еще ревновать станет…»
Дома никого не оказалось.
Нина переоделась и стала готовить обед.
В час дня накрыла на стол. Иргизов – человек точный: к обеду обязательно придет. Но вот уже два, а его нет. Нина пообедала одна: с неохотой, без всякого аппетита. Села за стол, развернула рукопись пьесы. Начала читать, увлеклась. Но вот уже четыре, а мужа нет. «Ну, Иргизов, погоди у меня!» – рассердилась Нина и настроение у нее окончательно упало.
В седьмом часу вернулись Зина с Сережкой. Оба веселые. Зина хохочет над племянником. И такая она красивая, когда смеется. Глаза большие, голубые, озорные, на щеках ямочки, зубы, словно жемчуг.
– Ох, Зинуля, – заражаясь ее смехом, сказала Нина. – Тебе бы актрисой быть. Сколько в тебе жизни! А над чем хоть смеешься?
– Знаешь, что мне сказал твой сын? Давай, говорит, я буду называть маму Ниночкой, а тебя – мамой?
– Глупенький, – пожурила Сережу Нина и взяла на руки. – Разве ты не любишь маму? А ну-ка, покажи, как ты любишь маму!
Сережка стыдливо покосился на тетю, обнял и начал целовать мать.
– Ну, изменник! – погрозила Зина.
Сережа, брыкаясь, выскользнул из рук матери и побежал в другую комнату.
Девять вечера… Десять… Одиннадцать… Иргизова нет. Сережка долго ждал отца; уснул – не дождался. Нина тоже легла, но не могла заснуть.
– И куда это он запропастился?
И вдруг страшная догадка: «Неужели у Лилии Шнайдер? Боже, как же так! Но ведь она замужем!..»
Некоторое время она лежала в оцепенении и, как ей показалось, даже вздремнула. Но вот на улице, возле окон залаяли собаки. Нина встала с постели, раздвинула занавески. За окном, на обочине дороги остановилась грузовая автомашина. К дому шли двое. Узнала в одном мужа, а второй – неизвестно кто. Ревность отхлынула от сердца, словно вода ушла, прорвав плотину. Легко стало, и спокойно. Теперь еще надо напустить на себя полное безразличие.
– Иргизов, это, оказывается, ты. Ну, проходи. С тобой кто-то еще? Прости, я давно уже уснула.
– Узнаю свою царственно-спокойную половину, – сказал он, входя в комнату и приглашая своего спутника, мужчину лет пятидесяти пяти, в соломенной шляпе. – Познакомься, Нина, это ученый, археолог Мар. Мы весь день пробыли на раскопе Нисы. Я хотел остаться там на ночлег, но подумал – задам тебе беспокойства. А ты у меня молодец: тебе хоть гром над головой – не вздрогнешь.
– Это хорошо, – сказал Мар. – Даже очень хорошо. Именно такая супруга должна быть у настоящего археолога. Смолоду моя, бывало, чуть чего – сразу в слезы. А потом привыкла. Месяц, два меня нет, иногда целое лето не показываюсь – ей все равно. Привычка, как говорится, вторая натура. Но вы извините за позднее вторжение. Браните вашего Иргизова: это он меня, можно сказать, силой затянул сюда.
Иргизов виновато улыбнулся:
– Михаловна, ты не смогла бы нас покормить? Целый день – ни маковой росинки во рту. А у Александра Борисовича жена уехала на лето в Россию, и детей увезла, за ним и поухаживать некому.
Из другой комнаты вышла Зина, кивнула приветливо. Женщины вышли в коридор, тут же зашипел примус и запахло яичницей.
За столом, едва мужчины сели и взялись за вилки, Мар возобновил начатый в дороге разговор:
– Самое главное, Иргизов, на сей раз нам полностью удалось выяснить культурно-хронологический возраст городища Новой Нисы. Семь культурных слоев: три доисторических, два доисламских, два мусульманских. Общая мощность культурных слоев – пятнадцать метров.
– Боже мой, вот заумь-то, – заметила Зина, – Да и к чему это все?
– А я вот сейчас покажу вам одну вещицу, и вы все поймете, – охотно отозвался Мар.
Он вышел из-за стола, склонился над рюкзаком и извлек из него треснутый, облитый голубоватой глазурью кувшин.
– Возьмите этот сосуд в руки, барышня, – попросил Мар и подал Зине кувшин. – А теперь представьте, что в последний раз, до сегодняшнего дня, человеческая рука его касалась почти три тысячи лет тому назад. Три тысячи лет назад его держала вот так же в руках, как держите сейчас вы, зороастрийская жрица. Потом налетели полчища с севера, сожгли Нису и убили ее жителей. Кувшин, упавший на пол, треснул и покрылся горящим пеплом. Позднее его занесло пылью тысячелетий. И вот сегодня я первым после древней огнепоклонницы взял его в руки, а вы коснулись его второй.
Зина с недоумением отстранила от себя диковинную находку, сказала испуганно:
– Возьмите, пожалуйста, а то еще уроню.
– Ну почему же уроните?! – засмеялся археолог. – Вам ничего не грозит – не слышится пока ни набега врагов, не слышно пока рева походных труб и звона бронзовых мечей.
Мар снова сел на место и, орудуя вилкой, продолжил разговор:
– Что касается астадонтов – это погребения парфян. На одном из скелетов я нашел медную парфянскую монету…
– Знаете, товарищ Мар, – удивленно сказала Нина. – Я где-то читала, будто люди кладут на глаза умершим медные монеты. Неужели этот обычай тянется с тех, древних времен?
– Вы молодец, Нина Михайловна! – оживился Мар. – И, вероятно, правы. Именно с древних времен. Что-то, рожденное в древности, дошло до наших времен, что-то нет. Парфяне, скажем, хоронили умерших в земле, на так называемых некрополях. Это те же – кладбища. А вот задолго до них, во времена зороастризма, когда в Иране и в здешних местах, на юге Средней Азии жили арийцы, – они строили специальные башни и на них вывешивали трупы умерших. Прилетали хищные птицы и обгладывали мертвых до костей. Со временем этот обычай умер. Но другой их обычай, скорее даже закон, породил ныне в фашистской партии теорию арийской расы – теорию сверхчеловеков. Арийцы, в ту далекую эпоху, стояли в своем развитии намного выше многих кочевых народов, которые, подступая к границам Ирана, невольно кровно смешивались с арийцами. Чтобы не испортить свою благородную, высокоцивилизованную нацию, иранцы жестоко расправлялись с каждым не арийцем. Эту теорию превосходства взяли теперь на вооружение немецкие фашисты. Они называют себя арийцами, хотя к арийцам имеют такое же отдаленное родство, как и все народы индо-европейской расы…
Мар, забыв об яичнице и чае, говорил долго и упоенно. Кажется, женщины уже начали тяготиться столь длинным рассказом гостя. Зина незаметно ушла в комнату брата. А Нина откровенно обрадовалась, когда за окном раздался нетерпеливый сигнал автомашины.
– О аллах всемилостивый! – шутя, всплеснул руками Мар. – Мы совсем забыли, что машина на дворе, и шофер ждет меня! Все-все, дорогие хозяева, не смею больше засиживаться, Иргизов, так вы завтра – пряма с рюкзаком ко мне, в кабинет археологии. В девять, как штык, буду там. Прощевайте, дорогие дамы!
Иргизов проводил Мара до машины, вернувшись, спокойно сказал:
– Дней через пять уедем месяца на два. Буду жить в палатке.
Нина недовольно хмыкнула, пожала плечами:
– Поезжай. Но только не думай, что я такая же, как жена твоего Мара. У меня у самой впереди гастроли…
III
Гудок «текстилки» – призывно-звонкий, с сиплыми перехватами, заглушал все другие гудки. В шесть утра ежедневно он долетал до Артиллерийской и, опережая звонок будильника, поднимал Зину с постели.
Она включала свет, заглядывала во вторую комнату, где спали Нина и Сережка и, ступая на цыпочках, начинала готовить завтрак. В семь, когда стол уже был накрыт скатеркой и на нем стоял чайник с пиалами, ваза с конфетами и на тарелочках бутерброды с маслом и колбасой, Зина будила Сережку. Брала его сонного на руки, выносила из комнаты, чтобы не потревожить Нину: ей спешить некуда. Малыш капризничал, но что делать. Не опаздывать же из-за него на работу. Она торопливо умывала племянника, сажала за стол, затем одевала и спешила на автобус, остановка которого была прямо у площади. Без четверти восемь Зина сдавала Сережку воспитательнице детского сада, махала ему рукой и спешила на фабрику, в медпункт. Громадный корпус «текстилки», заряженный доброй сотней прядильных и ткацких станков, расставленных на двух этажах, в огромных цехах, содрогался от их беспрерывного грохота. Зина ступала во двор фабрики и сразу ей приходил на ум огромный океанский пароход. Она входила в чрево фабричного корпуса, словно в трюм или машинное отделение. Все здесь гудело, грохотало, шипело. Справа механический и слесарный цехи, слева цех по выработке аммиака и ледоделка. В садом конце коридора – кабинет медицинского пункта. Входя, Зина надевала белый халат, брала из аптечки пузырек с йодом, вату, бинт, таблетки от кашля и головной боли и поднималась в прядильный, а затем в ткацкий цех. Травм было немного, но случалось – кто-то порезал палец или ушибся, у кого-то болела голова. Зина спешила оказать помощь, а если требовалось, то и выписывала направления в поликлинику. За чуткость и доброту любили ее текстильщицы.
Но, конечно, же, дежурства Зины Иргизовой не замыкались в рамках восьмичасового рабочего дня. Фабрика – не только цеха.
Почти ежедневно во дворе «текстилки», под высокими карагачами на скамейках, то в перерыв, то после смены собирались различные группы фабкома. Зина состояла в жилищно-бытовой комиссии, и ей частенько приходилось говорить о быте и санитарии, давать полезные советы женщинам. С комиссией, но чаще одна, ходила она в жилой текстильный городок. Он считался самым уютным и самым зеленым уголком Ашхабада. Городок был огорожен высоким кирпичным дувалом и занимал огромный квартал – от железной дороги до улицы Всеобуча. Широкая тополиная аллея прорезала городок с юга на север. Уже давно поднявшиеся пирамидальные тополя придавали городку величественно-торжественный вид. С обеих сторон аллеи под зелеными кронами фруктовых и декоративных деревьев стояли многоквартирные дома. Широкие просторные веранды, дворики, цветочные клумбы восхищали зашедшего сюда гостя или путника. В юго-западном углу двора в таком же красивом добротном доме размещался фабричный детский сад. Сюда Зина каждое утро приводила своего племянника Сережку и по вечерам приходила за ним. Бедный малыш! Хватил же он лиха от своей неугомонной, вездесущей тетки. По вечерам Зина то на волейбольной площадке возле клуба – Сережка носится с мячиком рядом; то в клубе, на репетиции хора – Сережка тут же. То едет с медицинской сумкой за город, к горам, где назначены прыжки с парашютом. Несколько комсомольцев с «текстилки» посещали кружки Осоавиахима – летали на планерах и прыгали с парашютом: Зина обслуживала их на полетах, и Сережка – с ней. Мать свою пострел почти не видел: Нина приходила домой из театра поздно. Сын уже спал. Сначала баловался малыш, но потом привык и уже всерьез стал называть Зину мамой, а родную мать просто Ниной. Привыкла к такому обращению и Нина.
Жизнь актрисы вовсе была непохожей та ту активную, складную жизнь, какую вела Зина. Частые выезды, поздние возвращения невестки смущали и сердили Зину. Однажды Нина вернулась домой утром. Ее привезли в автомобиле. Зина сквозь сон услышала ее голос под самым окном: «Спасибо». Машина фыркнула и уехала, а Нина, войдя в комнату, по привычке, подошла к зеркалу, и стала оглядывать себя – за внешностью она следила особенно. Зина подошла к ней сзади:
– Где ты была, я вся извелась, ожидая тебя?
– О боже, не спрашивай, Зинуля. Мы выезжали в Фирюзу, ставили в доме отдыха отрывок из «Женихов». После концерта был небольшой ужин. Только сейчас вернулась. Сережа не плакал?
– Нет, не плакал, но все равно нельзя так. Посмотри что у тебя на шее?
Нина погладила рукой левее подбородка, прикрывая след от губной помады.
– Не обращай внимания. Это один из наших, когда ставили отрывок, чмокнул меня.
– Он что, красит губы?
– Когда выходит на сцену – да. Я же тебе сказала – чмокнул вовремя спектакля, так положено по пьесе.
За завтраком Зина упорно молчала. Нина, понимая ее состояние, вздыхала. Наконец, молчание стало тягостным.
– Ну, Зинуля, – сказала она с упреком. – С тобой не соскучишься. Неужели ты думаешь, я тебе должна рассказывать обо всем на свете? Если я начну рассказывать – тебе же будет неловко. Не всегда чистая правда доставляет радость и удовольствие. Ну, неудобно мне говорить тебе о том, где я вчера была! Ты-то, конечно, считаешь: закатилась актриса со своими воздыхателями в укромное местечко к какому-нибудь там зеленому арыку, под деревья. Скатерть у них самобранка, вино, закуска. А я ночевала в пыльной палатке с твоим братом. Вчера, когда ехали из Фирюзы, меня осенило: дай, думаю, заеду к Ване – это же совсем недалеко. Наши пошли навстречу… Подъезжаем к городищу – там целый палаточный лагерь. Смотрю – выходит из-под полога мой Иргизов, с черепками. Увидел меня, сунул черепки в карман своего парусинового пиджака – и ко мне… Ну, что дальше рассказывать-то! – смутилась Нина, – сама должна понимать – что дальше. Затянул меня в свою палатку, а режиссеру сказал: поезжайте, мол, без Ручьевой, я ее завтра утром с первой машиной отправлю. Нужны еще какие-нибудь подробности?
Зина стыдливо зарумянилась, поднялась со стула и, зайдя сзади, обняла невестку за плечи:
– Прости, Ниночка, я больше не буду тебя спрашивать о таких вещах. Я просто дурочка…
Через полмесяца Нина отправилась с труппой артистов в Красноводск и к нефтяникам Нефте-Дага. Иргизов все еще находился на раскопках, так что Зина с Сережкой остались в доме одни. Вечерами Зина долго не ложилась спать, читала племяннику сказки, а когда он засыпал, долго раздумывала над своим будущим.
Однажды Зина шла по двору фабрики и обратила внимание – на летней площадке под деревьями шумит собрание: кого-то бранят текстильщицы. Остановилась – видит: стоит перед женщинами отец Сердара Чары-ага Пальванов. В чекмене, в тельпеке, борода пышная, (вновь бороду отрастил) – размахивает руками, кричит – никому не дает слова сказать. Говорил, говорил, потом выскочил из беседки и побежал на товарный двор. Там он собрал своих грузчиков и принялись они раскидывать из бунта кипы хлопка. Почему, зачем кипы раскидывать – не понятно Зине. А к вечеру заглянул в медпункт Сердар:
– Здравствуй, Зина! Отец руки порезал.
– Как так?
– Да вот так. Люди его поругали, что хлопок из Байрам-Али привез сырой и грязный. Он собрал всех грузчиков и давай потрошить кипы. А они железками стянуты. Вот и порезал все руки. Злился – рвал руками железки.
– Смотри, какой отчаянный! – удивилась Зина, нагружая Сердара пузырьком, бинтом и ватой. – А что же он сюда не пришел?
– Ну, что ты! – Сердар засмеялся. – Он никогда в больницах не был. Боится уколов.
– Вот храбрец. Пойдем к тебе домой, я сама перевяжу ему руки.
Чары-ага лежал на паласе, нудно постанывал и ругал какого-то Сазака. Увидев в дверном проеме женщину в белом халате, с металлической коробкой, мгновенно встал. В глазах старика вспыхнуло недоумение и… страх. Сердар пояснил:
– Отец, она сказала, что укола делать не будет.
– Хай, какой негодяй этот Сазак, – продолжая думать о своем, с горечью воскликнул Чары-ага. – Заживут руки, поеду в Байрам-Али, задушу его вот этими руками. – Чары-ага в гневе показал изодранные пальцы. – Сукин сын, разве не он сорвал фабрике план?! Женщины бросились на меня, как разъяренные тигрицы, а я причем? Разве узнаешь – чего есть, чего нет внутри хлопковой кипы. Они же спрессованные! Этот негодяй Сазак хвастался все время: «Ай, Чары-ага, теперь дело пойдет, новые джины получили, старые выбросили. Ваша фабрика байрамалийскому заводу спасибо скажет». Вот ему спасибо! – Чары-ага свел пальцы в кулак и поморщился:
– Зина, только укол не делай. Помажь немного – и все.
– Ладно, ладно, Чары-ага. Подумаешь, иголки испугались!
Зина вынула из коробки йод, бинт и вату. Чары-ага, глядя на приготовления, сердито сказал:
– Ивана твоего увижу, тоже пошлю, куда надо. Скоро год как приехал и ни разу не зашел.
– Чары-ага, да он несколько раз собирался к вам, но вы все время то в Мары, то в Байрам-Али. А когда вы дома, его нет. И сейчас он на раскопках.
– На каких раскопках, Зиночка?
– Древнее городище раскапывают. Черепки там всякие из земли достают, кувшины.
– Зачем ему черепки?
– Изучает по черепкам, как люди тысячу лет назад жили.
– Вах-хов, – сокрушенно вздохнул Чары-ага, глядя, как ловко перевязывает ему руки медичка. – Значит, вот это и есть археология, о которой он все время мне говорил! Если б я знал, что именно за этим он едет в Ташкент, я бы… Хай, полоумный… Был красным командиром, а теперь он кто?!
– Чары-ага, я тоже не раз ему говорила: брось ты, Ваня, свою археологию, а он мне: «Ничего ты не понимаешь, сестренка! Вот откопаю меч Александра Македонского, тогда не только ты, но и весь мир ахнет!»
– Какого Македонского? – не понял Чары-ага.
Сердар небрежно пояснил:
– Отец, это тот самый, которого ты называешь Искандером. Он был со своими войсками в наших краях. В Нисе, где ведет раскопки дядя Иван, тоже был. Насчет того, чтобы Искандер меч здесь оставил, я не слышал. Но, вообще-то, чем черт не шутит. Если оставил, то найдется.
– Да, – покачал головой Чары-ага. – Совсем изменился Иргизов. Совсем мальчишкой стал. Это его таким сделала артистка. Сама на сцене, как мотылек, перед огнем, и муж ее – тоже как жук навозный в земле копается.
Зина рассмеялась, представив своего брата жуком-скарабеем, а Сердар насупился:
– Отец, ну зачем ты так? Иван же – друг твой.
– Какой он друг? Не может быть у меня друзей, которые копаются в старом дерьме. Так и скажи своему брату, Зиночка. Скажи, если попадешься на глаза Чары-аге, он тебе голову оторвет.
– Ладно, Чары-ага, – улыбаясь, пообещала Зина, закрывая коробочку и направляясь к двери. – Я так и скажу: оторвет, мол, и пришьет новую…
Иргизов навестил своего старого друга лишь через полгода. Начиналась весна – деревья и кустарники покрывались изумрудной зеленью. В текстильном городке на верхушках деревьев распевали майны. В детском садике гомонила детвора, раскрашивая флажки. Сережка, увидев вошедшего в калитку отца, бросился к нему навстречу. Иргизов взял сына на руки, поздоровался с воспитательницей, перебросился с ней несколькими фразами, спросил, где живет Чары-ага Пальванов и направился к нему.
Во дворе на сарае ворковали голуби. На веранде, примостившись у станка, ткала ковер Бике-эдже – жена Чары-аги. Увидев гостя, привстала:
– Кому тибе, табарыш?
– Чары-агу мне, Бике. Неужто не узнала? Иван я… Помнишь. Иргизова? Давненько у васне был.
– Ай; Ванка! – радостно всплеснула руками старуха и исчезла в комнате. Вскоре дверь распахнулась иоттуда донесся грубоватый голос:
– А, явился все-таки, археолог!
– Чары-ага! – удивился Иргизов, входя в комнату с Сережкой. – Ты, по-моему, совсем забыл про обычай гостеприимства. Почему не слышу «арма?» И вообще, ведешь себя так, словно мы с тобой не расставались на долгие годы. Чары-ага, больше восьми лет уже прошло, как расстались.
– Да, Ваня, ты прав. Прости меня. – Они обнялись, и Чары-ага мягко, но печально, отчего речь его показалась Иргизову насмешливой, заговорил: – Восемь лет это очень большой срок. За восемь лет я научился грамоте, пять классов ликбеза закончил. Дочки мои тоже грамоте научились, и обе замуж вышли. За восемь леттысячи людей в Ашхабаде и аулах грамотными стали. Все теперь грамотные и умные, а ты поглупел. Я плевать хотел на твою археологию и меч Македонского, который ты ищешь. Люди новый мир строят, соревнуются, многие стахановцами стали, а тебя совсем новая жизнь не интересует.
– Чары-ага, да ты просто решил расстрелять меня своими словами. Ну, почему же не интересуюсь? Я интересуюсь новой жизнью не меньше твоего. Я хочу видеть нашу страну мощной и культурной. Силу стране дает рабочий класс. Но ведь и знания ему нужны. Что ж, по-твоему, рабочий класс не должен знать о своих предках? Не знать, – как жили и чем занимались наши предки, значит – не знать своих корней. А что, если не корни, питают ствол и крону?! Нет, Чары-ага, история – великое дело. На истории воспитываются миллионы людей. Восстание Спартака в древнем Риме произошло две тысячи лет тому назад, но его имя и его страстная воля сбросить кандалы рабства вели нас к победе в Октябрьской революции. И разве ты не слышал о спартаковской организации в Германии? Или ты не знаешь, что существует физкультурно-спортивное общество «Спартак», названное в честь героя древности?! Чары-ага, молчаливо выслушав друга, неохотно согласился:
– Да, оказывается, тебя кое-чему научили в Ташкенте. Но лучше было бы видеть тебя не на развалинах, а среди рабочих. Ты же – бывший командир, еще раз хочу напомнить тебе. Я часто вспоминаю тебя, когда с Сазаком воюю. Он, паразит, мне грязные и сырые кипы в вагоны грузит, а я ничего не могу сделать с ним. Ваня, вдвоем бы мы этого вредителя давно прижали. Оставь археологию, давай переходи к нам. Вот сын твой, говорят, у нас в детском саду воспитывается – разве ему плохо? Хорошо тебе у нас, Сергей Иванович?
Сережка смутился, руки назад спрятал. Иргизов склонился над ним:
– Ну, герой, тоже мне! Бороды деда испугался, что ли! А ну-ка, расскажи ему стишок. Давай, давай, ты же мужчина. Ну, мы ждем.
Сережка, справившись со смущением, озорно посмотрел на отца, затем на Чары-агу и звонко продекламировал:
Климу Ворошилову письмо я написал:
Товарищ Ворошилов, народный комиссар…
Услышав детский голос, на пороге появилась Бике-дайза.
– Вий, а я думала он плачет… А он, оказывается, не плачет.
– Зачем ему плакать, – гордо отозвался Чары-ага. – Это же сын моего друга, красного командира. От него ты никогда не услышишь слез. Давай-ка, мать, неси нам обед, да покрепче чай завари. Поговорить нам надо насчет одного дела…