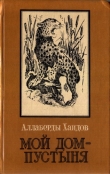Текст книги "Разбег"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
XI
Работы на раскопке Новой Нисы велись слишком медленно. Палаточный лагерь почти пустовал. Сформированный археологический отряд на это лето Маром, укомплектован был не полностью. Студенты исторического факультета, работавшие в коллекторах, в какой-то мере еще проявляли жизнедеятельность, но и они, чуть припекало солнце, отправлялись на Золотой ключ или еще дальше – в Фирюзинское ущелье. К вечеру возвращались усталые и утомленные. На полевые работы были привлечены, в основном, школьники – старшеклассники из близлежащего села Багир. Эти тоже являлись утром, но к полудню, спасаясь от жары, отправлялись домой. Спокойный и неутомимый Мар нервничал, жаловался Иргизову на полное отсутствие дисциплины в отряде. Если так и дальше пойдет, то придется принимать какие-то меры.
– Черт возьми, – негодовал он. – У меня такое впечатление, что наши полевики, да и студенты, вовсе потеряли интерес к истории.
– Не мудрено, Александр Борисович, – согласился Иргизов. – Время с каждым днем становится все строже и строже. Общественная мысль нацелена в завтрашний день. Сборы, маневры, ПВХО… Порохом в воздухе пахнет. Я говорил вам о том, что и меня хотели взять на учения, да что-то передумали.
– Передумали оттого, что и в военкомате есть головы, которые понимают значение археологии в жизни общества. – Мар с гордой обидой приподнял подбородок. – А вот в Багире нет таких умных голов. Будь у меня власть, я бы растребушил их сельсовет вместе с председателем.
– Может быть, мне сходить в сельсовет, да поговорить с руководством? – предложил Иргизов. – Могут же сельские власти воздействовать хотя бы на учащихся.
– Подождем еще денек-другой, – не согласился Мар. – Я думаю, завтра надо всех скликать да провести собрание. А то только деньги любят получать, а как работать – в кусты.
Утром, как всегда, археологи встали до рассвета, приступили к раскопкам. Студенты все в сборе, а полевых рабочих что-то совсем не видно. Мар поднялся на оплывшую стену крепости, приложил руку к полям шляпы, заслоняясь от восходящего солнца. Обычно рабочие появлялись на дороге, идущей от Багира к городищам Нисы, до восхода солнца, но вот уже оно поднялось, а их все нет. Мар слез со стены, понервничав, затем снова поднялся – и опять никого.
– Слушай, Иван Алексеевич, – сказал он в сердцах, – кажется, ты вчера грозился сходить в сельсовет. Давай-ка, отправляйся к башлыку, да ругни его как следует. Никакой, понимаешь, помощи!
– Давно пора! – Иргизов только и ждал этих слов.
Спустившись с городища, он вышел на проселочную дорогу и подался к селению. Утро только начиналось – обычно в такую пору выходили на поля колхозники, – но что-то безлюдно было сегодня на виноградниках и капустных грядках. В чайхане на арыке, где всегда курился дымок и стоял пряный запах лепешек и шашлыка, тоже властвовала тишина.
– Эй, Реджеп-ага! – окликнул чайханщика Иргизов. – В чем дело? Где твой шашлык, где люди?
– Война, – с горькой усмешкой сказал чайханщик.
– Какая война? – не понял Иргизов.
– Война началась. Германия на нас напала, – пояснил Реджеп-ага. – В сельсовет иди – там все люди.
Иргизов, ошарашенный черной вестью, некоторое время стоял у арыка, качал головой и хмыкал. Нет, он не поверил сказанному – вероятно, старик что-то перепутал. Есть же договор с Германией, хлеб ей прямо с полей везем, жрать немцам нечего! Однако, надо заглянуть в сельсовет, решил Иргизов и зашагал по пыли, ощущая, как утопают в ней легкие брезентовые сапоги. Тоскливо-тревожно вдруг сделалось на душе Иргизова. Так тоскливо, что деснам стало щекотно.
У сельсовета, белого приземистого дома, огороженного низким штакетником, толпился народ. Взгляды всех были направлены на айван, где что-то происходило, но что именно – Иргизов сразу понять не мог. Пробившись поближе к айваму, увидел – за столом возле репродуктора руководство сельсовета. Репродуктор был старый, нещадно хрипел, но, прислушавшись, можно было понять – передавалось обращение Советского правительства с призывом дать отпор агрессору. Затем был зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации с 23 июня военнообязанных 1905–1918 годов рождения и о введении военного положения в ряде западных областей страны. Как только прервалась речь диктора и заиграла в репродукторе музыка, толпы колхозников пришли в движение. Задвигались и заговорили все сразу. Многие из присутствующих были призывного возраста – завтра, согласно Указу, им необходимо быть в строю, но с чего начинать?
– Эй, товарищ Лачинов! – Кто-то крикнул со двора. – В военкомат самим ехать, или повезут?
– Товарищ Лачинов, расчет сегодня дадут или сначала уничтожим фашиста? – разнесся другой голос.
И посыпались вопросы со всех сторон. Председатель растерянно вздыхал, хмурился, снял зачем-то круглую шапку-кубанку, опять надел. Но вот увидел в толпе Иргизова и окликнул его.
– Иван Алексеевич, ты раньше воевал – скажи пару слов!
Иргизов пожал плечами, но видя, что Лачинов, действительно, растерян и не знает, что делать, поднялся на айван и твердо высказался:
– Составьте общий список подлежащих мобилизации. Добровольцев тоже запишите. Выдайте всем трудодни и в райвоенкомат – строем. Действуйте – время не терпит. Бить надо фашистских гадов – вот мое слово!
Известие о начале войны потрясло Мара. Старик-ученый долго не мог прийти в себя – сидел и недоуменно покачивал головой. Потом, словно тяжело больной, поднялся на ноги и начал расспрашивать в подробностях – когда и как? Какие города бомбили, остановлены ли фашистские орды? Выяснив, что Иргизов, по возрасту, мобилизации не подлежит, Мар немного успокоился.
– А то ушел бы – и палатки некому убирать, – мрачно пошутил старик.
– Добровольцем уйду. – Иргизов строгим взглядом посмотрел вдаль. – Не ждать же пока кто-то за тебя выкинет с земли советской врага!
Мар не возразил, лишь подумал: «Кончился Иргизов как археолог. Снова в нем ожил красный командир».
– Ну что ж, поезжай, – согласился Мар. – Будь мне тридцать восемь, я бы тоже не стал задумываться – отправился бы в военкомат и – на фронт. У меня теперь иная забота. Пока понятия не имею – чем мне, шестидесятилетнему, без вас, молодых, заняться? Раскоп прекратится – это ясно. Наверно, придется податься в преподаватели, к школьникам. Надо поднимать патриотическую сторону истории… Александра Невского, Суворова, Кутузова…
Вечером археологи, сложив в грузовик палатки и инвентарь, отправились в Ашхабад. Пока добирались до города, обогнали несколько пеших отрядов призывников и добровольцев – люди спешили на призывные пункты.
Дома поджидали Иргизова жена и сын. Нина знала, что он вот вот вернется с раскопа, ибо война – для всех. Едва вошел он, встревоженный и суровый, припала она к его плечу:
– Ванечка, что же это, а? Вот тебе и поехали отдыхать на Черное море.
– Всеобщая мобилизация, – как-то неловко сказал Иргиэов, снимая со своих плеч руки жены. Почувствовала она в этой неловкости – и боль его души, и твердую решимость: прости, мол, но я должен быть там, на передовой линии огня.
– Но твой возраст… – робко возразила она и осеклась, ибо Иргизов смерил ее незнакомой доселе, осуждающей улыбкой.
– Возраст – в самый раз. У добровольцев не спрашивают о возрасте.
Она помолчала. И понимая, что переубеждать его не надо – таких, как Иргизов, тысячи, – заговорила ровно:
– У нас в театре прошло общее собрание – тоже есть добровольцы и призывники. А те, кто останется здесь, будут обслуживать спектаклями и концертами воинские части и призывные пункты. Может быть даже выедут на фронт, в действующую армию.
– Народ весь поднимется – смахнем германских фашистов, как мух со стола. И на что они только рассчитывают?! – Иргизов засмеялся сухо, со злостью. Душа его горела ненавистью к врагу, рвалась в бой. Успокоившись немного, он заглянул, под кровать, затем вышел в коридор, покопался в барахле и, не найдя нужное, с досадой сказал:
– Михаловна, отыщи-ка мой походный ранец. Возьму с собой все, что положено: пару белья, чистые портянки, ложку, чашку, кружку.
– Ваня, но ты же командир! Зачем тебе все это? Приедешь в полк – там столовая.
– Отыщи ранец – еще неизвестно, как все оно сложится. Может, сразу в поезд, и прямо в бой.
И они втроем – Сережка тоже принимал участие – принялись искать старый красноармейский ранец, который служил Иргизову в гражданскую войну. Долго искали, наконец, Нина вспомнила, что давно выбросила его. Иргизов пожурил жену: рановато, мол, ты списала меня с армейской службы. Нина на это ответила, что не только ранец, но и самого себя Иргизов поспешил списать, подался в археологи. Такого Иргизов не ожидал от жены и основательно рассердился:
– Вот, значит, как! То-то, я смотрю, охладела ты ко мне в последнее время.
– Да хватит вам! – вдруг прикрикнул на отца и мать Сережка. – Ругаются вовсю, а соседи-то все слышат!
Нина растерянно посмотрела на сына, а Иргизов осекся, хмыкнул и рассмеялся:
– Ну, Сережа, ты ведь совсем мужчиной стал. И голос у тебя наш, иргизовский.
– Голос у него дедовский, – возразила Нина. – Папа мой точно так же командовал.
– Где уж мне тянуться до твоего папы – комбрига, – Иргизов принялся подшучивать над женой.
Нина, отмахиваясь, в конце концов нашла подходящий чемоданчик: с ним Иргизов ехал из Ташкента, после окончания университета. Иргизов сразу успокоился:
– А что – вещь приличная: белье и все остальное в нем поместятся.
– Да и культурнее с чемоданом, – поставила последнюю точку Нина.
Спать легли поздно, и долго не могли уснуть – вспоминали прошлое. Утром Иргизов встал раньше жены и сына, умылся, оделся и отправился в военкомат.
Он понимал, что война подняла на ноги всех – всякий, способный защитить свою родину от врага, спешит сейчас встать в боевой строй и поскорее отправиться на фронт. Но даже он, Иргизов, был поражен огромным стечением призывников и добровольцев, занявших прилегающую ко двору военкомата улицу и весь двор. Народу собралось так много – и стоял такой гвалт, что любой бы восточный базар уступил в шуме и суете той огромной скученности. Отовсюду неслись громкие голоса командиров – «становись!», «равняйсь!», шла пофамильная перекличка команд. Иргизову пришлось пробиваться локтями, прежде чем он добрался до окошечка командного состава. Вынув из верхнего кармана старой, видавшей виды гимнастерки документы и заявление с просьбой зачислить его, лейтенанта запаса Иргизова Ивана Алексеевича в действующую армию, он торопливо заговорил:
– Вот, товарищ капитан. Прошу принять… Кое-как прорвался – такая вокруг сутолока.
– Подождите, сейчас посмотрим, – сказал, глянув на Иргизова из окошечка капитан. С минуту он копался в картотеке, затем вновь выглянул и сухо сказал: – Возьмите свои документы… придет время – вас вызовут.
– Что значит «придет время»? – обиделся Иргизов. – Время мое пришло…
– Следующий! – выкрикнул из окошечка капитан.
Сзади то-то попытался оттеснить от окошка Иргизова, но он непокорно двинул плечом:
– Слушайте, товарищ капитан, я прошу вас! Внесите меня в список любой команды, уезжающей на фронт. Могу быть ротным, взводным, а если понадобится – рядовым красноармейцем.
– Слушайте, лейтенант запаса Иргизов! – повысил голос капитан. – Отойдите – не мешайте работать. Вам ясно было сказано: когда понадобитесь – вызовут. Идите и спокойно занимайтесь своим делом!
– Ну, капитан, да ты, как я вижу, слишком крут! – Иргизов не отошел от окна, а напротив, даже лег на подоконничек локтями. – Ну, почему я должен ждать, пока меня вызовут?
– Да в особом списке ваша фамилия, товарищ лейтенант запаса! – занервничал капитан. – Понимаете – в особом! Я не имею права вас никуда отправлять и принимать ваших документов. Отойдите от окна, не мешайте работать, приказываю вам!
– Хорошо, ладно, – наливаясь обидой, процедил Иргизов. – Так-то вы, значит, старых фронтовиков – участников гражданской войны принимаете! Слова не желаете выслушать. Бюрократию решили заводить с первого дня войны!
– Ах ты, сукин же ты сын! – вскричал в ответ капитан и захлопнул окошечко. Тотчас он появился у двери, встал по стопке «смирно», опустил руки по швам, и отчаянно закричал:
– Лейтенант запаса Иргизов, слушайте мою команду! Равняйсь!
Иргизов насмешливо переступил с ноги на ногу, однако, как человек военный, знающий, что старшему по званию надо подчиняться, опустил руки.
– Ну-ну, дальше что? – сдаваясь, буркнул себе под нос.
– Смирно! – во всю силу легких прокричал капитан.
Иргизов замер.
– Кру-гом! – скомандовал капитан.
Иргизов повернулся.
– Шагом марш!
Иргизов пошел, выполняя команду. Командиры, стоявшие у окошечка, дружно засмеялись. Иргизов невольно остановился и оглянулся:
– Ну ладно, капитан, поговорим еще! Только поторопись с повесткой, а то пока ты тут будешь выбирать любимчиков – война кончится!
Но капитан уже не слышал его реплики – вновь забежал в кабинет и отворил окошечко, к которому тотчас прилипли командиры.
Иргизов шел домой и клял про себя ретивого военкоматчика. «Подумаешь, нашелся мне вершитель судеб! Особый список какой-то придумал… Да не приглянулся я ему – вот и вся заковыка. Годами перезрел. Он решил, что тридцативосьмилетнему лейтенанту на войне делать нечего. Есть, мол, помоложе!..»
Входя во двор, чувствуя себя совершенно посрамленным и униженным, Иргизов увидел сына, и впервые в жизни смутился перед ним. «Черт возьми, не знаешь, что и сказать, если спросит – почему вернулся!» А Сережку именно это и заинтересовало:
– Пап, что, не поедешь уже на фронт? Уже, наверно, кончилась война?!
– Брось играть в лянгу! – выместил свою досаду на сыне Иргизов. – Сколько раз я тебе говорил, что в лянгу играть вредно – наживаешь себе грыжу!
Сережка спрятал лянгу в карман, испуганно посмотрел на отца.
Услышав во дворе голос мужа, из коридора вышла Нина, в новом синем платье, с маленькой сумочкой-
– А я собралась в военкомат, к тебе, – сказала обрадовано, понимая, что Иргизов вернулся, не солоно хлебавши.
– Отвоевался, – сказал он уныло. – Оставлен до особого… Кто-то за нас больше нашего думает. Ладно, подождем еще с недельку, если не вызовут, пойду прямо к военкому.
– А может так лучше, что отсрочили? – заглядывая ему в глаза, спросила Нина. – Может, военкоматские знают, что война вот-вот кончится, поэтому и не хотят тревожить твое поколение.
– Все может быть, – согласился Иргизов. – Поживем – увидим.
XII
В знойном мареве на телеграфных столбах возле Русского базара, возле городского сада, у железнодорожного вокзала гремят репродукторы: «От Советского информбюро…» Идет война: она далеко, за тысячи километров от Ашхабада, но знойный южный город связан с нею каждым нервом. Фронт, протянувшийся от Белого до Черного моря, пятясь на восток, зовет, тревожит, воспламеняет святым гневом, мобилизует миллионы человеческих сердец. Всюду – митинги. Отовсюду – добровольцы. По улицам проходят воинские подразделения: пехота, кавалерия. Вокзал и вся станция с ее товарными дворами и навесами забита красноармейцами. Уходят воинские эшелоны, и вновь на вокзале «негде яблоку упасть»: потянулись к теплушкам длинные нестройные команды с пересыльных пунктов. Парни – кто в чем: в пиджачках и фуражках, в белых бязевых рубахах и тельпеках, в туркменских халатах. Горожане, сельчане, рабочие, служащие, колхозники – все!
Всего на сутки приехал из Небит-Дага домой Юра Каюмов. На нем – военная форма. На каждой петличке по два кубика – лейтенант. Юра привез из Небит-Дага команду в тридцать человек. Все – нефтяники. Разместились в пульмановском вагоне, ждут отправления эшелона. В распоряжении Юры сутки, вот он и прибежал домой, чтобы повидаться и проститься с родителями. У Тамары Яновны на глазах слезы. Радостно ей сознавать, что сын стал инженером-нефтяником и красным командиром. Печально оттого, что уедет сын на фронт – и, все во власти судьбы, – вернется домой или умрет за Родину. Но человек тем и силен, что живет надеждой. Тамара Яновна накрыла скатертью ковер на тахте, в виноградной беседке. Сквозь вспыхивающие огоньки тревоги в сердце, от которой опускаются руки, прорывается былая боевая удаль Тамары Яновны.
– Юра, Юра, знал бы ты, какой опасности и риску подвергали мы себя в юности! Отец твой ради дела революции шел на все!
– Мама, ты забыла, что много-много раз мне рассказывала обо всем. Да и сам я немножко помню – и революцию, и гражданскую.
Галия-ханум, подавая дымящийся плов в белом фарфоровом блюде, сочла неудобным смолчать.
– Ах, Тамарочка, я тоже думаю о тех днях, когда ты была гимназисткой, а я служила в редакции Любимского. Я до сих пор не могу без страха вспоминать о том дне, когда нагрянули в редакцию жандармы и начали искать петицию рабочих железной дороги. Они ищут в кабинете у Любимского, а я в это время стою рядом с машинисткой Дорой Вартминской и держу эту петицию в руках. Я диктовала машинистке, а она печатала, когда ворвался с жандармами Пересвет-Солтан. Они все перевернули – ничего не нашли. И никому из них в голову не пришло, что петицию, которую они ищут, держит в руках секретарша Галия-ханум. О, это были памятные дни. А помнишь, Тамарочка, как Аман и Ратх революционера спасали?
– Помню, конечно. – Тамара Яновна кивнула Галие и перевела взгляд на сына. – Это теперь молодежь недооценивает нас.
Галие-ханум только и не хватало этого сочувствия: тотчас вспомнила:
– Возьмите, хотя бы, моего Акмурада. Отец его каким джигитом был, а! Сколько Аман добрых дел сделал для людей. Теперь все о нем забыли. Даже родной сын простить не может какую-то ерундовую ошибку. Подумаешь, беда какая – золото утаил! Потом же все равно во всем признался. Я думаю, Тамарочка, мы сами виноваты, что плохо воспитываем своих детей. Если б я почаще рассказывала Акмураду о геройских делах его отца, он бы понял, как ничтожно мала ошибка Амана, по сравнению с его заслугами.
Юра, внимательно слушавший мать и тетку, рассудительно сказал:
– Тетя Галия, конечно, старые заслуги украшают человека. Но ведь они, эти заслуги, все время напоминают ему: смотри, герой, не теряй своей славы, не скомпрометируй себя. А дядя Аман как раз и пренебрег этой святой истиной. Он решил, что ему все можно. Одним словом, тетя Галия, если настоящий проступок компрометирует, то старые заслуги не спасут.
– Юра, ты не совсем прав, – вступилась Тамара Яновна. – Дядя Аман совершил не сознательную ошибку. Он подчинился воле своего отца. Он хотел – как лучше. Он потом бы все равно уговорил Каюм-сердара сдать золото государству, но так получилось, что Каюм-сердар раньше него осознал свою неправоту.
– У дяди Амана пошатнулась идейная убежденность – поэтому у Акмурада пошатнулась вера в родного отца: тут все закономерно, так что… – Юра окинул жалостливым взглядом тетку. – Но вы не печальтесь сильно, тетя Галия. Такие раны залечивает время. Да и у дяди Амана есть еще возможность показать себя с лучшей стороны.
– Юрочка, что ты имеешь в виду? – спросила Галия. – На фронт его никто не возьмет, постарел Аман, а здесь – что? Даже коней и тех отправили на войну. Аман говорит – теперь ему делать нечего на конезаводе, придется идти вахтером на завод или фабрику.
– Только бы не затянулась война. – Тамара Яновна вздохнула и принялась убирать с тахты пустые тарелки и ложки. – Ратх, твой отец, – сказала она Юре, – тоже рвется на передовую.
– Мама, но ведь ему за пятьдесят. – Юра скептически засмеялся. – Ты скажи ему, – пусть немного охладит пыл. Он же стокилометрового похода не выдержит, не говорю уже о большем.
– Вот ты сам и скажи, когда придет. Только не знаю – придет ли сегодня. Все время он на пересыльных пунктах. Говорит, беседы с призывниками проводит, лекций читает.
Помолчали. И заговорили о фронте, об отходе наших частей. Говорили с тревогой, но не сомневались – это всего лишь маневр, чтобы затянуть фашистские полчища в глубь лесов и равнин и там уничтожить. Взрывы бомб, пожарища в городах, фашистские десанты – все это воспринималось, как в кино. Тамара Яновна гораздо сильнее чувствовала, хотя прошло больше двадцати лет, обстановку империалистической, когда в Москву прибывали поезда с вшивыми больными солдатами, и в одном из таких вагонов приехал Ратх. После долгой болезни и голодовки он был, как скелет – кожа да кости. Лишь большие черные глаза в провалившихся орбитах горели жарким огнем счастья. Сейчас Тамара Яновна, думая о начавшейся войне, допускала мысль, что повторится вновь: будут раненые, больные, вшивые и голодные. Но то, что она когда-то видела своими глазами, казалось ей сверхъестественным.
После того, как убрали скатерть, Юра лег тут же на тахте. Мать и тетка принялись собирать ему в дорогу вещевой мешок. Он, глядя на них, посмеивался: «Вот уж поистине – женщины! Чуть что – они сразу за харч! Можно подумать, у Красной Армии других забот нет, кроме как поесть!» Он лежал, и было у него такое ощущение, что он слышит, как где-то далеко-далеко взрываются бомбы, свистят артиллерийские снаряды, скачут конники и кричат «ура». И совсем он пока не ощущал жуткой реальности всепожирающего пламени войны. Голод и смерть уже властвовали на просторах Украины и Белоруссии: тысячи беженцев и тысячи пленных советских людей умирали, лишенные самого обыкновенного куска хлеба.
Потом, когда Галия ушла спать, Тамара Яновна долго еще сидела у изголовья сына и смотрела на его красивый мужественный профиль.
– Юрочка, а эта девушка… Кажется, Таня… Ты с ней попрощался? – Тамара Яновна понимала, что говорит глупые слова, и виновато улыбалась.
– Мама, она будет ждать меня. Справим свадьбу, – как только разгромим Германию, и я вернусь домой.
– Ты ее любишь, Юра?
– Ну вот еще! Какие-то странные вопросы у тебя, – смутился он.
– Я бы хотела, чтобы она приехала ко мне в гости. Пожила бы у меня.
– Мамочка, но она же работает… Она – завлабораторией. – Он мечтательно помолчал и успокоил мать: – Вообще-то, Таня знает твой адрес. Она напишет тебе…
На рассвете отправились на вокзал.
День только начался, а на вокзале – не протолкнуться. Впечатление такое, что новобранцы не ложились спать, а провожающие не уходили с перрона. Тягучий гул от множества голосов, словно поток большой реки, несся с перрона на привокзальную площадь. В этом гуле почти не было слышно треска фаэтонных колес, хотя черные лакированные коляски беспрестанно подъезжали и вновь откатывались от вокзала в город.
Часов в одиннадцать подъехали в автомобиле военком со штатскими из горисполкома. Поднялись на перрон, затем зашагали вдоль теплушек. Потом построение и перекличка новобранцев, по спискам.
Провожающих оттеснили к невысокому забору. Здесь в толчее, Тамара Яновна, пробиваясь в первый ряд, чтобы лучше видеть Юру – он стоял впереди своей небитдагской группы новобранцев, – встретилась с Зиной Иргизовой.
– Ты тоже здесь, Иргизочка? – Тамара Яновна, прикоснувшись к ней, догадалась – беременна. Да и лицо у Зины в темных пятнах.
Зина обняла Тамару Яновну, всплакнула вдруг:
– Сердара моего тоже отправляют. Так и не дождался маленького. Так ему хотелось увидеть.
– Ну, ну, не надо плакать, – Тамара Яновна погладила причесанные просто, по-бабьи, волосы Зины. – Вернется твой Сердар, ничего с ним не случится.
Зина улыбнулась, вынула платочек и вытерла глаза.
– Если б знала, что будет война, я воздержалась бы от маленького. Тоже поехала бы на фронт. Некоторые наши медички уже собираются, а мне здесь придется.
– Здесь тоже сидеть не дадут. – Тамара Яновна обнадеживающе посмотрела на Зину. – Разве не слышала о госпиталях? Говорят, уже везут в тыл раненых. Скоро и в Ашхабаде госпитали откроются. А как начнут работать госпитали, то сдашь своего маленького в ясли, а сама будешь день и ночь в операционных. Это не легче, чем на фронте.
– Но я же акушерка! – напомнила Зина. – К тому же, и на фабрике – при здравпункте.
– Фабрику у тебя не отнимут, можешь не беспокоиться. – Тамара Яновна улыбнулась. – Будешь и в госпитале, и на фабрике, и в яслях.
Перекличка между тем закончилась. Тамара Яновна поспешила к Юре. Зина со своим мужем подошли к ним.
– Ну, вот и снова встретились! – Сердар подал руку.
– В каком вагоне едешь? – спросил Юра.
– В четвертом. Там наши ребята.
– А я в восьмом. Приходи в гости. Мамаша мне бутылку коньяка в вещмешок положила. Выпьем в дороге. – Юра посмотрел на мать.
– Вот видишь, как надо, – сказал Сердар Зине. – Коньяк в дорогу кладут, а ты простой пшеничной не купила. Только и знаешь: «Нельзя тебе выпивать».
Зина, жалея его и думая, как бы всерьез не обиделся, пригласила всех в ресторан. Тамара Яновна пыталась отказаться, но Зина настойчиво упрашивала – пришлось согласиться. Тем легче было разочарование, когда, войдя в ресторан, они увидели непроходимую толпу, крик, ругань у буфета. Тогда Зина отправилась в магазин. Вскоре вернулась с шампанским, но пить не из чего. Юра сбегал в свой вагон и принес два стакана. Пили поочередно. Тамара Яновна пила и думала, как это все глупо и бестолково выглядит. Но странно, казалось, что именно этой глупости и бестолковости всегда ей и не хватало.
Сердар, подбрасывая, словно взвешивая на ладони, пустую бутылку из-под шампанского, заговорил кичливо:
– Вот такими чушками мы будем встречать их хваленую мотопехоту. Только эти чушки будут начинены взрывчаткой. Бамц под ноги – и ваших нет. Глядишь, и человек тридцать как коровьим языком слизнуло.
– С самолета что ли будешь такие чушки бросать? – удивилась Зина.
– Зачем, с самолета! Я же не о себе говорю. Я – о пехоте нашей. А что касается нас, авиаторов, тут совсем другое дело. Мы – на бреющем.
Сердар, да и все остальные не заметили, как к ним, расталкивая толпу, подошел припоздавший на проводы Чары-ага.
– Вот вы где! – воскликнул он радостно. С лица старика ручьями лил пот. Несмотря на жаркий августовский день, Чары-ага был в длинном демисезонном пальто и шапке-кубанке. За плечом у него торчал старый брезентовый ранец, времен гражданской войны. Подойдя к компании сына, он сразу снял ранец с плеча и поставил у ног. Сердар, не зная куда деть пустую бутылку, бросил взгляд через красные солдатские теплушки, явно намереваясь перебросить бутылку через них. Зина выхватила бутылку из его рук, сказала обиженно:
– Ненормальный какой-то. А если там люди ходят. Сердар захохотал, ощерив крупные белые, зубы, и приподнял ранец:
– Отец, ты случаем, не собрался тоже на фронт?
– На фронт пока погожу, – отозвался весело Чары-ага. – Думаю, вы – молодежь – и без меля там управитесь. Я в твои годы, сынок, всю Туркмению на коне изъездил – белогвардейцев да басмачей по пескам гонял, так что у меня есть военный опыт. Если потребуется моя помощь – позовете: приеду – покажу фашистским захватчикам, на что способна старая гвардия. На, сынок, держи – в этом походном ранце горячий чурек, мать испекла – тебе на дорогу. Пока будешь ехать в вагоне, – тебе пригодится. Ребят, своих друзей, угостишь тоже… Я тебя немножко провожу. Утром зашел к директору – договорился. Доеду до Байрам-Али, там простимся – пойду на хлопковую базу. С этой проклятой войной байрамалийцы хлопок стали не вовремя сдавать… Мы с вами знакомы, уважаемые? – неожиданно спросил он, словно только что заметил. Юру Каюмова и его мать. – Не Ратха ли семья? Мне кажется, я где-то вас видел. На свадьбе были?
– Да, Чары-ага, вы не ошиблись, – сказала Тамара Яновна, дотронувшись до плеча Юры. – Это сын Ратха.
– Значит, тоже на фронт. – Чары-ага посмотрел на Юру. – Не страшно тебе, сынок?
Юра презрительно усмехнулся.
– Трусы под лавками прячутся, Чары-ага.
– Старики тоже пока отсиживаются. – Чары-ага вздохнул и, подумав, прибавил: – Ну, ничего, еще месяц, другой – и мы тоже отправимся на передовую. Я думаю, задерживать в тылу нас не будут. Да и сами мы не из такой породы – чтобы отсиживаться.
– Ладно вам, Чары-ага. – Юра хлопнул старика по плечу. – Вы свое Родине отдали сполна – честь вам и слава. Дело теперь за нами – за молодежью.
– Отец твой где, почему не пришел проводить? – спросил Чары-ага.
– С отцом – одно горе. – Тамара Яновна махнула рукой. – До сына ли ему! У других отцы как отцы… А этот… Днюет и ночует на пересылке. Ополчение на перрон прислал, а сам там остался.
В три часа дня снова построение. На этот раз с речью к новобранцам обратился военком. Еще через полчаса команда «по вагонам». Эшелон медленно отошел – словно поплыл вдоль перрона. Новобранцы садились в вагоны на ходу. Тамара Яновна шла следом и махала Юре. Но вот эшелон скрылся за семафором. Тамара Яновна, оглядевшись, увидела Зину и подошла к ней. С минуту они стояли, глядя, как покидают перрон провожающие, и направились тоже к выходу.
– Ну, вот и все, – трудно выговорила Тамара Яновна. – Спаси и помилуй их бог. Никогда раньше не вспоминала бога, а сейчас хочется просить у него милости за сына. Один он у нас. У меня такое ощущение, словно Юра увез с собой мое сердце. Пусто в груди и горько. Видно, такова наша женская доля – страдать и убиваться по сыновьям, по мужьям. А им и горя мало… Видела, как они озорничали перед отъездом? Словно не на войну собрались, а так – на карнавал с иллюминацией и фейерверками.
– Ваш-то, Юра, еще ничего: скромный все-таки, – сказала Зина. – А мой Сердар – словно бес в него вселился. В истребительный полк едет, как же! Вчера выпил, кричит на весь текстильный городок: «Ну, гады, посмотрим – кто кого! Я им покажу, как поганить синее советское небо». Никогда его таким не видела.
Они шли по улице, углубившись в разговор, и совершенно не обращали ни на кого внимания. Люди спешили навстречу им – озабоченные, печальные, решительные. У каждого в глазах выражалось: «Война!» Голос радиокомментатора пророкотал сверху:
– От Советского информбюро!..
Вздрогнув, женщины посмотрели друг на друга, затем на черный раструб репродуктора, укрепленный высоко на столбе, на здания и окна. Стены, двери, окна – все внимало грозному и тревожному времени.