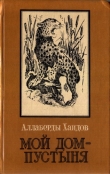Текст книги "Разбег"
Автор книги: Валентин Рыбин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Валентин Рыбин
РАЗБЕГ
РОМАН


ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Он был высок и строен. На нем красовалось черное кожаное пальто и поскрипывали хромовые сапоги. Пальто – нараспашку. Голова не покрыта. Лицо смуглое, скуластое. Под жесткими коротко подстриженными волосами чернели густые брови и глаза – большие и строгие. Даже когда он смущенно назвал свое имя и обнял отца, тот сразу не сообразил, с кем повстречался. Лишь после того, как сын, поднявшись на айван, вошел в комнату и разделся, оставшись в гимнастерке и галифе, взгляд у Каюм-сердара потеплел.
– Глазам своим не верю, – пролепетал он, отвернувшись, и вновь повернулся. – Неужели это ты, Ратх?
Каюм-сердар дотронулся сухими сморщенными пальцами до плеч сына, затем принялся ощупывать его: он ли это, бежавший из дому двадцать лет назад и вот явившийся нежданно-негаданно, как во сне?
– Я это, кто же еще! – со счастливой усмешкой произнес сын. – Вот приехал, а ты, кажись, и не узнал меня. Видно изменился я порядком… Мама где? – голос Ратха дрогнул: «А вдруг ее уже нет?»
– На базаре она, придет скоро, – торопливо заговорил Каюм-сердар. – Ты-то когда приехал? Поезда вроде бы утром приходят, а сейчас уже день.
– Я уже дней десять живу в Туркмении, – пояснил Ратх. – Приехал с делегацией Калинина. Успел побывать с ним в Кизыл-Арвате, Мерве, Иолотани, Байрам-Али. Теперь вот в Полторацке. Кое-как выбрал время, чтобы навестить вас. Город бурлит, тесно на улицах – столько людей на торжества понаехало. Да и местные – все из своих дворов вышли. Признаться, думал не застану тебя дома. А ты отсиживаешься – тебе и дела нет до всенародного веселья. Или все еще на старый лад настроен?
– Ай, не старый, не новый лад меня не интересуют, – сконфузившись, отмахнулся широким рукавом чекменя Каюм-сердар. – Ты садись, я сейчас скажу, чтобы чай принесли.
Каюм-сердар вышел из комнаты. Тотчас со двора донесся его хозяйский сипловатый голос. Ратх не стал прислушиваться, с кем там разговаривает отец и принялся рассматривать на огромном настенном ковре фотографии.
Это были пожелтевшие от времени фотокарточки в картонных рамках. На всех Каюм-сердар – молодой, в тельпеке и халате, с нашивками сельского старшины. Вот он – один, на коне. Вот – в окружении русских офицеров. В самом центре полковник Куропаткин – начальник Закаспийской области. А вот с сыновьями. Черкезу лет двенадцать – теперь его уже давно нет в живых. Аману восемь, а Ратху шесть… Ратх вспомнил тот далекий день, когда в этот вот отцовский двор приехал на фаэтоне толстый армянин с ящиком и сфотографировал всех.
Вернувшись со двора, Каюм-сердар застал сына за рассматриванием фотографий.
– Да, сынок, это все, что осталось от той золотой поры, когда мы жили в мире и роскоши, – сказал с сожалением.
– Жалеешь о той далекой поре, – усмехнулся Ратх. – Хоть и говоришь, что не старый, не новый лад тебя не интересуют, но по всему видно – болит твое сердце о старом. Вот и фотокарточки развесил на общее обозрение. Смотрите, мол, гости добрые, каким был Каюм-сердар в молодости! Снял бы их ты, отец. Сегодня они торчат, как вызов новому миру. Да и не все еще забыли, кем был Каюм-сердар двадцать или даже десять лет назад. В восемнадцатом я воевал в Первой конной Буденного, рубил белогвардейцев саблей, и сам едва головы не лишился, но самым страшным для меня в тот год были вести о белом мятеже в Закаспии. Я знал что твой старый друг Ораз Сердар возглавил здешнее царское охвостье. Боялся я, как бы и твое имя не выплыло на поверхность мутной контрреволюционной волны. Хоть и говорят, «Кто старое помянет – тому глаз вон», но признаюсь тебе честно, отец, – я частенько вспоминал о первой революции в девятьсот пятом, когда ты за мной, как кот за мышкой, гонялся. Унижал меня как мог, на цепь даже посадил, чтобы сломить дух свободы. Бежать заставил из родного дома.
– Замолчи! – вне себя вдруг крикнул Каюм-сердар. – Замолчи, пока опять между нами не обвалилась земля! – старик, болезненно ежась, отошел к окну.
Ратх, переборов в себе вспыхнувшую внезапно злость, стал рассматривать позолоченное оружие на стене – саблю в ножнах, кинжал и патронташ.
– Ладно, отец, – сказал он с примирением, – не будем касаться больных наших мест. Но согласись, все-таки, со мной – я мог о тебе думать самое плохое.
– Запомни, Ратх, – по-прежнему зло и расстроено выговорил Каюм-сердар. – За свою долгую жизнь я не убил ни одного человека. Мои руки не измазаны кровью, и на душе нет черного пятна убийцы. Когда я был аульным старшиной – арчином, мне приходилось стегать кое-кого плеткой… за неуплату налогов… за неуплату долгов. И это все, чем я обидел некоторых бедняков. В восемнадцатом, когда к власти пришли эсеры и англичане, Фунтиков и Тиг Джонс приходили ко мне, уговаривали, чтобы возглавил я туркмен и повел против красных, – но я отказался. Тиг Джонс смеялся мне в лицо, стыдил меня. Потом пригрозил: если я не соберу всех парней аула и не приведу на станцию, чтобы отправить их на белый фронт, то временное правительство вынуждено будет отобрать у меня все мои богатства. Прежде всего – овец. Тиг Джонс ушел, а я послал своего человека в пески к твоему брату Аману, велел, чтобы отогнал обе отары подальше.
– Аман жив-здоров? – спросил уже более спокойно Ратх. – Я слышал вчера от одного командира, будто Аман служит старшим конюхом на ипподроме.
– Да, сынок. Именно так, – подтвердил Каюм-сердар. – Аман – конюх, сын его, Акмурад, тоже при нем, на конюшне. Вся семья его живет здесь, у меня. Вот и Галия-ханум, жена его, чай несет.
Ратх вздрогнул при упоминании ее имени, теплое чувство родства приятно заполнило грудь. Мгновенно всплыла в памяти кибитка старика-седельщика в песках, у озера. Перестрелка с казаками, смерть Черкеза и отъезд Галии и Амана куда-то на дальние колодцы, к Узбою… Галия сидела на лошади, держа в руках завернутого в пеленки сынишку… Сейчас Галия шла с чайником и стопкой пиалок, совершенно не подозревая, кого собирается угощать. Ратх подумал: интересно, узнает она меня или нет? И в ожидании, пока она переступит порог, затаив дыхание, рассматривал ее. Ратху показалось, что она нисколько не изменилась. Та же царственная походка и аристократически приподнятый подбородок. Может быть, немножко пополнела, или так показалось, поскольку была она в туркменском, широкого покроя платье – кетени. Каюм-сердар, видя, сколько чувств вызвала в Ратхе своим появлением Галия-ханум, тоже вспомнил о трагической гибели старшего сына, о том, как долго и трудно смирялся с мыслью, что причиной его смерти была она, именно эта Галия, княжеская дочь. Не простил бы он ей никогда, но средний сын, Аман, оказался новым ее мужем и родным отцом первого внука Каюм-сердара. Пришлось сердару смириться с тем, что произошло. Пришлось объявить людям: старший сын, Черкез, погиб, и по адату овдовевшая жена, несравненная Галия-ханум, стала женой его родного брата, Амана… Вспомнив обо всем этом, Каюм-сердар лишь сердито по-стариковски проворчал что-то себе под нос и, чтобы скрыть вдруг вспыхнувшую неприязнь к невестке, громко и повелительно упрекнул ее:
– Поторапливайся, Галия! Чего идешь, как спутанная коза. Разве не видишь – кто у нас?! – Каюм-сердар снял чекмень, бросил его в угол.
Ратх заметил, как лицо женщины омрачилось тенью досады, – видимо, ворчливый свекор частенько поднимал голос на невестку.
– О, аллах! – возмутилась она, входя в широкую остекленную почти от полу до потолка комнату, с открытыми дверями, где сидели Каюм-сердар и его гость. – У вас совершенно нет понятия о такте, Каюм-ага. Разве можно так обращаться с женщиной при постороннем человеке?
– Какой он посторонний! – проворчал Каюм-сердар.
– Мне-то простительно – я не узнал его, – стар и глаза плохо видят. А тебе грех не узнать. Тебя Ратх грудью своей защитил от пули Черкеза, если верить твоим рассказам, невестка.
– Ой, Ратх! – поставив чайник и пиалы, всплеснула широкими рукавами Галия-ханум. – Деверек мой! А мы считали тебя… Ну, встань же, я хоть взгляну на тебя как следует! Откуда ты?
Ратх поднялся с ковра, поцеловал Галию в щеку. От нее пахло тонким ароматом духов, и синяя мушка на щеке, о которой она так заботилась в молодости, двадцать лет назад, по-прежнему украшала белое личико женщины.
– Ай, сынок, пусть идет, не мешает нашему разговору.
– Не беспокойтесь, Каюм-сердар, я сейчас же уйду, – обиженно отозвалась Галия-ханум, не сводя глаз с Ратха. – Женат ты, деверек?
Ратх улыбнулся, кивнул. Галия расцвела в улыбке:
– Кто она, твоя благоверная?
– Она – доктор.
– Доктор? – удивилась Галия. – Вот, не думала. Наверное, русская, к тому же москвичка. Или из Петрограда?
Каюм-сердар основательно рассердился:
– Уходи, женщина, не мешай нам! Нет стыда в тебе!
– Ладно, деверек, потом поговорим. – Уходя, она приостановилась за остекленной стеной и оттуда спросила: – Каюм-ага, наверное надо обед приготовить?
– Если ради меня, то не надо! – сказал Ратх. – Через час я должен быть на съезде.
– Ставь обед, не спрашивай, – распорядился Каюм-сердар и, забыв сразу о Галие, заговорил с сыном. – О съезде говоришь? Высоко тебя забросила твоя судьба. С Калининым вместе ездишь, женился на докторе. Все это для нас ново, все непонятно. Как ушел из дому, еще в девятьсот шестом, так и пропал. Ни одного письма не прислал.
– Писал я тебе, отец, да только ответа не дождался. Раза два до десятого года писал, а потом – не до писем было. Арестовали, сослали в Нарын, там до самой революции пробыл.
– За что же арестовали?
– За непочтение родителей, – засмеялся Ратх, тронув отца за плечо. – Можно подумать, что ты и впрямь не знаешь, за что меня могут арестовать. Из ссылки вернулся в Москву, потом уехал в Воронеж, в красноармейский полк. Воевал…
Каюм-сердар, насупившись, опустил голову:
– А после войны почему сразу не вернулся?
– Ездил по деревням, отец, – жизнь у мужиков налаживал. Комбеды организовывал, хлеб для голодающих доставал. Когда возвратился к жене и сыну в Москву, предложили ехать на родину, в Туркмению. Образуется, мол, республика – нужны в партийном аппарате люди. Вот и приехал.
– А семью почему не взял? Места бы всем хватило. Комнаты Черкеза до сих пор пустые стоят.
– С семьей я приехал, отец. В Доме дехканина жена и сын. Там мы пока поселились.
– Как же так, сынок?! – Каюм-сердар встал с ковра. Недоумение, досада на сына подняли его с места. – Привез семью – жену, сына – и держишь их в вонючем Доме дехканина, а к отцу привести побрезговал! Может, и меня, как всех других бывших слуг государя императора, своим врагом считаешь? Напрасно ты так, Ратх. Власть меняется – то одна, то другая, а отец у тебя один – его другим не заменишь.
– Ну, ладно, ладно, – с чего ты взял, что я тобой пренебрег, – слабо защитился Ратх. – Просто не было времени. С дороги в гостиницу и – снова в дорогу.
– Давай, веди жену и сына сюда. Будете здесь, у меня жить, – вновь потеплел душой Каюм-сердар.
– Завтра, отец. Сегодня мне некогда.
– Ну, тогда пойдем, покажу тебе – где жить будете.
– Это другой разговор, – согласился Ратх.
Пройдя в другой конец двора, они поднялись на запустевшую, покрытую слоем пыли, веранду. Две двери, ведущие в мужскую и женскую половины дома, были на замках. Старик снял с гвоздя связку ключей, отыскал нужный, открыл замок и распахнул дверь на мужскую половину. Оттуда пахнуло затхлым запахом плесени.
– Ханум! – громко и недовольно позвал Каюм-сердар.
– Здесь я, здесь! – отозвалась Галия, ведя от ворот под руку мать Ратха. – Вот и Нартач-ханым с базара вернулась.
Ратх, оглянувшись и увидев мать, взялся от счастья обеими руками за голову, спустился во двор и заключил растерянно улыбающуюся Нартач в крепкие объятия.
II
Через час Ратх сидел в зале заседания Первого Съезда Советов Туркменской ССР, совершенно оглушенный радостью только что состоявшейся встречи с родителями, слушал, как зачитывали декларацию, и радость его перерастала в гордость и торжество. Что и говорить, приятно было сознавать, что он, Ратх Каюмов, присутствует при рождении Туркменской республики не случайно: он, может быть, самым первым из туркмен примкнул к рабочему движению и участвовал в революции девятьсот пятого. Он одним из первых включился в борьбу за новую жизнь, и кому как не ему, решать сейчас в этот исторический день дальнейшую судьбу своего народа, своих потомков.
Месяц назад в Москве, когда его пригласили в Туркменпоспредство и предложили ехать работать в Туркмению, Ратх не испытал тех возвышенных чувств, какие испытывал сейчас. Отвык, что и говорить, от своих родимых мест, стерлась за двадцать лет тяга к отчему дому. Да и не очень-то радостные картины являла его память, когда он вспоминал об отчем доме. Вспоминая порой о шумном каюмовском подворье, Ратх приходил к мысли, что нет, пожалуй, ему возврата в родной дом: никто не ждет его там. Разве что – мать. Да и самое понятие о родине в последние годы складывалось у него по-иному. Прожив почти двадцать лет в Москве и на поселении в Сибири, он вполне естественно считал своей родиной всю Россию.
После вечернего заседания Ратх вместе с другими направился в только что открывшийся Дом дехканина, к текинскому базару, где квартировали почти все делегаты и занимали одну из комнат Ратх с женой и сыном. Шли огромной толпой, заполнив обе стороны улиц. Поперек дороги над головами полоскались на ветру транспаранты и кумачовые флаги на углах зданий. Еще праздничнее обстановка царила в самом Доме дехканина. На айванах тесно от собравшегося люда. Звенит дутар и поет бахши. Внимание всех направлено к певцу. Ратх постоял, облокотившись на перила, послушал бахши и направился к своей комнате. Подходя к двери, Ратх увидел широкоплечего, приземистого военного.
– Вам кого, товарищ? – настороженно спросил Ратх.
– Не вы ли Ратх Каюмов? – отозвался военный и вдруг засмеялся громко и упоенно: так мог смеяться только Аман.
– Аман! – Ратх устремился к брату, и они, обнявшись, оба смолкли, словно онемели, – так велика была их взволнованность.
– Ратх, я плачу, ты прости меня, – извинился Аман. – Сам знаешь – слезу из меня выбить трудно, но сейчас я плачу от того, что повстречал тебя. Примерно час назад приезжаю домой. Только привязал коня, Галия кричит на весь двор: «Аман, Аман, твой брат Ратх приехал!» Ну, я, конечно, расспросил, где ты, – и скорее сюда. Прибегаю – дверь на замке. Что такое, думаю! Где же он? Бегу по айванам, и тут мой хороший, друг, командир взвода Иван Иргизов со своим старым приятелем на тахте сидят, – шашлыком заправляются. Иван схватил меня за руку… В общем, давай пойдем к ним!
– Ну, что ж, веди к своим друзьям, – согласился Ратх. – Все равно Тамары дома нет, да и сын где-то бегает.
– Мне Галия сказала, что ты с семьей приехал, – торопливо заговорил Аман, увлекая брата к айванам. – Говорит, жена у тебя какая-то москвичка, докторша. Ты наверное совсем отошел от наших обычаев, а?
– Ну, что ты! – Ратх взял Амана под руку. – Я по-прежнему тот же Ратх, каким ты меня знал в девятьсот шестом, когда мы с тобой революционера спасали. И жена моя… ты знаешь ее… Помнишь, из Джунейда каракулевые шкурки для нее привозил? На шапку! Неужели забыл? Ну, Тамарой ее зовут!
– Вай, Ратх, – приостановился Аман. – Неужели ты говоришь о той, которая тогда в тюрьме сидела? Ну, эта – революционерша!
– Она самая, Аман… Тамара Яновна Красовская. И сын у нас – Юрой зовут. Пятнадцать лет джигиту…
– Вах-хов, вот, значит, какие дела. Сын, значит! Мой тоже, дай бог, каким орлом вырос! – восхищенно произнес Аман. – Помнишь же! Ты же видел его на Джунейде.
– Видел, конечно, да только он тогда крохотным был!..
Восклицая и останавливаясь, они наконец спустились к сидящим на огромных тахтах дехканам и кое-как пробились к Ивану Иргизову и его товарищу, который оказался туркменом в черном косматом тельпеке, с огромной бородищей.
– Ну, что, встретились, братаны! – без всяких церемоний вступил в беседу Иргизов, высокий и плечистый командир взвода, с задорными голубыми глазами и желтой, пшеничного цвета, роскошной шевелюрой. – Вполне понимаю и разделяю вашу, так сказать, обоюдную радость. Сам недавно вот так с сестренкой встретился. Не виделись с самого двадцатого года, и вдруг – на тебе – приезжает из Оренбурга, вся в лохмотьях, с сумкой на плече… Садитесь, братаны, как раз шашлычок свеженький несут.
Иргизов отодвинулся, освобождая место для братьев. Бородач, назвавшийся делегатом Чары Пальвановым, тоже потеснился к деревянной колонне айвана. Подав руку Ратху и услышав его имя, поинтересовался, надолго ли он прибыл в Ашхабад. Ратх охотно пояснил:
– Навсегда, Чары-ага. Не думал, не гадал, но вот встретился в Москве в поспредстве с товарищем Атабаевым, он и уговорил меня ехать на родину. Говорит, люди грамотные нужны в Туркмении, а туркмены грамотные – особенно.
– Да, это уж точно, – рассудительно отозвался Чары-ага, снимая с шашлычной палочки кусочки мяса и накладывая в тарелки Ратха и Амана. – Если хотите знать, за грамотными людьми иногда надо лазить даже на дно колодца.
Едва бородач произнес последние слова, как Иргизов с отчаяньем вздохнул и поморщился:
– Чары-ага, побойся бога. Ты сегодня добьешь меня! Ну, нельзя же так. Представляете, – пояснил он, гладя на Ратха, – вчера с трибуны всему свету заявляет: дружбу туркмена и русского водой не разольешь. Я сижу, слушаю и думаю: ну, молодец Чары, прямо как по-писанному чеканит. А он тут же объявляет всему залу: я, дескать, русского командира Ивана Иргизова собственными руками со дна колодца достал.
Братья недоуменно засмеялись, а Чары-ага только и ждал этого. Тотчас пояснил, прожевывая мясо:
– Иван шел со своим батальоном в Керки. В дождь они попали, промокли все. Костер развели, стали сушиться. Безграмотные люди посушились и спать легли, а Иван сел у костра и начал книжку читать. Муса называется.
– Не Муса, а Мюссе! Олух царя небесного, когда ты усвоишь фамилию французского классика?!
– Ладно – Мюссе, – спокойно согласился Чары-ага. – Ну и вот, значит, уснул Иван. Мюссе цел и невредим остался, а барахло – гимнастерка и галифе сгорели.
– Как – совсем сгорели?! – удивился Ратх.
– А ты как думал! – проговорил Чары-ага. – Но Иван, дорогой мой друг, не таким оказался. Встал он и пошел в аул за одеждой. Пошел через кладбище. Как раз утро было. Люди только проснулись, из кибиток вышли. И вдруг – человек, весь в белом, с кладбища идет. Сын мой, Сердар, кричит: «Отец, отец, скорей убегай, мертвец из могилы встал – посмотри!» Я выскочил из кибитки, чтобы посмотреть, а народ уже к Амударье бежит, только пятки сверкают. Испугались все. Женщины кричат, дети плачут… Собаки только молодцы – эти не испугались: бросились на «мертвеца» и загнали его в колодец. Сын мне кричит: «Отец, он в колодец прыгнул, я сам видел!»
– Слушай, Чары, прекрати ты ради бога! – взмолился Иргизов.
– Ладно, сейчас, Ваня, ты не обижайся. Мои собаки кого угодно могут загнать в колодец. Но главное дело во мне. Мы с сыном бросились к колодцу и вытащили «мертвеца»… Остальное сам расскажи.
Иргизов облегченно вздохнул.
– Ядовит ты, Чары-ага. Ты же совершенно беспомощным человеком меня представляешь. Что могут подумать братаны! Ведь они могут подумать, что не командовал я взводом и не записал в свой отряд твоих джигитов-аульчан. Они могут подумать, что и ты не был моим заместителем, пока с басмачами бились!
– Ну-ну, ты зубы нам не заговаривай, – лукаво заметил Чары-ага. – Ты давай к делу. Ты расскажи, как «воскресал», товарищ командир.
Ратх и Аман продолжали смеяться, глядя, как добросердечно подшучивают друг над другом старые приятели. И Иргизов, напустив на себя наивную кротость, сказал:
– Последнее, что я запомнил, это была псиная морда с громадными клыками. Потом упал в колодец, как в преисподнюю, и потерял сознание. Очнулся, открыл глаза – вижу – кто-то лежит на мне. Дотронулся рукой – шерсть. Боже мой, неужели в ад к чертям угодил?! Хочу вылезти – никак не могу – руки и ноги ослабли. Тут Чары-ага подскочил и снял с меня огромную хивинскую шубу. Оказывается, они меня вытащили из колодца, уложили на кошму, и шубой накрыли.
Ратх смеялся от всей души и чувствовал, как эта непринужденная встреча сближает его с этими добропорядочными людьми.
– Вы тоже делегат Съезда Советов? – спросил Ратх.
– Делегат, – подтвердил Иргизов. – Делегат – от личного состава красноармейцев и командиров артиллерийского полка.
Аман, доселе не вступавший в беседу, не без гордости пояснил брату:
– Иван помог мне устроиться старшим конюхом. Он тоже любит лошадей. Я ему рассказывал, как мы с тобой когда-то в цирке Добржанской джигитовали.
– Да, я уже наслышан о вас, – подтвердил Иргизов. – Как-нибудь приглашу к себе в гости. Я тут недалеко живу – возле, площади.
– Спасибо, Иван. С удовольствием принимаю ваше приглашение, – с благодарностью отозвался Ратх.
– Только, дорогой Ратх, не надо к нему и ко мне обращаться на «вы», – попросил Чары-ага. – Конечно, в Москве можно, – тут же отшутился бородач. – Москва большая. Но Полторацк – городок небольшой, можно называть друг друга на «ты».
– Ладно, друзья, – улыбнулся Ратх. – Прекрасные вы люди. И ты, Чары-ага, и ты, – Иван. Буду считать, что мне повезло в дружбе.
– Не ошибешься, – заверил Чары-ага. – Вместе будем строить новую жизнь, каждый покажет себя в деле. – Главное сейчас, товарищи, создать нам на селе крепкие партячейки. – Ратх обвел взглядом сидящих на тахтах дехкан. – Вот если эта сила возьмется, засучив рукава, за дело, то мы в самый короткий срок построим на земле туркмен социализм.
– Поработаем, конечно, – согласился Чары-ага. – Приеду в свой Карабек – соберу всех своих активистов: и партийцев, и кандидатов.
– Кстати, о кандидатах, – тотчас вернулся к разговору Ратх. – Партийный съезд считает, что кандидатские ячейки в аулах были созданы без учета реальных возможностей. Вместо них надо создавать и укреплять ячейки «Кошчи» – в них самая суть советизации аула.
– Да, дорогой Ратх, это я хорошо знаю. Но мне непонятно, почему так волнуешься о союзе «Кошчи» ты сам? – заинтересовался Чары-ага.
– Чары-ага, не прими в обиду, – улыбнулся Ратх, – но тебе придется постоянно иметь дело со мной. Я назначен инструктором сельхозотдела ЦК.
– Бай-бой, вот, оказывается, с кем меня свела судьба! – бородач замер, затем пристально посмотрел на Ратха, словно только что его увидел. – Ну, что ж, если так – я готов подчиниться.
Аман тем временем поставил на тахту чайники. Слева на тахте, где сидели делегаты из Мерва, зазвенел дутар и запел звучным пронзительным голосом бахши. Все сразу повернулись в ту сторону и просидели, слушая певца, до поздней ночи. Было уже двенадцать, когда Ратх посмотрел на часы и решительно встал.
– Ну, что, друзья, будем считать, что это не последняя наша встреча. Пора отдохнуть. Аман, завтра утром жду тебя – приходи, перенесем чемоданы…
Распрощавшись с братом и друзьями, Ратх пошел к себе. Дверь открыла Тамара.
– Какой ты молодец, что оказался дома! – воскликнула она радостно. – Я думала – опять отправился в аулы. Юра, решив, что ты уехал, – уснул. Проходи, раздевайся. Я не буду включать электричество, – Ну, как у тебя – был у своих?
– Завтра перебираемся. У них там, оказывается, две комнаты свободны, в которых когда-то жил Черкез.
– Как тебя встретил, отец?
– Хорошо, как будто бы. Вида не подал, что когда-то ссорились. Вот только взгляды у него прежние.
– Ничего, как-нибудь найдете общий язык, – успокоила мужа Тамара Яновна. – Все-таки, отец есть отец… Я тоже сегодня попутешествовала. В общем, приняла должность главврача в облздраве, потом ездили по городу. Была на Хитровке. Дом мадам Дамкиной, в котором я жила, оказывается, цел, стоит, как ни в чем не бывало. У меня даже мурашки по коже прошли. Вспомнила все сразу – Людвига, Ксану…
Тамара Яновна рассказывала о своих встречах и впечатлениях, о том, что ей предстоит сделать в первые же дни, а Ратх думал об отце. Думал о том, что скора начнется земельно-водная реформа, дело коснется воды и земли, скота и имущества, а ведь отец не из бедных дехкан. У него и вода, и земля, и овец две отары. Да и по-прежнему заражен старым духом. Трудновато будет найти с ним общий язык.