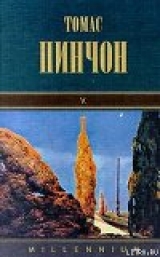
Текст книги "В"
Автор книги: Томас Рагглз Пинчон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 39 страниц)
ЭПИЛОГ
1919 год
I
Зима. Зеленая шебека с носовой фигурой в виде Астарты, богини плотской любви, медленно, в лавировку заходила в Большую гавань. Желтые бастионы, мавританский с виду город, дождливое небо. Что еще на первый взгляд? В молодости старый Стенсил не нашел романтики ни в одном из добрых двух десятков посещенных им городов. Но теперь, словно наверстывая упущенное, его рассудок, подобно небу, истекал дождем.
Он стоял на корме под дождем, в обернутой непромоканцем птичьей клетке лежали спички. Некоторое время над его головой висел форт Св. Анджело грязно-желтый, окруженный неземным безмолвием. С траверза подходил корабль Его Величества «Эгмонт». На палубе несколько похожих на бело-синих кукол моряков, несмотря на июнь дрожавших на гаванском ветру, драили медь, пытаясь разогнать утренний холодок. Его щеки все больше вытягивались по мере того, как шебека описывала замкнутый, казалось, круг, пока унесшийся прочь сон Гроссмейстера Ла Валлетта не сменился фортом Св. Эльма и Средиземным морем, которые, промелькнув, уступили в свою очередь место Рикасоли, Витториозе и Докам. Мехемет, хозяин, ругался на рулевого, с бушприта к городу тянулась Астарта, словно город был спящим мужчиной, а она – неодушевленная носовая фигура – суккубом, собирающимся его изнасиловать. Мехемет приблизился к Стенсилу.
– Странный у Мары дом, – произнес Стенсил. Ветер играл единственной прядью седых волос надо лбом. Он сказал это не для Мехемета, а для Валетты, но хозяин понял.
– Всякий раз, когда мы приходим на Мальту, – сказал он на каком-то левантском наречии, – я чувствую одно и то же. Будто на море стоит великая тишь, а этот остров – его сердце. Будто я вернулся в место, встречи с которым всеми своими фибрами жаждала моя душа. – Он прикурил сигарету от трубки Стенсила. – Но это обман. Этот город изменчив. Остерегайся его.
Медвежьего вида парень, стоявший на причале, принял их швартовы. Мехемет обменялся с ним "салям алейкум". На севере за Марсамускетто стоял облачный столб, казавшийся твердым, готовым упасть и разрушить город. Мехемет шагал по судну, пиная ногами членов команды. Один за другим они полезли в трюм и стали вытаскивать на палубу груз – пара коз, мешки сахара, сицилийский сушеный эстрагон, бочки греческих соленых сардин.
Стенсил собрал вещи. Дождь усилился. Он раскрыл большой зонт и, стоя под ним, разглядывал доки. Ну и чего же я жду? – спрашивал он себя. Угрюмые матросы спустились под палубу. Мехемет, хлюпая ногами по палубе, подошел к нему. "Фортуна", – сказал он.
– Изменчивая богиня. – Береговой матрос, принявший их швартовы, теперь сидел на свае и, нахохлившись, как вымокшая морская птица, смотрел на воду. – Остров солнца? – Стенсил рассмеялся. Его трубка еще не потухла. Окруженный клубами белого дыма, он распрощался с Мехеметом, повесил на плечо сумку и, неуклюже балансируя на узкой доске, стал перебираться на берег, его зонт походил на парасоль канатоходца. В самом деле, – думал он. – Насколько безопасен этот берег? Берег как таковой?
Глядя из окна такси, ехавшего под дождем по Страда Реале, Стенсил не заметил того праздника, какой можно увидеть в других европейских столицах. Может, из-за дождя. Долгожданное облегчение. Да. За семь месяцев Стенсил был по горло сыт песнями, флажками, парадами, случайными связями, безудержным весельем – нормальной реакцией гражданской толпы на перемирие или мир. Даже в обычно трезвых кабинетах Уайтхолла это переходило всякие границы. Перемирие, гм!
"Я не могу понять вашу позицию", – сказал Стенсилу Каррутерс-Пиллоу, тогдашний его шеф. Перемирие; гм, в самом деле.
Стенсил пробормотал что-то о нестабильной ситуации. Мог ли он рассказать Каррутерс-Пиллоу обо всех тех людях, которые после прочтения самого непоследовательного из подписанных министром иностранных дел заявлений испытывали то же, что, должно быть, испытывал Моисей при виде десяти заповедей, высеченных на камне Богом. Разве перемирие подписали не официально назначенные главы правительств? Разве это не мир? Но спорить не стоило. Тем ноябрьским утром они стояли у окна и наблюдали за фонарщиком, гасившем в парке Сент-Джеймс огни, представляя его гостем с обратной стороны зеркальной амальгамы, из времени, когда виконт Грей, стоя у окна – возможно, у этого же, – сделал свое знаменитое замечание об огнях, гаснущих по всей Европе. Стенсил, разумеется, не видел разницы между событием и образом, но, в то же время, считал нецелесообразным выводить шефа из эйфории. Пускай несчастный простак спит. Стенсил просто был угрюм, что, однако, не мешало ему считать свое настроение праздничным.
Референт мальтийского губернатора, лейтенант Манго Шивз обрисовал Уайтхоллу структуру недовольства – среди полицейских, студентов, чиновников, докеров. За этим недовольством стоял «Доктор» – организатор, инженер-строитель Э. Мицци. Который, как предположил Стенсил, является губернатору, генерал-майору Хантер-Блэру в кошмарных снах, но сам Стенсил видел в Мицци лишь политика, несколько старомодного энергичного макиавеллианца, которому удалось дотянуть до 19-го года. По поводу подобной устойчивости убеждений Стенсил испытывал лишь тоскливую гордость. Его добрый друг Порпентайн, двадцать лет тому в Египте – ведь он был таким же. Был вне той эпохи, когда имело значение не то, к какой стороне ты примкнул, но само пребывание в оппозиции, испытание добродетелей, крикет. Стенсил мог лишь пристроиться в хвост.
Ладно, то наверняка был шок – его ощутил даже Стенсил. Десять миллионов погибших и как минимум вдвое больше раненых. Но мы, старые вояки, достигли той точки, – мысленно обращался он к Каррутерс-Пиллоу, – когда прошлых привычек уже не бросить. Когда мы со всей ответственностью можем заявить, что эта выдохшаяся лишь на днях бойня ничем по сути не отличается от франко-прусского конфликта, суданских войн или даже Крымской кампании. Возможно, в нашей работе необходим обман – скажем, для удобства. Но он благороднее этой противной слабости мечтаний – пастельных видений разоружения, Лиги, универсального закона. Десять миллионов погибших. Газ, Пассхенделе. Да, теперь бОльшая цифра, химические вещества, историческое значение. Но Боже правый, зато – не Безымянный Ужас, не чудо, заставшее мир врасплох. Мы видели все. Ничего нового, никаких нарушений законов природы, действуют те же знакомые принципы. Если война явилась для общества неожиданностью, то не сама война, а слепота общества – вот Великая Трагедия.
Всю дорогу до Валетты – пока следовал на пароходе до Сиракуз, пока неделю отсиживался в прибрежной таверне в ожидании шебеки Мехемета, пока плыл по Средиземному морю, чью богатую историю и глубину он не мог ни почувствовать, ни проверить, ни даже позволить себе попытаться проверить, старина Стенсил разглагольствовал на эти темы сам перед собой. Мехемет помогал.
– Ты стар, – задумчиво произнес старый шкипер за непременным вечерним гашишем. – Я стар, мир стар, но мир постоянно меняется, мы же меняемся лишь до поры до времени. И перемены эти известны всем. Мир, как и мы, мсье Стенсил, начинает умирать с момента рождения. Вы играете в политику, и я не претендую на ее понимание. Но сдается мне, – он пожал плечами, – все эти шумные попытки изобрести политическое счастье – новые формы правительства, новые схемы расположения полей и заводов – разве не похожи они на моряка, которого я видел на траверсе Бизерте в 1324 году? – Стенсил усмехнулся. Периодические причитания Мехемета об отнятом у него мире. И мир этот средневековые торговые пути. Он говорил, что провел свою шебеку сквозь разрыв в ткани времени, спасаясь среди Эгейских островов от тосканского корсара, который внезапно пропал из поля зрения. Но море было тем же самым, и до самого докования на Родосе Мехемет не подозревал о своем перемещении. С тех пор он покинул землю, чтобы обосноваться на Средиземном море, которое хвала Аллаху – не изменится никогда. И, независимо от истинных причин своей ностальгии, он пользовался мусульманским календарем не только в разговоре, но и в судовом журнале, в бухгалтерских книгах, хотя на религию и, возможно, на родовое право он махнул рукой много лет назад.
– Моряк в беседке, опущенной через планшир старой фелюги «Пери». Только что пронесся шторм, устремившийся к земле гигантской горой облаков, желтоватых из-за близости пустыни. Море там – цвета дамасских слив и такое тихое! Солнце садилось, тот закат не назвать красивым, просто воздух и гора штормовых облаков постепенно темнели. «Пери» была повреждена, мы поднялись на борт и окликнули хозяина. Никто не ответил. Лишь тот моряк, я так и не увидел его лица, один из тех феллахов, что, подобно ненасытному мужу, покинули землю и, ворча, проводят остаток жизни в море. Брак с ним – самый прочный в мире. На моряке была набедренная повязка, на голову наброшена тряпка от солнца, в то время уже почти скрывшегося. Мы окликнули его на всех известных нам диалектах, он ответил на тамашек: "Хозяин ушел, команда ушла, я остался и крашу судно." Действительно – он красил судно. Оно было повреждено, ватерлинии не видно, сильный крен. "Поднимайся к нам на борт, сказали мы, – наступает ночь, и тебе не доплыть до берега." Он не отвечал, просто макал кисть в глиняный горшок и плавно водил ею по скрипящим бортам «Пери». В какой цвет он ее красил? Вроде в серый, но уже наступили сумерки. Эта фелюга больше не увидела солнца. В конце концов я приказал рулевому разворачиваться и ложиться на курс. Я смотрел на феллаха, пока совсем не стемнело, – его фигура уменьшалась, с каждой волной он дюйм за дюймом опускался в море, но не замедлял темпа движений кисти. Крестьянин вывороченные корни торчат на поверхности – один, в море, ночью, красит тонущее судно.
– Или я просто старею? – спросил Стенсил. – Возможно, прошло уже то время, когда я менялся вместе с миром.
– Любое изменение ведет к смерти, – повторил Мехемет ободряюще. – В молодости ли, в старости – мы все время гнием. – Рулевой запел монотонное левантийское lanterloo. Звезды не показывались, на море стояла тишина. Стенсил отказался от предложенного гашиша, набил трубку дорогим английским табаком, закурил, выдохнул дым и начал:
– Итак, что у нас получается? В молодости я верил в социальный прогресс, поскольку видел шансы для прогресса личного. Сейчас, когда мне шестьдесят, в конце жизненного пути, я не вижу для себя ничего, кроме тупика, и – ты прав – для общества тоже. Но предположим, Сидней Стенсил не менялся, предположим, мир между 1859 и 1919 годами подцепил некую болезнь, и никто не удосужился поставить диагноз – симптомы были выражены слишком слабо, сливались с историческими событиями, но вместе с тем неуклонно прогрессировали. Всякий раз, каждую последнюю войну люди воспринимают, как новую редкую болезнь, которая теперь излечена и побеждена навсегда.
– Разве старость – болезнь? – спросил Мехемет. – Тело теряет активность, машины изнашиваются, планеты вихляют и идут на мертвую петлю, солнце и звезды оплывают и гаснут. Зачем говорить «болезнь»? Чтобы принизить старость и говорить о ней со спокойной душой?
– Затем, что все мы красим борт какой-нибудь «Пери». Мы называем ее обществом. Новый слой краски, неужели ты не понимаешь? «Пери» не может менять цвет, подобно хамелеону.
– Оспины не имеют никакого отношения к смерти. Новая кожа, новый слой краски.
– Конечно, – сказал Стенсил, думая о чем-то другом, – конечно, любой из нас предпочел бы умереть от старости…
Армагеддон унесся прочь, уцелевшие профессионалы не получили ни благословления, ни дара языков. Несмотря на все попытки прервать свою карьеру, костлявая старушка Земля и не думает спешить на тот свет; в конце концов она помрет от старости.
Потом Мехемет рассказывал ему о Маре.
– Твоя очередная женщина?
– Ха! В самом деле. «Мара» по-мальтийски значит «женщина».
– Так я и думал.
– Если тебя интересует слово, это – дух, обреченный жить на Шагрит Меввийа. Населенная равнина – полуостров, на оконечности которого стоит Валетта, – ее удел. Она выхаживала потерпевшего кораблекрушение святого Павла, как Навсикая – Одиссея, она учила любви всех пришельцев от финикийцев до французов. Возможно, даже англичан, хотя после Наполеона эта легенда не пользуется былым уважением. По всем сведениям, она – абсолютно историческая фигура, как святая Агата, одна из второстепенных мальтийских святых.
Великая Осада была позднее моей эпохи, но одна из легенд гласит, что когда-то Мара могла появиться в любой части острова и моря – вплоть до богатых рыбой отмелей у Лампедузы. С тех пор флотилии рыбачьих лодок всегда ложатся там в дрейф стручком рожкового дерева – это ее символ. В начале твоего 1565 года каперы Джиу и Ромегас захватили турецкий галеон главного евнуха императорского гарема. В отместку корсар Драгут схватил Мару в Лампедузе и повез ее в Константинополь. Когда корабль пересек невидимый круг с центром в Шагрит Меввийа и Лампедузой на окружности, она впала в странный транс, из которого ее не могли вывести ни ласки, ни пытки. В конце концов турки, потерявшие ростру в столкновении с сицилийской рагузой, привязали Мару к бушприту; так она и вступила в Константинополь – живой носовой фигурой. На подходе к городу – к желтому с серовато-коричневым под ясным небом городу – все услышали, как она пробудилась и закричала: "Лейл, хекк икун". Да будет ночь! Турки думали, она бредит. Или ослепла.
Ее привели в сераль к султану. Надо сказать, она никогда не изображалась писаной красавицей. Ее можно увидеть в образе нескольких богинь. Маска – одна из отличительных черт. Но вот что любопытно: в росписи, на глиняной посуде, на фризах или в виде изваяния – не важно – она всегда высокая, стройная, маленькие груди, без живота. Мара не меняется вне зависимости от моды на женщин. Слегка выпуклый профиль, небольшие, широко посаженные глаза. Не из тех, на кого обернешься на улице. Но она учила любви. Ученикам – тем надлежало быть красивыми.
Она понравилась султану. Возможно, специально постаралась. Так или иначе, к тому времени, когда Ла Валлетт перегородил железной цепью речку между Сенглеа и Св. Анджело, отравил коноплей с мышьяком источники на равнине Марса, ее сделали наложницей. Оказавшись в гареме, она продолжала свой бунт. Ей всегда приписывали умение колдовать. Может, к этому имел отношение стручок рожкового дерева – ее часто изображают с ним в руке. Как жезл или скипетр. Не исключено, что Мара это богиня плодородия – я не будоражу ваши англо-саксонские нервы? – хотя она божество необычное, гермафродитное.
Довольно скоро – через пару недель – султан заметил некоторую холодность в своих ночных подругах, нежелание, бездарность. И перемену в евнухах. Чуть ли – как бы это сказать – не плохо скрываемое самодовольство. Но он ничего не смог выяснить, и потому, подобно большинству безрассудных мужчин, приказал пытать некоторых наложниц и евнухов. Все настаивали на своей невиновности и до самого конца испытывали искренний страх, пока не испускали дух, проткнутые железным прутом или со свернутой шеей. Несмотря на это, положение усугублялось. Соглядатаи сообщали, что застенчивые наложницы, которые прежде, потупив взор, по-женски семенили, стреноженные тонкой цепочкой, теперь улыбаются и флиртуют со всеми евнухами подряд, а евнухи – о ужас! – им отвечают. Оставшись одни, жены с яростными ласками набрасываются друг на друга, а иногда бесстыдно занимаются любовью на глазах потрясенных соглядатаев.
В конце концов Его Ужасному Величеству, почти обезумевшему от ревности, пришло в голову вызвать чародейку Мару. Стоя перед ним в платье цвета крыльев тигровой бабочки, она со злой улыбкой смотрела на императорский подиум. Придворные были очарованы.
– Женщина… – начал Султан.
Мара подняла руку. "Все это сделала я, – она стала перечислять, научила твоих жен любить свои тела, открыла им роскошь женской любви, восстановила потенцию твоим евнухам, чтобы они могли доставить себе удовольствие друг с другом и с тремя сотнями умащенных тварей из твоего гарема.
Потрясенный таким охотным признанием, оскорбленный в лучших мусульманских чувствах той эпидемией извращений, что выплеснула Мара в покой его домашней жизни, султан совершил ошибку, которая стала бы роковой в разговоре с любой женщиной, – он попробовал спорить. Саркастически, как слабоумной, он объяснил ей, почему евнухи не способны совершить половой акт.
С улыбкой, не сходившей с ее лица, голосом, безмятежным как прежде, она ответила: "Я дала им все необходимое".
Она говорила столь уверенно, что султан испытал атавистический ужас. О, наконец-то ему стало ясно: он привел в свой дом ведьму.
Тем временем Мальту осадили турки под предводительством Драгута и пашей Пиали и Мустафы. В общих чертах вы знаете, что случилось. Они заняли Шагрит Меввийа, захватили форт Св. Эльма и пошли на приступ Нотабиле, Борго сегодня это Витториоза, – и Сенглеа, где укрылся Ла Валлетт с рыцарями.
Вот. Когда Св. Эльм пал, Мустафа (возможно, скорбя о Драгуте, убитом каменным ядром во время штурма) нанес леденящий кровь удар по боевому духу рыцарей. Он обезглавил их убитых собратьев, привязал трупы к доскам и пустил в Большую гавань. Представьте себе часовых, увидевших, как первые лучи рассвета коснулись товарищей по оружию, плывущих кверху брюхом в Гавани флотилию смерти.
Одна из самых таинственных загадок Осады – почему при численном перевесе турок над осажденными рыцарями, дни которых можно было счесть по пальцам одной руки, а Борго и вместе с ним вся Мальта уже почти попали в эту руку – руку Мустафы, – почему они внезапно отступили, подняли якоря и покинули остров?
История говорит, что причиной тому стали слухи. Дон Гарсиа де Толедо, вице-король Сицилии, спешил на помощь с сорока восьмью галерами. Помпео Колонна и с ним тысяча двести человек, посланных папой освободить Ла Валлетта, в конце концов достигли Гоцо. Но турки получили донесение, будто в бухте Меллеха высадилось двадцатитысячное войско, и оно направляется к Нотабиле. Объявили общее отступление; повсюду на Шагрит Меввийа зазвонили церковные колокола, на улицы высыпали ликующие толпы. Турки побежали, погрузились на корабли, уплыли на юго-восток и больше не появлялись. История приписывает случившееся ошибкам разведки.
Но вот какова правда: те слова произнесла Мустафе голова самого султана. Колдунья Мара погрузила его в гипнотический сон, отделила голову от тела и бросила ее в Дарданеллы, и некие таинственные силы – мало ли, какие в море бывают течения – понесли ее к Мальте. Есть песня, написанная позднее менестрелем Фальконьером. Ренессанс обошел его стороной, во время Осады он жил в арагонском Оберже, Каталонии и Наварре. Ты, наверное, слышал о поэтах, которые могут уверовать в любой модный культ, философию, в новые заморские суеверия. Этот уверовал, и, возможно, влюбился, в Мару. Даже отличился на бастионах Борго, разможжив головы четырем янычарам своей лютней – саблю ему дали потом. Понимаешь, она была его Госпожой.
Мехемет начал читать стихотворение:
Убегая от мистраля, от палящих солнца струй,
Безмятежная в волнах, в изваянии небес
Голова не замечает ни дождя, ни темной ночи,
Мчась по морю звезд быстрее.
В голове той лишь двенадцать
Роковых словес, что Мара
Нашептала. Мара, Мара! Ты одна – любовь моя…
Далее идет обращение к Маре.
Стенсил глубокомысленно кивнул, пытаясь вспомнить испанских современников поэта.
– Очевидно, – закончил Мехемет, – голова вернулась в Константинополь к своему владельцу, а хитрая Мара тем временем, переодевшись каютным слугой, тайком проникла на дружественный галеот. Вернувшись, наконец, в Валетту она предстала перед Ла Валеттом, приветствуя его словами "Шалом алейкум".
Шутка заключалась в том, что «шалом» по древне-еврейски означает мир, и одновременно является корнем греческого варианта имени Саломеи, обезглавившей Иоанна Крестителя.
– Остерегайся Мары, – говорил старый моряк, – она – дух-хранитель Шагрит Меввийа; некто – тот, кто заведует такими делами, – обрек ее обитать на населенной равнине в наказание за учиненное в Константинополе. С тем же успехом можно надеть пояс целомудрия на неверную жену.
Мара неугомонна. Она найдет, как выбраться из Валетты – города-женщины, названного в честь мужчины, – с полуострова, формой напоминающего mons Veneris – понимаешь? Это пояс целомудрия. Но супружеские обязанности можно выполнять по-разному, и она доказала это султану.
Теперь, выйдя из такси и добежав под дождем до отеля, он действительно почувствовал спазмы. Не столько в чреслах – в Сиракузах ему представилось довольно случаев на время заглушить этот зуд, – сколько в худеньком подростке, в которого он всегда имел склонность превращаться. Немного позже, скрючившись в маленькой ванне, Стенсил запел. Это была мелодия его предвоенных «мюзикхолловских» дней, служившая, главным образом, успокоительным.
Каждый вечер в "Собаку и Колокол"
Юный Стенсил любил заходить.
Он на стульях скакал, он песни орал
Чтоб компанию повеселить.
А женушка дома будет скучать,
От боли сердечной стенать,
Только завтра опять, без четверти пять
В том же пабе он будет гулять.
Но как-то майским вечером он говорит братве:
"Гуляйте, парни, без меня, а я пошел к себе.
Полно пить и орать,
На столах танцевать,
Гуд бай, гуд бай, ребята!
(В лучшие времена здесь вступал хор младших сотрудников министерства:)
Что случилось? Что сталось со Стенсилом?
Что в душе у него? Расскажите.
(А Стенсил отвечал:)
Собирайся, народ,
Я, несчастнейший скот,
Вам скажу, что сейчас ухожу:
(Припев:)
Только что я стал папашей.
Сын мой Герберт. Конечно же, Стенсил.
Он так хорош,
И так похож,
И чтит отца, как должно!
И пусть из-за пеленок я совсем уж сам не свой,
Откуда же он взялся, здоровяк такой?
Ведь я каждый вечер являлся домой
Неизменно косой и бухой!
Но он пухлый, как пышка,
Смышленый, как мышка,
Похожий на маму точь-в точь.
Вот поэтому Стенсил не может
Не вернуться домой в эту ночь.
(Кто не верит – спросите молочника).
Гуд бай, гуд бай, ребята!
Выйдя из ванной, обсохнув и вновь облачившись в твидовый костюм, Стенсил стоял у окна и праздно смотрел в темноту.
Наконец раздался стук в дверь. Должно быть, Майстраль. Быстро пробежал глазами по комнате, проверив – не осталось ли бумаг, другого компромата. Затем – к двери, впустить судосборщика, походившего, судя по описаниям, на чахлый дуб. За дверью стоял Майстраль – не агрессивный и не почтительный, а просто такой как есть – седеющие волосы, взъерошенные усы. Нервный тик в верхней губе заставлял тревожно трепетать застрявшие в них крошки пищи.
– Он происходит из знатной семьи, – печально сознался однажды Мехемет. Стенсил попался на удочку, спросив – из какой. – Делла Торре, – ответил Мехемет. Delatore, доносчик.
– Как рабочие доков? – спросил Стенсил.
– Они нападут на "Кроникл." – (Конфликт возник во время забастовки 1917 года; газета опубликовала письмо, осуждавшее забастовку, но не предоставила слово противной стороне.) – Пару минут назад закончился митинг, – Майстраль кратко обрисовал ситуацию. Стенсил знал о причинах недовольства. Рабочие из Англии получали колониальное жалованье, а местные докеры – обычную зарплату. Большинство хотело эмигрировать, прослышав про восторженные сообщения Мальтийской трудовой бригады и других групп, работавших заграницей, о более высоких заработках за рубежом. Но прошел слух, будто правительство отказывает в выдаче паспортов, пытаясь удержать рабочих на случай, если они понадобятся в будущем. – Какова альтернатива эмиграции? – Майстраль ответил уклончиво: – Пока шла война, число рабочих в Доках утроилось. Сейчас, когда Перемирие заключено, их стали увольнять. За пределами Доков число рабочих мест ограничено. Всем не прокормиться.
Стенсил хотел спросить: "Если вы им сочувствуете, то почему на них доносите?" Он пользовался осведомителями, как ремесленник – инструментами, и никогда не пытался понять их мотивы. Обычно, полагал он, ими движет личная обида или жажда мщения. Но ему доводилось видеть осведомителей, раздираемых противоречиями, – преданных той или иной программе и все же способствующих ее поражению. Пойдет ли Майстраль в первых рядах на штурм "Дэйли Молта Кроникл"? Стенсил хотел спросить, но ему это неподобало. Его это не касалось.
Майстраль сообщил ему, все, что знал, и ушел, бесстрастный как и прежде. Стенсил закурил трубку, бросил взгляд на карту Валетты и уже через пять минут энергично шагал по Страда Реале вслед за Майстралем. Естественная предосторожность. Ведь действовали некоторые двойные стандарты – согласно принципу: "Если он работает на меня, то согласится работать и против".
Майстраль свернул налево, и, выйдя из света фонарей главной улицы, стал спускаться по Страда Стретта. Здесь начинался Дурной квартал; Стенсил без особого любопытства огляделся. Все по-прежнему. Какое извращенное представление о городах складывается у человека его профессии! Если из документов этого века сохранятся лишь дневники агентов министерства, то можно себе представить, сколь любопытную картину воссоздадут историки.
Массивные официальные здания с безликими фасадами, сеть улиц, с которых таинственным образом исчез простой люд. Стерильный административный мир, окруженный снаружи варварскими предместьями с извилистыми улочками, публичными домами, тавернами; освещены лишь рабочие углы проституток, подобные блесткам на старом, не к месту надетом бальном платье.
"Если у сего мира вообще есть политическая мораль, – написал однажды Стенсил в дневнике, – то она заключается в том, что мы, совершая дела века, пользуемся вопиюще неверным двойственным видением. Правые-левые, теплица-улица. Правые могут жить и работать изолированно, в теплице прошлого, а левые тем времнем вершат свои дела на улицах, манипулируя бесчинствующей толпой. И способны жить не иначе как мечтами о будущем.
А как же реальное настоящее – люди вне политики, некогда уважаемая золотая середина? Устарело; во всяком случае, они выпали из поля зрения. Западный край этой антитезы в недалеком будущем заполнится весьма, мягко выражаясь, враждебно настроенной чернью."
Страда Стретта, Тесная улица. Этот проход, казалось, специально задумывался, чтобы его заполонили толпы народа. Почти так оно и вышло: вечером сюда стекались матросы с «Эгмонта» и кораблей поменьше, моряки с греческих, итальянских, северо-африканских торговых судов, а также статисты – чистильщики обуви, сутенеры, торговцы сувенирами, сластями и порнографическими открытками. Топологические деформации этой улицы создавали у прохожего впечатление, будто он проходит сквозь вереницу мюзик-холловских сцен, отделенных одна от другой новым поворотом или спуском, каждая со своими декорациями и труппой, но с неизменным низменным шоу. Старый "мастер канкана" Стенсил чуствовал себя здесь как дома.
Но он с некоторым беспокойством стал замечать, что Майстраль все чаще пропадает в бурлящих впереди сине-белых волнах, и ускорил шаг, пробираясь сквозь плотнеющую толпу.
Стенсил почувствовал, что слева кто-то маячит, то и дело попадая в его поля зрения. Высокий, в черном, слегка конусообразный. Он рискнул на мгновение повернуть голову. Человек, похожий на греческого попа или приходского священника, некоторое время шел с ним вровень. Что делает здесь слуга Божий? Возможно, выискивает души, дабы наставить их на путь истины; но их взгляды встретились, и Стенсил не заметил в его глазах милосердия.
– Chaire, – пробормотал священник.
– Chaire, Pаpa – сказал Стенсил уголком рта, и попытался обойти священника. Но тот задержал его рукой с перстнем.
– Минутку Сидней, – произнес голос. – Иди сюда, выйдем из толпы.
Голос был чертовски знаком. – Майстраль идет в "Джон Буль", – сказал поп. – Он никуда не денется. – Они прошли по аллее во дворик. В центре небольшой бассейн, обрамленный темной бахромой нечистот.
– Надо переодеться, presto, – божий человек снял скуфью и черную бороду.
– Ты, Демивольт, стал терять класс на старости лет. Что это за доморощенная комедия? Что творится с Уайтхоллом?
– У них все в порядке, – пропел Демивольт, неуклюже прыгая по дворику. – Знаешь, никак не ожидал тебя здесь встретить.
– Где Моффит? – спросил Стенсил. – Если уж они решили вновь собрать флорентийскую команду:
– Моффита схватили в Белграде. Думал, ты знашь. – Демивольт снял сутану и завернул в нее свои вещи. Под ней оказался английский твидовый костюм. Быстро причесавшись и подкрутив усы, он стал тем Демивольтом, которого Стенсил видел в 1899 году. Разве что прибавилось седых волос и морщин.
– Бог знает, кого еще послали в Валетту, – весело сказал Демивольт, когда они вышли на улицу. – Подозреваю, что это очередной заскок – с министерством такое случается. Как морской курорт или воды. Модное Местечко каждый год меняет название.
– Не смотри на меня так. О случившемся я могу лишь догадываться. Местные, как мы говорим, озабочены. Этот парень Фэринг – католический священник, наверно иезуит, – считает, что скоро здесь будет кровавая баня.
– Да, я встречался с Фэрингом. Возможно, ему платят из того же кармана, что и нам, но виду он не подает.
– Не думаю, не думаю, – рассеянно отозвался Стенсил, которому хотелось поболтать о старых временах.
– Майстраль всегда садится перед входом, так что пойдем через дорогу. Они сели в кафе «Финикия», Стенсил – спиной к улице. За барселонским пивом они вкратце поведали друг другу о событиях двух десятилетий – между делом Вейссу и Мальтой; на фоне размеренного уличного шума их голоса звучали монотонно.
– Странно пересекаются дорожки.
Стенсил кивнул.
– Может, мы должны следить друг за другом? Или наша встреча запланирована?
– Запланирована? – слишком скороговоркой. – Уайтхоллом, конечно.
– Разумеется.
Старея, мы все чаще поглядываем в сторону прошлого. Поэтому Стенсил сейчас как бы временно выпал из поля зрения улицы и докера на другой ее стороне. Возникновение на сцене Демивольта воскресило в его памяти неудачный флорентийский год, все неприятные подробности бросались в глаза, трепетали в темной комнате его шпионской памяти. Он упрямо надеялся, что появление Демивольта – простая случайность, а не сигнал к реактивации тех же хаотичных и Ситуационных сил, которые двадцать лет назад поработали во Флоренции.
Ведь бойня, о которой говорил Фэринг, и сопутствующая политика имели все признаки Ситуации-в-Процессе-Становления. Стенсил остался верен своим идеям о Ситуации. Даже написал статью "Ситуация как n-мерный хаос" и под псевдонимом послал ее в «Панч». Статью отвергли.
"Как можно рассчитывать на понимание Ситуации, не рассмотрев целиком историю участвующих в ней индивидуумов, – писал Стенсил, – не анатомировав их души? Возможно, в будущем чиновников перестанут допускать к работе без диплома нейрохирурга".








