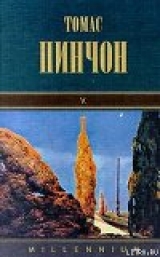
Текст книги "В"
Автор книги: Томас Рагглз Пинчон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 39 страниц)
II
И начался Осадный Праздник Фоппля. Мондауген уехал через два с половиной месяца. За это время никто не отважился выбраться наружу и не получал известий из других регионов. После отъезда в погребе оставалась дюжина покрытых паутиной бутылок вина, и еще ожидала ножа мясника дюжина коров, а огород за домом по-прежнему изобиловал помидорами, ямсом, мангольдой и пряными травами. Вот как богат был фермер Фоппль!
На следующий день после прибытия Мондаугена дом и угодья отгородили от внешнего мира. Возвели ограду из прочных заостренных бревен и сбросили в овраг мостки. Составили расписание дежурства, назначили членов штаба – все в духе новой, захватившей гостей игры.
Здесь подобралась странная компания. Конечно, много немцев – как богатых соседей, так и приезжих из Виндхука и Свакопмунда. Но были голландцы и англичане из Союза, итальянцы, австрийцы и бельгийцы с прибрежных алмазных месторождений, а также французы, русские, испанцы и один поляк – все из разных уголков земли. Вместе они создавали впечатление маленького европейского конклава, лиги наций, собравшейся здесь переждать царящий снаружи политический хаос.
Ранним утром в день приезда Мондауген, стоя на крыше, натягивал антенны вдоль ажурной железной решетки, украшавшей самый высокий фронтон виллы. Ему открывался унылый вид на овраги, траву, пыль и заросли кустарника, однообразными волнами тянувшиеся на восток к бескрайним просторам Калахари и на север к поднимавшимся из-за горизонта желтым испарениям, которые, казалось, вечно висят над тропиком Козерога.
Внизу Мондауген видел лишь внутренний дворик. Слишком яркий, будто усиленный, просочившийся сквозь бушевавшую далеко в пустыне песчаную бурю солнечный свет отражался от раскрытого окна в эркере и падал вниз, во дворик, высвечивая темно-красное пятно или лужу. От него к ближайшему дверному проему тянулись два усика. Мондауген с дрожью взирал на пятно. Отраженный свет проходил над стеной и исчезал в небе. Он поднял глаза и увидел, как открывавшееся напротив окно завершило движение, и женщина неопределенного возраста в переливающемся зелено-голубом пеньюаре зажмурилась от солнца. Ее левая рука поднялась к левому глазу и задержалась там, словно поправляя монокль. Мондауген пригнулся за коваными железными завитками, изумленный не столько деталями ее внешности, сколько собственным подсознательным желанием наблюдать исподтишка. Он ждал, что от ее неосторожного движения пеньюар распахнется, обнажив соски, пупок или лобковые волосы.
Но женщина заметила его.
– Выходи, выходи, горгулья, – игриво позвала она. Мондауген выпрямился, потерял равновесие и чуть не свалился с крыши, но, успев ухватиться за громоотвод, немного сполз по нему, замер под углом 45 градусов и залился смехом.
– Мои антенночки! – захлебывался он.
– Приходи на крышу в садик, – пригласила она и скрылась в белой комнате, превращенной отделавшимся, наконец, от Калахари солнцем в ослепительную загадку-лабиринт.
Закончив установку антенн, Мондауген пошел назад, обходя купола и дымоходы, спускаясь и поднимаясь по крытым шифером скатам, и в конце пути неуклюже перелез через небольшую стенку, показавшуюся ему очередным тропиком, – жизнь за ней он нашел чрезмерно роскошной, призрачной, пожалуй даже хищной – одним словом, безвкусной.
– Какой хорошенький! – Одетая теперь в галифе и армейскую рубаху, женщина курила, прислонившись к стене. Внезапно – он и ожидал чего-то в этом роде – утреннюю тишину, знавшую лишь залетных коршунов, ветер и сухой шелест вельда, разорвал крик боли. Мандаугену без поисков было понятно, что кричат в том дворике, где он видел малиновое пятно. Ни он, ни женщина не шелохнулись. Это общее отсутствие любопытства некоторым образом усилило обоюдную неловкость. Voilа – уже тайный сговор, хотя они не обменялись и дюжиной слов.
Оказалось, что зовут ее Вера Меровинг, а спутника Веры – лейтенант Вайссманн, и что родом она из Мюнхена.
– Возможно, мы даже встречались на фашинге, – сказала она, – в масках, незнакомые друг с другом.
Мондауген сомневался, но даже если и так, и если у них была-таки причина для «сговора» секунду назад, то причина эта могла корениться лишь в месте, подобном Мюнхену – городу, умирающему от разврата и коррупции, родимому пятну, распухшему от финансового рака.
Расстояние между ними постепенно сокращалось, и Мондауген увидел, что левый глаз у нее – искусственный. Заметив любопытство Карла, она услужливо вынула глаз и протянула ему на ладони. Полый полупрозрачный шарик – когда он находился в глазнице, «белок» окрашивался в цвет морской волны в сумерках. Поверхность шарика была покрыта тонкой сеткой микроскопических трещин. Внутри виднелись изящные колесики, пружинки и храповички часового механизма, заводившегося золотым ключем, который фройляйн Меровинг носила на тонкой цепочке вокруг шеи. Темно-зеленая радужка с расположенными по окружности золотыми вкраплениями, отдаленно напоминавшими знаки Зодиака, одновременно служила циферблатом.
– Как там, снаружи?
Он рассказал то немногое, что знал сам. У нее затряслись руки Мондауген заметил это, когда она вставляла глаз.
– Может наступить девятьсот четвертый, – еле слышно произнесла она.
Странно – ван Вяйк тоже говорил об этом. Что для этих людей значил 1904 год? Он уже собирался спросить, когда из-за чахлой пальмы появился лейтенант Вайссманн в штатском и потянул ее за руку в глубину дома.
Два обстоятельства делали усадьбу Фоппля местом, подходящим для изучения сфериков. Во-первых, фермер предоставил в полное распоряжение Мондаугена комнату в угловой башне – небольшой анклав научных изысканий с буферной зоной из нескольких кладовых и выходом на крышу через окно с витражом, описывающим пожирание дикими зверями христианского мученика.
Во-вторых, хотя энергетические потребности приемников и были скромными, имелся вспомогательный источник – небольшой генератор, который Фоппль держал, дабы зажигать гигантскую люстру в столовой. Чем обходиться несколькими громоздкими аккумуляторами, – решил Мондауген, – лучше и не намного сложнее просто подключиться к генератору – либо напрямую, либо для подзарядки, собрав предварительно схему, чтобы получить необходимое напряжение. Поэтому в тот же день после полудня, разложив пожитки, аппаратуру и материалы наблюдений в неком подобии рабочего беспорядка, Мондауген прошел в дом и отправился вниз на поиски генератора. Вскоре, тихо ступая по узкому наклонному коридору, он замер, увидев зеркало, висевшее футах в двадцати впереди и повернутое так, что в нем отражалась комната за углом. В зеркале перед ним предстали в профиль Вера Меровинг и ее лейтенант – она била его в грудь чем-то вроде небольшого хлыста, а он, запустив обтянутую перчаткой руку в ее волосы, непрерывно говорил, и так отчетливо, что соглядатай Мондауген читал все эти непристойности по движениям губ. Геометрия коридоров заглушала все звуки; с тем же непонятным возбуждением, которое он почувствовал, увидев ее утром, Мондауген ожидал, чтобы в зеркале появились поясняющие субтитры. Но она в конце концов отпустила Вайссманна, тот протянул странную на вид руку в перчатке и закрыл дверь; Мондаугену казалось, будто все это привидилось ему во сне.
Теперь он услышал музыку, становившуюся громче по мере его погружения в дом. Аккордеон, скрипка и гитара играли танго, полное минорных аккордов и фальшивых нот, которые для немецкого уха, должно быть, оставались чистыми. Девичий голос сладко пел:
Любовь похожа на плеть,
Поцелуи натерли язык, исцарапали сердце.
Ласки прогнившую
Уродуют плоть.
Liebchen, темнеет, скорей.
Стань моим бонделем на ночь,
Негу шамбока тогда
Не сможешь ты превозмочь.
Любви, мой маленький раб,
Не ведомы краски дня.
Все в черно-белых тонах
Видит любовь моя.
Поскули на коленях,
К ногам моим припади.
Пусть высыхают слезы
Их боль еще впереди.
Очарованный Мондауген заглянул за дверной косяк и обнаружил, что певица – ребенок не старше шестнадцати со слишком большой для ее хрупкой фигурки грудью и белыми, доходящими до бедер, волосами.
– Меня зовут Хедвиг Фогельзанг, – сообщила она. – Мое предназначение на Земле – мучить и приводить в исступление мужское племя. – И тут музыканты в алькове, скрытые от них шпалерой, заиграли schottische. Мондауген, внезапно охваченный благоуханием мускуса, облачко которого донес до его ноздрей внутренний ток воздуха – очевидно, не случайный – обхватил ее за талию, и они закружились по комнате, оттуда – через спальню с зеркальными стенами, вокруг кровати под балдахином – в длинную галерею, пронзенную через каждые десять ярдов желтыми кинжалами африканского солнца, увешанную несуществующими ностальгическими пейзажами рейнских долин, портретами прусских офицеров, умерших задолго до Каприви (или даже до Бисмарка) и их суровых светловолосых дам, цвести которым теперь оставалось разве что в прахе; мимо ритмических порывов светловолосого солнца, разъедавшего глаза сетчатыми видениями; из галереи – в пустую, затянутую черным бархатом комнатенку, проходящую по вертикали через весь дом и заканчивающусяся вверху отверстием, размером с дымоход, через которое даже днем видны звезды; наконец, три или четыре ступеньки вниз, в личный планетарий Фоппля – круглую комнату с холодно горевшим в центре огромным деревянным солнцем; вокруг с направляющих на потолке свисали девять планет со спутниками, соединенных грубой паутиной цепей, блоков, ремней, шестеренок и червяков с топчаком, который приводился в действие бондельшварцем – обычно, для развлечения гостей – и сейчас пустовал. Малейшие намеки на музыку остались далеко позади, и Мондауген отпустил девочку, прыгнул в топчак и побежал трусцой, приведя солнечную систему в движение, – от скрипа и визга заломило зубы. С грохотом и тряской, набирая скорость, стали вращаться вокруг солнца и собственных осей деревянные планеты, бешено закружились кольца Сатурна, начали прецессию спутники, и, покачиваясь, склонив ось, отправилась в путь наша Земля; тем временем Мондауген мчался вдоль собственного меридиана по стопам поколения рабов, а девочка продолжала танцевать, пригласив в партнеры Венеру.
Когда, в конце концов, он утомился, сбавил скорость и остановился, она уже ушла, растворившись в деревянных просторах этой пародии на космос. Тяжело дыша и пошатываясь, Мондауген выкарабкался из колеса, дабы продолжить поиски генератора.
Вскоре, споткнувшись, он влетел в подвал, где хранились садовые инструменты. И, будто день лишь для того и начался, чтобы подготовить его к такой сцене, он обнаружил здесь бонделя – лежавшего ничком голого мужчину, на спине и ягодицах которого виднелись старые шрамы от ударов шамбока и совсем свежие поперечные раны, походившие на множество беззубых улыбок. Крепясь, слабак Мондауген приблизился к человеку и склонился над ним, пытаясь расслышать дыхание или стук сердца, стараясь не смотреть на белый позвонок, подмигивающий ему из одного длинного разреза.
– Не трогай его. – Сжимая в руке не то шамбок, не то пастушеский бич из жирафьей шкуры, Фоппль выстукивал рукояткой по ноге монотонный синкопированный ритм. – Он не хочет ни помощи, ни сочувствия. Он не хочет ничего, кроме шамбока. – При общении с бонделями Фоппль всегда повышал голос до уровня, свойственного истеричным бабам. – Ты ведь любишь шамбок, Андреас? Или нет?
Андреас шевельнул головой и прошептал:
– Баас…
– Твой народ не повинуется правительству, – продолжал Фоппль. – Он восстал, согрешил. Генералу фон Трота придется вернуться и наказать вас. Ему придется привести бородатых горящеглазых солдат и громкоголосую артиллерию. Как тебе это нравится, Андреас? Подобно Иисусу при Его пришествии, фон Трота придет спасти тебя. Ликуй, пой благодарственные гимны. А до тех пор люби меня, как отца своего, ибо я – десница фон Трота и исполнитель его воли.
Мондауген, как велел ему ван Вяйк, не забыл спросить Фоппля о 1904-м и "днях фон Трота". Реакция Фоппля была несколько нездоровой, но Мондауген почувствовал в ней нечто большее, чем голый энтузиазм. Ведь Фоппль не просто поведал о былом – поведал сначала там же, в подвале, над умирающим бондельшварцем, чье лицо Мондауген так и не увидел; потом на буйном пиршестве, на наблюдательном посту и в патруле, под аккомпанемент рэгтайма в большом танцевальном зале; даже наверху в башне, что являлось преднамеренным срывом эксперимента, – казалось, он одержим желанием воссоздать DeutschSudwestafrik'y почти двадцатилетней давности – на словах и, возможно, на деле. «Возможно», поскольку чем дальше заходил осадный праздник, тем труднее становилось отделить одно от другого.
Однажды в полночь Мондауген стоял на небольшом балконе прямо под свесом крыши – стоял официально, в качестве часового, хотя можно ли что-нибудь заметить при столь скудном освещении? Над домом поднялась луна – точнее, месяц, – и на ее фоне антенны походили на такелаж. Глядя в пустоту за оврагом, Мондауген беспечно покачивал карабином, который он придерживал за ремень, а тем временем кто-то сзади вышел на балкон. Это был старый англичанин по фамилии Годольфин – в лунном свете он казался совсем крошечным. Доносились негромкие звуки вельда.
– Надеюсь, я не помешал, – сказал Годольфин. Мондауген пожал плечами, не переставая следить за тем, что, похоже, являлось горизонтом. – Мне нравится на посту, – продолжал англичанин, – единственное спокойное место на этом вечном празднике. – Годольфин был отставным морским офицером; Мондауген подумал, что ему, наверное, за семьдесят. – Я пытался набрать в Кейптауне команду для плавания к Полюсу. – Брови Мондаугена поползли вверх. Он озадаченно поковырял в носу.
– Южного?
– Конечно, ведь это не лучшее место для подготовки к походу на северный, хо-хо.
– Я узнал, что в Свакопмунде есть прочное судно. Но оно оказалось слишком маленьким. Вряд ли подошло бы для пакового льда. Фоппль был тогда в городе и пригласил меня на уикенд. Думаю, мне нужен отдых.
– А вы не унываете. Хотя и столкнулись с тем, что, скорее, должно разочаровывать.
– Они спрятали жала. Сочувствуют старому хромому дураку. Ведь он живет прошлым. Естественно, я живу прошлым. Я был там.
– На полюсе?
– Конечно. Теперь мне надо туда вернуться. Все очень просто. Я начинаю думать, что если переживу наш осадный праздник, то переживу и все уготованное мне Антарктидой.
Мондауген склонен был согласиться. – Хотя в моих планах нет никаких Антарктидочек.
Старый морской волк негромко рассмеялся:
– Будет. Подождите. Своя Антарктида есть у каждого.
Южнее которой, – пришло в голову Мондаугену, – не бывает. Поначалу он с головой окунулся в волны возбуждения, которые кругами расходились по всей огромной усадьбе, и откладывал исполнение своих научных обязанностей на обеденные часы, когда все, кроме часовых, спали. Он даже занялся настойчивым преследованием Хедвиг Фогельзанг, но вместо нее почему-то постоянно натыкался на Веру Меровинг. "Южная болезнь в третичной стадии, – нашептывал ему прыщавый мальчишка-саксонец – внутренний голос Мондаугена. – Берегись!"
Мондауген не мог найти приемлемых объяснений эротическим чарам этой женщины, годившейся ему в матери. Он сталкивался с ней лицом к лицу в коридорах, неожиданно обнаруживал ее в укромных уголках за мебелью, на крыше или просто в темноте ночи, причем никогда не искал встречи с ней. Он не делал попыток ухаживать, а она – заигрывать, но, несмотря на все усилия сдержать развитие отношений, их сговор креп.
И, будто у них действительно был роман, лейтенант Вайссманн загнал его однажды в угол бильярдной. Мондауген задрожал и приготовился к бегству, но оказалось, что это – нечто совсем иное.
– Ты из Мюнхена, – заявил Вайссманн. – Ходил в швабский квартал? Несколько раз. – В Кабаре Бреннесль? – Никогда. – Тебе известно имя Д'Аннунцио?
Потом: – Муссолини? Фиуме? Italia irredenta? Fascisti? Национал-социалистическая рабочая партия Германии? «Независимые» Каутского?
– Слишком много заглавных букв, – запротестовал Мондауген.
– Из Мюнхена, и не слышал о Гитлере? – удивился Вайссманн, будто слово «Гитлер» было названием авангардистской пьесы. – Что, черт возьми, происходит с молодыми людьми? – Свет зеленой лампы над их головами превратил его очки в пару нежных листиков, что придавало ему кроткий вид.
– Видишь ли, я – инженер. Политика – не мое направление.
– Вы нам понадобитесь, – сказал Вайссманн. – Когда-нибудь, так или иначе. Я уверен, ты и узкие специалисты вроде тебя – вы, ребята, будете неоценимы. Я не сержусь.
– Но ведь политика – разновидность техники. А люди – ваше сырье.
– Не знаю, – сказал Вайссманн. – Скажи, сколько ты еще пробудешь в этой части земного шара?
– Не дольше, чем будет необходимо. Месяцев шесть. Пока неясно.
– Не мог бы я… привлечь тебя… кое к чему, э-э, так, пустяки, это не займет много времени?
– Оргработа – так это у вас называется?
– Да, ты сообразителен. Ты сразу все понял. Да. Ты – наш человек. Молодые люди, Мондауген, особенно нам нужны, потому что – надеюсь, это останется между нами – видишь ли, мы могли бы вернуть то, что когда-то принадлежало нам.
– Протекторат? Но он под контролем Лиги наций.
Запрокинув голову, Вайссманн рассмеялся и больше не проронил ни слова. Мондауген пожал плечами, взял кий, вытряхнул из бархатного мешочка три шара и далеко за полночь практиковался в карамболях.
Услышав доносившиеся сверху неистовые звуки джаза, он покинул бильярдную. Щурясь, поднялся по мраморным ступенькам в Большой танцевальный зал и обнаружил, что там пусто. Повсюду была разбросана одежда – и мужская, и женская; музыка, лившаяся из граммофона весело и гулко гремела под электрической люстрой. Не было никого, ни единой души. Он поплелся в башню с ее нелепой круглой кроватью и там обнаружил, что землю бомбардирует тайфун сфериков. Когда он заснул, ему впервые после отъезда приснился Мюнхен.
Он видел фашинг, сумасшедший немецкий карнавал, или Марди грас, кончающийся за день до наступления Великого поста. С конца войны этот праздник в Мюнхене, попавшем в лапы Веймарской республики и инфляции, следовал по неуклонно возраставшей кривой, ординатой которой являлась развращенность населения. Никто ведь не знал – доживет ли он до следующего фашинга. Любой нежданный подарок судьбы – еда, дрова, уголь – сразу же потреблялся. Зачем откладывать про запас? Зачем экономить? Депрессия висела в серой пелене облаков, смотрела на тебя мертвенно-бледными от страшного холода лицами хлебных очередей. Наклонившись вперед, чтобы не унес ветер с Изара, закутавшись в потрепанное черное пальто, депрессия со старушечьим лицом брела по Либихштрассе, где у Мондаугена была комната в мансарде – быть может, подобно ангелу смерти, она метила розовой слюной ступени у дверей тех, кто завтра умрет голодной смертью.
Темно. На нем – старый суконный пиджак, вязаная шапочка натянута на уши, руки сцеплены с ладонями незнакомых юношей, вероятно студентов – они стоят цепью вдоль улицы и, раскачиваясь из стороны в сторону, хором поют песню смерти. Слышны пьяные голоса гуляк, горланящих песни на соседних улицах. Под деревом возле одного из немногочисленных фонарей он наткнулся на соединенных парня и девушку. Жирное, дряблое бедро девушки открыто безжалостному зимнему ветру. Он наклоняется и прикрывает их своим старым пиджаком. Замерзая на лету, слезы падают из его глаз, как снежная крупа, шуршат по окаменевшей парочке.
Он сидит в пивной. Молодежь, старики, студенты, рабочие, дедушки, девушки пьют, поют, кричат, беспорядочно ласкают друг друга, не разбирая пола. Кто-то развел в камине огонь, и жарит подобранную на улице кошку. Когда на компанию накатываются странные волны тишины, становится слышно, как громко тикают черные дубовые часы над камином. Из сумятицы мелькающих лиц возникают девочки, садятся к нему на колени, а он тискает их груди и бедра, щиплет за нос; пролитое на дальнем конце стола пиво прокатывается каскадом пены. Огонь, на котором жарилась кошка, перекидывается на несколько столов, и требуется еще пива, чтобы залить его; жирную, обуглившуюся кошку выхватывают из рук незадачливого повара и начинают перебрасываться ею, как мячом, пока под взрывы хохота она не распадается на части. Дым висит в пивной зимним туманом, превращая сплетение тел в корчи проклятых в преисподней. Странная белизна покрывает лица: впалые щеки, выдающиеся виски – белизна обтянутых кожей костей трупа.
Появляется Вера Меровинг (почему Вера? – черная маска закрывает всю голову) в черном свитере и черном танцевальном трико.
– Пойдем, – шепчет она и ведет его за руку по узким улицам, едва освещенным, но заполненным празднующими, которые поют и кричат туберкулезными голосами. Похожие на больные цветы белые лица снуют в темноте, словно неведомая сила влечет их на кладбище засвидетельствовать почтение на похоронах важной особы.
На рассвете она вошла к нему через окно с витражом и сообщила о казни очередного бонделя – на сей раз повесили.
– Сходи посмотри, – сказала она. – В саду.
– Нет, нет.
Этот вид убийства был популярен во время Великого Бунта 1904–1907 годов, когда вечно враждующие гереро и готтентоты одновременно, но несогласованно подняли восстание против бездарной германской администрации. Разобраться с гереро призвали генерала Лотара фон Трота, показавшего Берлину определенное мастерство в подавлении пигментированных народов во время Китайской и Восточноафриканской кампаний. В августе 1904 года фон Трота выпустил "Vernichtungs Befehl" – декрет, предписывавший немецким войскам планомерно уничтожать мужчин, женщин и детей гереро. Он достиг примерно восьмидесятипроцентного успеха. Официальной германской переписью, проведенной семью годами позже, было установлено, что из 80000 гереро, проживавших на этой территории в 1904 году, в живых осталось 15130 человек, что соответствовало снижению численности населения на 64870 человек. Подобным же образом количество готтентотов было сокращено до 10000, берг-дамара – до 17000. С учетом естественной убыли населения в те ненормальные годы считалось, что фон Трота всего за один год расправился примерно с 60000 человек. Всего один процент от шести миллионов, но все же неплохо.
Фоппль приехал на Юго-Запад молодым новобранцем. Вскоре он понял, что здесь ему все по душе. В тот август (весна наоборот) он был с фон Трота.
– Ты находил их ранеными или больными на обочине дороги, – рассказывал он Мондаугену, – но патроны тратить не хотелось. Интенданты тогда не отличались расторопностью. Одних закалываешь штыком, других вешаешь. Процедура простая: ведешь парня или женщину к ближайшему дереву, ставишь на ящик из-под патронов, завязываешь петлей веревку (если нет веревки телеграфный провод или проволоку из изгороди), надеваешь ему на шею, перекидываешь через развилку дерева, привязываешь к стволу и выбиваешь ящик. Медленный процесс, но и военно-полевые суды были упрощены. Приходилось действовать в полевых условиях: не будешь же всякий раз строить виселицу.
– Конечно нет, – сказал Мондауген тоном педантичного инженера. – Но если всюду валялось столько телеграфных проводов и ящиков из-под патронов, то интенданты, возможно, было не так уж нерасторопны.
– Ладно, – сказал Фоппль. – Вижу, ты занят.
Мондауген и в самом деле был занят. Возможно, физически утомившись от избытка развлечений, он стал замечать в сфериках нечто необычное. Пройдясь по фопплевским сусекам и раздобыв мотор от фонографа, перо, ролики и несколько продолговатых листов бумаги, находчивый Мондауген соорудил импровизированный самописец для записи сигналов в свое отсутствие. Организаторы программы не сочли нужным снабдить его этим прибором, а на последней станции отлучаться было некуда, что делало самописец ненужным. Глядя теперь на загадочные каракули, он обнаружил регулярность или структурированность, которая могла оказаться кодом. Однако прошли недели, прежде чем он понял: единственный способ убедиться в этом – попытаться разгадать. Комната Мондаугена наполнилась валявшимися в беспорядке листами с таблицами, уравнениями, графиками; казалось, под аккомпанемент чириканья, шипения, щелчков и песнопений здесь кипит работа, но на самом деле он зашел в тупик. Ему что-то мешало. Пугали происшествия: однажды ночью во время очередного «тайфуна» самописец сломался, отчаянно стрекоча и скребя по бумаге. Неисправность оказалась пустяковой, и Мондаугену не составило труда ее устранить. Но он задавался вопросом – насколько эта поломка случайна?
Не зная, чем заняться на досуге, он стал бродить по дому. Он обнаружил, что, подобно «глазу» из сна о фашинге, обладает даром зрительной серендипности – чувством времени, извращенной уверенностью не столько в том, что нужно играть в подглядывание, сколько в том, что он знает, когда именно можно начать игру. Правда, уже без того пыла, с каким он наблюдал за Верой Меровинг в первые дни осадного праздника. Однажды, например, под бледными лучами зимнего солнца, прислонясь к коринфской колонне, Мондауген услышал неподалеку ее голос:
– Нет. Возможно, это невоенная осада, но никак не ложная.
Мондауген закурил и выглянул из-за колонны. Она сидела со старым Годольфином в альпинарии у пруда с золотыми рыбками.
– Помните… – начала она, но потом, заметив, вероятно, что тоска по дому душит старика сильнее заготовленной ею петли воспоминаний, позволила себя перебить.
– Я перестал видеть в осаде нечто большее, чем просто военную операцию. С этим было покончено лет двадцать назад, еще до вашего любимого девятьсот четвертого.
Она снисходительно пояснила, что в 1904 году находилась в другой стране и что год и место не должны ассоциироваться с физическим лицом, поскольку тогда могла бы идти речь об определенном праве собственности.
Это было выше понимания Годольфина.
– В девятьсот четвертом меня пригласили быть советником Российского флота, – вспоминал он, – но моего совета не послушались: японцы, как вы помните, закупорили нас в Порт-Артуре. Боже правый. То была всем осадам осада, она продолжалась год. Я помню обледенелые склоны холмов и страшную перебранку полевых мортир, ни на день не прекращавших свою отрыжку. И белые прожектора, шарящие ночью по позициям. Слепящие тебя. Потерявший руку набожный молодой офицер с пустым рукавом, приколотым наподобие повязки, сказал, что они похожи на Божьи пальцы, которые пытаются нащупать мягкие глотки и их передушить.
– Своим девятьсот четвертым я обязана лейтенанту Вайссманну и герру Фопплю, – произнесла она тоном школьницы, перечисляющей подарки на день рождения. – Вы ведь тоже узнали о Вейссу от других.
Годольфин отреагировал практически мгновенно:
– Нет! Нет! Я был там! – Он с трудом повернул к ней голову:
– Я ведь не рассказывал вам про Вейссу, а?
– Конечно рассказывали.
– Я сам едва помню Вейссу.
– Я помню. Я запомнила для нас обоих.
– Запомнила. – Внезапно он хитро наклонил голову. Но затем, расслабившись, пустился в воспоминания:
– Если я чем-то и обязан Вейссу, так это эпохой, Полюсом, службой… Но все это отняли, я имею в виду естественность, ощущение совместимости с окружающим. Нынче модно во всем винить войну. Что ни говори, но Вейссу ушла, и нам ее не вернуть – ни ее, ни многое другое: старые шутки, песни, страсти. И тот тип красоты – Клео де Мерод или Элеонора Дузе. Тот взгляд из уголков глаз – из-под невероятно больших, похожих на старый пергамент век. Но вы слишком молоды, вы не можете этого помнить.
– Мне за сорок, – улыбнулась Вера Меровинг, – и конечно же я помню. Меня тоже познакомили с этой самой Дузе. Это сделал тот самый человек, который познакомил с ней всю Европу – больше двадцати лет тому назад в своей книге "Il Fuoco". Мы были в Фиуме. Тоже во время осады. Позапрошлым Рождеством. Он называл его кровавым. Он делился со мной воспоминаниями о ней в своем дворце, пока Андреа Дориа осыпал нас снарядами.
– По праздникам они ездили на Адриатику, – сказал Годольфин, глупо улыбаясь, будто эти воспоминания были его собственными. – Он обнаженным въезжал в воду на гнедом коне, а она ждала его на берегу…
– Нет, – внезапно на какое-то мгновение голос зазвучал злобно, – и продажа драгоценностей в попытке предотвратить публикацию романа о ней, и пускавшаяся по кругу чаша из черепа девственницы – все это ложь. Она влюбилась, когда ей было за сорок, а он ее оскорбил. И не пожалел на это сил. Вот и все.
– Разве мы оба не были тогда во Флоренции? Когда он писал роман об их связи. Как это мы их упустили? Тем не менее, мне всегда казалось, что я с ним просто разминулась. Сначала во Флоренции, потом в Париже перед самой войной, словно была обречена ждать, пока он не достигнет высшей точки, пика virtu: Фиуме!
– Во Флоренции… мы… – недоумевающе, слабо.
Она подалась вперед, как бы намекая, чтобы ее поцеловали. – Разве вы не видите? Эта осада. Это – Вейссу. Это в конце концов случилось.
Затем неожиданно произошла забавная смена ролей, когда слабый на короткий срок берет верх, а атакующий вынужден в лучшем случае перейти к обороне. Наблюдавший за ними Мондауген приписывал это не внутренней логике дискуссии, а, скорее, дремлющей в старике потенции, спрятанной на случай подобных непредвиденных обстоятельств от бакланьей хватки возраста.
Годольфин рассмеялся:
– Шла война, фройляйн. Вейссу была роскошью, излишеством. Больше мы не можем позволить себе ничего подобного.
– Но потребность, – возразила она, – потребность-то осталась. Чем ее удовлетворить?
Он поднял голову и, глядя на нее, улыбнулся:
– Тем, что уже удовлетворяет ее. Реальным. Увы. Возьмите вашего друга Д'Аннунцио – нравится нам или нет, но война сорвала покрывало с чего-то глубоко личного – возможно, с мечты. Заставила нас, как и его, осмысливать ночные желания, крайности характера, политические галлюцинации с участием копошащейся массы – реальных людей. Мы утратили благоразумие, мы не видим в Вейссу комедии; теперь все наши вейссу принадлежат не нам и даже не кругу друзей; они стали общественным достоянием. Бог знает, что из этого достояния увидит мир и как его воспримет. Жаль. Одно меня радует – мне не придется жить в нем слишком долго.
– Вы – замечательный человек, – только и сказала она и, разможжив камнем голову любопытной золотой рыбке, покинула Годольфина.
– Мы просто растем, – произнес он, оставшись один. – Во Флоренции, в пятьдесят четыре, я был нахальным юношей. Знай я, что Дузе – там, ее поэт обнаружил бы опасного соперника, ха-ха. Одно плохо – теперь, когда мне под восемьдесят, я то и дело убеждаюсь, что проклятая война состарила мир сильнее, чем меня. Мир хмурит брови на оказавшуюся в вакууме молодежь, настаивает на ее использовании, эксплуатации. Не время для шуток. Никаких Вейссу. А, ладно. – И он запел под навязчивый, сильно синкопированный фокстрот:








