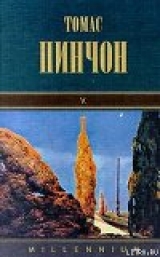
Текст книги "В"
Автор книги: Томас Рагглз Пинчон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 39 страниц)
V
Вернувшись на выходные из Ленокса, Макклинтик обнаружил, что его ожидания подтвердились, и август в Нуэва-Йорке отвратителен. Проезжая в «Триумфе» незадолго перед закатом по центральному парку, он увидел, что все симптомы налицо: девушки на траве, потеющие в тонких, просвечивающих летних платьях; компании молодых людей, видимые на горизонте – невозмутимые, уверенные, ожидающие наступления ночи; полицейские и добропорядочные граждане – те и другие взвинчены (может, виной тому – их дела, но дела полицейских наверняка связаны как с молодыми людьми, так и с наступлением ночи).
Макклинтик вернулся повидать Руби. Раз в неделю он преданно посылал ей открытки с видами Танглвуда и Беркширса, на открытки она никогда не отвечала. Но пару раз он звонил по междугородной, и она по-прежнему была там – там, где его дом.
Однажды ночью они с басистом зачем-то промчались через весь штат (крошечный, если учесть скорость "Триумфа"), и, прошляпив Кэйп-Код, чуть не въехали в море. Обычная инерция пронесла их по этому круассану суши и скатила с него к курортному местечку Френч-Таун.
Перед входом в ресторанчик морской кухни на главной и единственной улице они обнаружили двух музыкантов, игравших в ножички устричными ножами. Те ехали на вечеринку. "О йес!", – крикнули оба в унисон. Один забрался в багажник, другой, с бутылкой рома (75 градусов) и ананасом, – на капот. Мчась на скорости 80 миль в час по плохо освещенным и практически не используемым к концу сезона дорогам, это исполненное счастьем украшение капота устричным ножом надрезало фрукт и разлило ром с ананасовым соком в бумажные стаканчики, которые басист передал ему через лобовое стекло.
На девочку в парусиновых брюках, которая сидела на кухне, встречая прибывавших один за другим "летних типов", Макклинтик положил глаз.
– Отдай глаз, – сказал Макклинтик.
– Не трогала я твой глаз.
– Проехали. – Макклинтик был из тех, кого заражает опьянение окружающих. Он захмелел через пять минут после того, как они с басистом через окно забрались в дом.
Басист с девушкой сидели на ветке. "Поглядываешь на кухню?" насмешливо крикнул он вниз. Вышедший на улицу Макклинтик уселся под деревом. Дуэт над ним запел:
Детка, слыхала?
В Леноксе обломы с травкой…
Макклинтика окружили любопытные светлячки. Где-то разбивались набегавшие на берег волны. Вечеринка была тихой, хотя дом набился битком. В кухонном окне появилась прежняя девчушка. Макклинтик закрыл глаза, перевернулся на живот и уткнулся лицом в траву.
Подошел Харви Фаззо, пианист.
– Юнис спрашивает, – обратился он к Макклинтику, – можно ли ей с тобой встретиться? – Юнис звали ту девочку на кухне.
– Нет, – сказал Макклинтик. На дереве зашевелились.
– У тебя в Нью-Йорке жена? – сочувствующе спросил Харви.
– Вроде того.
Вскоре подошла Юнис.
– У меня есть бутылочка джина, – стала заманивать она.
– Придумала б что-то пооригинальнее, – сказал Макклинтик.
Сфера не захватил с собой инструмент. Когда в доме начался непременный сешн, он вышел. Макклинтик не понимал таких сешнов, ведь его собственные не походили на этот – они не столь неистовы, и их фактически можно считать одним из считанных положительных результатов послевоенного кула: по обе стороны инструмента существует естественная осведомленность о происходящем, спокойное чувство общности. Так бывает, когда целуешь девушку в ухо: рот одного человека, ухо – другого, но оба все понимают. Он выбрал сидеть под деревом. Когда басист с девушкой спускались, на поясницу Макклинтика наступила нога в чулке. Он проснулся. Уходившая (почти на рассвете) в стельку пьяная Юнис злобно посмотрела на него, ее губы зашевелились, произнося беззвучные ругательства.
Теперь Маклинтик не стал раздумывать. Жена в Нью-Йорке? Хм.
Вернувшись, он застал ее дома – точнее, успел застать. Укладывала порядочных размеров чемодан. Опоздай Макклинтик на четверть часа, и он бы ее упустил.
Руби заорала на него, как только он показался в дверях. Она запустила в него комбинацией, и та, пролетев полкомнаты, спланировала на голый пол персиковая и печальная. Падая, она словно скользила по косым солнечным лучам. Они наблюдали.
– Не беспокойся, – сказала наконец Руби, – просто я поспорила сама с собой.
И стала распаковывать чемодан. Слезы по-прежнему беспорядочно падали на шелк, вискозу, хлопок; на льняную постель.
– Глупо! – закричал Макклинтик, – Боже, как это глупо! – Ему просто нужно было покричать, а повод не важен. И это не значит, будто он не верит в телепатические озарения.
– Что тут говорить, – сказала она немного погодя. Под кроватью тикающей миной лежал чемодан.
Когда же возник этот вопрос: иметь ее или потерять?
Пьяные Харизма и Фу ворвались в комнату, распевая песни из британских водевилей. С ними был сенбернар – они подобрали его на улице больного, с текущей изо рта слюной. Тем августом вечера стояли жаркие.
– О Боже! – сказал Профейн в телефонную трубку. – Снова буйные ребята?
Через открытую дверь был виден храпевший и потевший на кровати странствующий автогонщик по имени Мюррей Сейбл. Лежавшая рядом девушка отодвинулась от него. Перевернувшись на спину, она заговорила во сне. Внизу, сидя на капоте «Линкольна» 1956 года, кто-то напевал:
Послушай!
Мне нужна юная кровь
Пить ее, полоскать ею горло, зубы.
Эй, юная кровь! Что готовит нам ночь…
Время вурдалаков – август.
На другом конце провода Рэйчел поцеловала трубку. Как можно целовать предметы? Пошатываясь, собака прошла на кухню и со звоном упала среди двухсот или около того пустых пивных бутылок Харизмы. Харизма все пел.
– Я нашел ведерко! – закричал Фу из кухни. – Эй!
– Палесни-ка туда пивка! – Харизма, все тот же кокни.
– Похоже, он совсем плох.
– Пиво подойдет ему в кайф. Для опохмелки. – Харизма засмеялся. Через минуту к нему присоединился Фу, захлебываясь, истерично – сто гейш разом.
– Жарко, – сказала Рэйчел.
– Скоро станет прохладней. Рэйчел… – но они забыли об очередности его "я хочу" и ее «пожалуйста» столкнулись где-то на полпути под землей, достигнув их ушей в основном в виде шума. Оба замолчали. В комнате было темно: за окном – на том берегу Гудзона над Нью-Джерси – шныряли зарницы.
Вскоре Мюррей Сэйбл перестал храпеть, девушка умолкла, на мгновение наступила тишина, только собачье пиво с плеском лилось в ведерко и раздавалось еле слышное шипение. Надувной матрас, на котором спал Профейн, слегка пропускал воздух. Раз в неделю Профейн подкачивал его велосипедным насосом, лежавшим в шкафу у Винсома.
– Ты что-то сказала?
– Нет…
– Ладно, но что же происходит под землей? Интересно, воспринимаемся ли мы на другом конце провода такими, как мы есть на самом деле?
– Под городом что-то есть, – согласилась она.
Аллигаторы, слабоумные священники, бродяги в подземке. Он думал о той ночи, когда она позвонила ему на норфолкскую автобусную станцию. Кто подслушивал тогда? Действительно ли она хотела, чтобы он вернулся, или, может, то были забавы троллей?
– Мне пора спать. Завтра во вторую смену. Позвонишь в двенадцать?
– Конечно.
– У меня сломался будильник.
– Шлемиль. Они тебя ненавидят.
– Они объявили мне войну, – сказал Профейн.
Войны начинаются в августе. Такая традиция существует у нас – в умеренной полосе, в двадцатом веке. В августе не обязательно летнем, а войны – не только политические.
Телефон с повешенной трубкой выглядел зловеще, словно заговорщик. Профейн бухнулся на надувной матрас. На кухне сенбернар стал лакать пиво.
– Эй, никак он блевать собрался?
Собака блевала громко и ужасно. Из дальней комнаты примчался Винсом.
– Я сломал твой будильник, – сказал в матрас Профейн.
– Что-что? – не понял Винсом. Рядом с Мюрреем Сейблом раздался сонный девичий голос, говоривший на языке, неизвестном бодрствующему миру. "Где вы, ребята, были?" Винсом побежал к кофеварке, в последний момент засеменил ногами, запрыгнул на нее и уселся сверху, пальцами ног манипулируя краниками. Ему открывался прямой вид на кухню. "О-о-х,"– прохрипел он, словно ему в спину всадили нож. – "O mi casa, su casa, ребята. Где вы были?"
Харизма с опущенной головой топтался в зеленоватой лужице блевотины. Сенбернар спал среди пустых бутылок. "Где же еще?" – сказал Харизма.
– Резвились на улице, – сообщил Фу. Собака заскулила на влажные кошмарные силуэты.
В августе 1956 года резвиться было любимым времяпрепровождением Больной Команды – хоть в помещении, хоть на свежем воздухе. Нередко их забавы принимали форму игры в йо-йо. Хотя, вероятно, и не будучи вдохновленной странствованиями Профейна вдоль восточного побережья, Команда предприняла нечто подобное в масштабах города. Правило: ты должен быть неподдельно пьян. Некоторые из населявшей «Ложку» театральной публики достигали в йо-йо фантастических рекордов, впоследствии аннулированных, когда выяснилось, что «рекордсмены» с самого начала были трезвы как стеклышко. Свин презрительно называл их "квартердечными пьяницами". Правило: при каждом прохождении трассы ты должен просыпаться по крайней мере единожды. Иначе с тем же успехом ты мог дрыхнуть на станционной скамейке. Правило: выбранная линия подземки должна соединять окраины с центром – ведь именно таким маршрутом следует йо-йо. На заре изобретения игры некоторые фальшивые «чемпионы» стыдливо признавались, что набирали очки на автобусе-экспрессе, ходившем по Сорок второй улице, и теперь, в кругах йо-йо, это расценивалось как скандал.
Королем был Слэб; год назад, после памятной вечеринки у Рауля, него самого и Мелвина в ночь размолвки с Эстер он провел выходные в вестсайдском экспрессе, сделав шестьдесят девять полных кругов. Под конец, проголодавшись, он по пути из центра выкарабкался на Фултон-стрит и слопал дюжину датских творожников, после чего его вырвало, и он был арестован за бродяжничество и блевание на улице.
Стенсил считал все это чепухой.
– Зайди туда в час пик, – сказал Слэб. – В этом городе живут девять миллионов йо-йо.
Однажды вечером после пяти Стенсил последовал этому совету и, выбравшись наружу со сломанным зонтиком, зарекся повторять этот эксперимент. Вертикальные трупы, безжизненые глаза, скученные чресла, ягодицы, бедра. Почти никаких звуков, лишь громыхание поезда и эхо в тоннеле. Насилие (при выходе): некоторых выносили за две остановки до их станции, и они не могли прорваться обратно против людского потока. В полном молчании. Не было ли это модернизированной Пляской Смерти?
Травма: возможно, только вспомнив свой последний шок под землей, он направился к Рэйчел и обнаружил, что она ушла обедать с Профейном (Профейн?), но Паола, встреч с которой он старался избегать, загнала его в угол между черным камином и репродукцией улицы с картины ди Кирико.
– Ты должен взглянуть на это, – она передала ему пачку машинописных страничек.
Заголовок – «Исповедь». Исповедь Фаусто Майстраля.
– Я должна вернуться, – сказала она.
– Стенсил никогда не ездит на Мальту. – Будто это она просит его туда съездить.
– Почитай, – сказала она, – там посмотришь.
– Его отец умер в Валетте.
– И все?
В самом деле, все ли это? Действительно ли она собирается ехать? О Боже! А он?
Его спас телефонный звонок. Звонил Слэб, затевающий пьянку на выходных. "Конечно", – сказала она. Конечно, – не раскрывая рта, эхом отозвался Стенсил.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Исповедь Фаусто Майстраля
К несчастью, чтобы превратить любую комнату в исповедальню, нужны лишь стол и письменные принадлежности. Ни наши деяния, ни преходящие настроения здесь ни при чем. Дело только в комнате – кубе, не властном убеждать. Комната существует сама по себе. Сидеть же в комнате и усматривать в ней метафору памяти – наша собственная ошибка.
Позвольте описать комнату. Ее размеры – 17х11,5х7 футов. Стены оштукатурены и выкрашены в серый цвет того же оттенка, что и палубы корветов Его Величества времен войны. Помещение ориентировано так, что диагонали идут в направлениях ССВ/ЮЮЗ и СЗ/ЮВ. Поэтому наблюдатель, стоящий у окна или на балконе, увидит в направлении ССЗ (короткой) стороны город Валетту.
Входят в комнату с ЗЮЗ через дверь, расположенную посередине длинной стены. Стоя в дверях и поворачиваясь по часовой стрелке, вы увидите в ССВ углу переносную дровяную печку, окруженную коробками, мисками, мешками с провизией, матрас, лежащий у длинной ВСВ стены в средней ее части, парашу в ЮВ углу, тазик для умывания в ЮЮЗ углу, окно с видом на доки, дверь, через которую вы только что вошли и, наконец, в СЗ углу, небольшой письменный стол и стул. Стул обращен к ЗЮЗ стене, и, чтобы город оказался в прямой видимости, надо повернуть голову на 135o назад. На стенах нет украшений, на полу – ковров. На потолке, прямо над плитой – темно-серое пятно.
Такая вот комната. Матрас выпрошен в общежитии холостых офицеров флота, здесь, в Валетте, вскоре после войны, плиту и пищу выдали в КЭРе, стол взят из дома, развалины которого уже покрылись землей – обо всем этом можно, конечно, рассказывать, но при чем здесь комната? Факты – это история, а она есть только у людей. Факты вызывают эмоциональные отклики, но отнюдь не у инертных комнат.
Комната находится в здании, где до войны было девять таких комнат. Теперь – лишь три. Здание стоит на обрыве, возвышающемся над Доками. Под комнатой – две другие комнаты – недостающие две трети дома снесены во время бомбежки зимой 1942-43 годов.
Самого Фаусто можно определить тремя способами. По родству (твой отец). По имени. И, самое важное, как жильца. Вскоре после твоего отъезда – жильца этой комнаты.
Почему? Почему комната послужила введением к апологии? Потому что она – пусть без окон и холодная по ночам – представляет собой теплицу. Потому что она – прошлое, хоть у нее и нет собственной истории. Потому что точно так же, как физическое присутствие кровати или горизонтальной плоскости определяет любовь в нашем понимании; как возвышенность должна существовать прежде, чем Божье слово сойдет к пастве и родится религия, – точно так же должна существовать комната, изолированная от настоящего, прежде чем мы попытаемся разобраться с прошлым.
В университете до войны, до знакомства с твоей несчастной матерью, я, как и многие молодые люди, ощущал подлинный дух Величия, подобно невидимому плащу струившийся по моим плечам. Нам с Мараттом и Днубиетной предстояло стать представителями блистательной школы англо-мальтийской поэзии – "Поколения тридцать седьмого года". Эта студенческая уверенность в успехе вызывала беспокойство, в первую очередь, по поводу автобиографии, или apologia pro vita suа, которую рано или поздно приходится писать любому поэту. Как, – рассуждал я, – как может человек описать свою жизнь, не зная, когда настанет его смертный час? Душераздирающий вопрос. Кто знает, какие геркулесовы подвиги предстоит ему совершить в поэзии за те, быть может, лет двадцать, разделяющие преждевременную апологию и смерть? Достижения настолько великие, что они затмевают самое апологию. И если, напротив, ничего не сделано за два-три десятка лет застоя – как противно разочарование молодому духу Время, конечно, показало всю юношескую нелогичность этого вопроса. Мы можем обосновать любую апологию, просто называя жизнь последовательным отбрасыванием лиц. Любая апология есть ничто иное как наполовину вымышленный роман, в котором все последовательные идентификации, принимаемые и отбрасываемые писателем в зависимости от линейного времени, являются отдельными персонажами. Даже само писательство представляет собой очередное отбрасывание, очередной «персонаж», добавленный к прошлому. Так мы и продаем наши души – выплачиваем их маленькими взносами истории. Невысокая цена за способность видеть сквозь фикцию непрерывности, фикцию причины и следствия, фикцию очеловеченной истории, наделенной «разумом».
Итак, до 1938 года у власти стоял Фаусто Майстраль Первый. Молодой государь, не знавший, к кому примкнуть – к Цезарю или к Богу. Маратт начинал заниматься политикой, Днубиетна учился на инженера, мне предстояло стать священником. Таким образом, все представленные нами основные сферы человеческого борения оказались в зоне пристального внимания "Поколения тридцать седьмого года".
Майстраль Второй явился вместе с тобой, дитя, и с войной. Твое появление не было запланировано и, в некотором смысле, вызвало негодование. Хотя, имей Фаусто I серьезное призвание, в его жизнь вообще не вошли бы ни Елена Шемши – твоя мать, – ни ты. Планы нашего движения расстроились. Мы продолжали писать, но появилась и другая работа. Наша поэтическое «призвание» уступила место открытию аристократии более глубокой и старой. Мы стали строителями.
Фаусто Майстраль III родился в день тринадцати налетов. Был порождением смерти Елены и ужасной встречи с человеком, которого мы называли Плохим Священником. Встречи, которую я только сейчас пытаюсь изложить по-английски. В течение нескольких недель после нее в дневнике появляются лишь невнятные попытки описания этой "родовой травмы". Фаусто III подошел к ачеловечности ближе остальных. Не к «нечеловечности», означающей скотство, ведь скот все-таки одушевлен. Фаусто III во многом воспринял ачеловечность груд обломков, осколков камней, разбитых стен, разрушенных церквей и таверн своего города.
Его преемник, Фаусто IV унаследовал мир, сломленный и физически, и духовно. Его появление не было результатом некого события. Просто Фаусто III в своем медленном возвращении к сознанию или человечности перешел определенный рубеж. Эта кривая продолжает возрастать. Каким-то образом скопилось некоторое число стихов (по крайней мере один цикл сонетов, доставляющий удовольствие теперешнему Фаусто), монографий по религии, языку, истории, критических эссе (Хопкинс, Т. С. Элиот, роман де Кирико "Гебдомерос"). Фаусто IV был «литератором» и единственным уцелевшим из "Поколения тридцать седьмого года: Днубиетна строит дороги в Америке, а Маратт где-то к югу от горы Рувензори устраивает беспорядки среди наших братьев по языку – банту.
Мы вошли в междуцарствие. Застой; единственный трон – деревянный стул в СЗ углу этой комнаты. Герметичной: разве услышит человек свистки и треск заклепочных молотков в Доках или шум машин на улицах, если он занят прошлым?
Теперь память стала предателем – подслащающим, искажающим. Как это ни печально, слово лишено смысла, поскольку основано на ложном предположении, будто идентификация единственна, а душа непрерывна. У человека не больше прав настаивать на истинности воспоминаний о себе самом, чем говорить: "Маратт – мрачный университетский циник", или "Днубиетна – умалишенный либерал".
Ты уже заметила: время настоящее – мы бессознательно забрели в прошлое. Должно быть, дорогая Паола, тебя охватил порыв студенческой сентиментальности. Я имею в виду дневники Фаусто I и II. Как еще можно вновь обрести его? А мы должны это сделать. Вот например:
Удивительна все же эта ярмарка святого Джайлза, именуемая историей! Ее ритм пульсирует размеренно и синусоидально – паноптикум в караване, бредущем по тысячам холмиков. Змея, гипнотизирующая и колышущаяся, несущая на спине подобных микроскопическим блохам горбунов, карликов, знаменитостей, кентавров, полтергейстов! Двухголовых, трехглазых, безнадежно влюбленных, сатиров с глазами оборотней, оборотней с глазами девочек и, быть может, даже старика со стеклянным пупом, через который видно золотую рыбку, тыкающуюся носом в коралловое царство его внутренностей.
День, разумеется, – 3 сентября 1939 года: смешение метафор, нагромождение подробностей, риторика ради риторики – не более, чем способ сказать, что сигнал подан, красный шар взмыл вверх и в который раз проиллюстрировать красочный каприз истории.
Возможно ли так глубоко забраться в гущу событий? С таким чувством, будто переживаешь большое приключение? "О, Бог здесь, в распускающихся каждой весной малиновых коврах суллы, в кроваво-оранжевых рощах, в сладких стручках моего рожкового дерева – иоанновом хлебе этого драгоценного острова. Его пальцы прочертили по земле овраги, Его дыхание отгоняет от нас дождевые тучи, Его голос некогда вел потерпевшего кораблекрушение Святого Павла, дабы он благословил нашу Мальту". Маратт писал:
Корона и Британия, твою мы крепим рать,
Чтоб с берега родного захватчиков прогнать.
Ибо Бог Сам Собою меченых злом поразит,
И рукою Своей дорогою лампады мира воспламенит.
"Бог Сам Собою" – это вызывает улыбку. Шекспир. Шекспир и Т.С. Элиот погубили нас. Например, в Пепельную среду сорок второго Днубиетна написал «пародию» на стихотворение Элиота:
Раз я
Раз я не надеюсь
Раз я не надеюсь пережить
Несправедливость из Дворца, смерть из воздуха.
Раз я надеюсь,
Просто надеюсь,
Я продолжаю…
Думаю, более всего нам нравились "Полые люди". И еще мы любили даже в повседневной речи употреблять обороты елизаветинской эпохи. Есть описание прощального вечера Маратта накануне его женитьбы в 1937 году. Все напились и спорили о политике, дело было в кафе на Кингсвее – scusi, тогда Страда Реале. До итальянских бомбежек. Днубиетна назвал нашу конституцию "лицемерным камуфляжем рабского государства". Маратт возразил. Днубиетна, опрокидывая стаканы и столкнув на пол бутылку, вскочил на стол с криком: "Изыди, презренный!" «Изыди» стало жаргонным словечком нашей компании. Запись была сделана, я полагаю, на следующее утро, но даже страдая от головной боли, обезвоженный Фаусто мог говорить о красивых девушках, горячем джазе, галантной беседе. Вероятно, довоенные университетские годы были и в самом деле такими счастливыми, а беседы – такими «приятными», как он их описывал. Должно быть, они обсуждали все сущее под солнцем, а солнца тогда на Мальте хватало.
Но Фаусто I был таким же полукровкой, как и остальные. В сорок втором году в разгар бомбежки его преемник комментировал.
Наши поэты пишут теперь только о граде бомб, падающем с того, что некогда было Небом. Мы, строители, закаляем – это наш долг – терпение и силу, но – проклятие знания английского языка и его эмоциональных нюансов – вместе с тем и отчаянно-нервную ненависть к этой войне, нетерпение в ожидании ее конца.
Полагаю, наше образование в английской школе и университете замарало то чистое, что находилось у нас внутри. Будучи моложе, мы болтали о любви, страхе, материнстве, говоря по-мальтийски, как сейчас мы с Еленой. Но что за язык! Претерпел ли он вместе с сегодняшними строителями какие-либо изменения со времени полулюдей, построивших святилища Хаджиар Ким? Возможно, мы говорим, как когда-то говорили животные.
Смогу ли я объяснить ей слово «любовь»? Сказать, что моя любовь к ней – часть любви к расчетам «Бофорсов», пилотам «Спитфайров», нашему губернатору? Что это любовь, обнимающая весь остров, любовь ко всему движущемуся на нем? Для этого в мальтийском нет слов. Ни оттенков, ни слов означающих интеллектуальные состояния сознания. Она не может читать мои стихи, я не в состоянии перевести их ей.
Но тогда не животные ли мы? Остатки троглодитов, живших здесь за 400 веков до рождения дорогого Христа? Мы и в самом деле живем так, как жили они – в земном чреве. Совокупляемся, размножаемся, умираем, произнося лишь самые примитивные слова. Понимает ли хоть один из нас слова Бога, учение Его Церкви? Возможно, Майстраль, мальтиец, один из народа своего предназначался лишь для жизни на пороге сознания, существования в качестве едва одушевленного куска плоти, автомата.
Но нас, наше благородное "Поколение тридцать седьмого" раздирает противоречие. Быть просто мальтийцами, сносить все, почти без рассуждений, без чувства времени? Или думать – постоянно – на английском, иметь слишком глубокие представления о войне, времени, всех оттенках любви?
Возможно, британский колониализм произвел на свет существо нового типа – раздвоенного человека, устремленного сразу в двух направлениях: к миру и простоте с одной стороны и к изматывающему интеллектуальному поиску с другой. Возможно, Маратт, Днубиетна и Майстраль – первые представители новой расы. Какие монстры восстанут после нас?..
Эти мысли порождаются более темной стороной моего сознания – mohh, мозга. Для сознания нет даже слова. Нам приходится пользоваться ненавистным итальянским menti.
Какие монстры? А ты, дитя, что ты за монстр? Возможно, не тот, которого имел в виду Фаусто – быть может, он говорил о духовном наследии. Быть может, о Фаусто III, IV и т. д. Но этот фрагмент ясно показывает одну очаровательную особенность юности – начинать с оптимизма, а когда враждебный мир с неизбежностью приводит к пониманию неуместности оптимизма – уходить в затворничество абстракций. Абстракции, даже в разгар бомбежки. В течение полутора лет на Мальту совершалось в среднем по десять налетов в сутки. Как он вынес это герметическое затворничество – одному Богу известно. В дневниках на это нет никаких указаний. Возможно, авторство все-таки принадлежит англизированной половине Фаусто II, ведь он писал стихи. Даже в дневниках мы находим внезапные переходы от реальности к чему-то иному:
Я пишу эти строки во время ночного налета, сидя в заброшенном канализационном коллекторе. Снаружи идет дождь. Единственный свет исходит от фосфоресцирующего зарева над городом, нескольких свечей здесь и бомб. Елена рядом со мной, у нее на руках, пуская слюни ей на плечо, спит дитя. Рядом тесно сгрудились другие мальтийцы, английские чиновники, несколько коммерсантов-индусов. Почти все молчат. Дети, широко раскрыв глаза, прислушиваются к разрывам бомб на улицах. Для них это лишь забава. Поначалу они плакали, проснувшись посреди ночи. Но потом привыкли. Некоторые даже стоят сейчас у входа в убежище и смотрят на зарево и взрывы, болтают, пихаются локтями, показывают что-то друг другу. Это будет странное поколение. А что же наша? Она спит.
А потом без видимых причин:
О Мальта рыцарей святого Иоанна! Змея истории едина; какая разница, в каком месте ее тела возлегаем мы? Здесь, в этом гнусном тоннеле, мы – Рыцари и Гяуры, мы – Л'Иль Адан и его одетая горностаем карающая десница и его манипул на поле синего моря и золотого солнца, мы – мсье Паризо, одинокий в своей продуваемой ветром могиле высоко над Гаванью и сражающийся на крепостном валу во время Великой Осады – оба! Мой Великий Магистр, смерть и жизнь, в горностаях и в отрепьях, знатные и простые, и на празднике, и в битве, и в трауре мы – Мальта, одно целое – и чистокровный народ, и смесь рас; время не продвинулось с тех пор, когда мы жили в пещерах, удили рыбу с поросшего тростником берега, с песней, с красной охрой хоронили наших мертвых, устраивали святилища, ставили дольмены и менгиры во славу некого неопределенного бога – или богов, – поднимались к свету в andanti пения, проводили жизнь в вековой круговерти бесконечных изнасилований, грабежей, нашествий, и все-таки мы едины: едины в темных оврагах, едины в этом возлюбленном Богом клочке плодородной средиземноморской земли, едины в своей тьме – храма ли, канализационного коллектора или катакомб – по воле судьбы, агонии истории или, несмотря ни на что, по воле Божьей.
Последнюю часть он, должно быть, написал дома после налета, но тем не менее «переход» имеется. Фаусто II был молодым человеком, ушедшим в затворничество. Это видно не только по его очарованности концептуализмом – даже в разгар грандиозного, хотя и в чем-то скучного разрушения острова, это видно и по его отношениям с твоей матерью.
Впервые Елена Шемши упомянута Фаусто I вскоре после женитьбы Маратта. Возможно, с пробитием бреши в холостяцкой жизни "Поколения тридцать седьмого" – хотя, по всем признакам, движение было чем угодно, только не движением к безбрачию – Фаусто почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы следовать по проторенному пути. И, конечно, в то же самое время делая нерешительные поползновения к церковному целибату.
О, он был «влюблен», вне всяких сомнений. Но его мысли по этому поводу постоянно менялись, никогда, полагаю, не соответствуя мальтийской версии – одобренному церковью совокуплению во славу материнства. Например, мы уже знаем, как Фаусто в самый тяжелый период осады 1940-43 годов пришел к пониманию и практике любви – такой же широкой, высокой и глубокой, как сама Мальта.
Собачьи дни подошли к концу, мистраль прекратился. Скоро другой ветер, грегалей, принесет благодатные дожди, торжественно отмечая сев нашей красной пшеницы.
Кто я, если не ветер? Само имя мое – шелест рожковых деревьев в загадочных зефирах. Я стою во времени в окружении двух ветров, моя воля – ни что иное как дуновение воздуха. Но воздух же – умные, циничные аргументы Днубиетны. Его взгляды на брак – даже на брак Маратта – пронеслись незамеченными мимо моих несчастных заколыхавшихся ушей.
Ведь вечером – Елена! О Елена Шемши, миниатюрная, словно козочка, сладостно твое молоко и сладостен крик твоей любви. Темноглазая, как межзвездное пространство над Годеш, где в детстве летом мы так часто смотрели на небо. Вечером я приду в твой домик в Витториозе и надломлю перед твоими черными очами крошечный стручок своего сердца, дам тебе причаститься иоанновым хлебом, над которым я, как над святыми дарами, благоговел все эти девятнадцать лет.
Он не сделал предложения, но в любви признался. Видишь ли, продолжала действовать неясная «программа» – призвание к священству, в котором он отнюдь не был уверен. Елена колебалась. Когда юный Фаусто спросил, она ответила уклончиво. У него сразу же появились симптомы сильной ревности:
Она больше не уверена? Я слышал, они с Днубиетной гуляли. Днубиетна! Он касался ее своими руками. Господь, придет ли помощь? Может, я должен пойти, найти их, застать вдвоем – как в старом фарсе – вызов, поединок, убийство… Как он, должно быть, злорадствует: все было запланировано. Наверняка. Наши разговоры о браке. Однажды вечером он даже сказал мне – гипотетически, конечно, о да! – что когда-нибудь он найдет девственницу и «научит» ее грешить. Он сказал это, зная, что скоро такой девственницей станет Елена Шемши. Мой друг. Товарищ по оружию. Третья часть нашего Поколения. Мне не вернуть ее. Одно его прикосновение – и восемнадцать лет чистоты потеряны безвозвратно.
И т. д. и т. п. Фаусто, даже подозревая самое худшее, должно быть, знал: Днубиетна не имеет никакого отношения к ее нежеланию. Подозрения размякли и превратились в ностальгические размышления:
В воскресенье шел дождь, оставивший меня наедине с воспоминаниями. Кажется, под дождем они распустились, словно будоражащие цветы с горько-сладким запахом. Помню одну ночь – мы, еще детьми, обнимаемся в саду над Гаванью. Шелест азалий, запах апельсинов, ее длинное черное платье, вбирающее в себя свет луны и звезд – безвозвратно. Как и весь отобранный у меня свет. В ней живет мягкость моего сердца – иоаннова хлеба.








