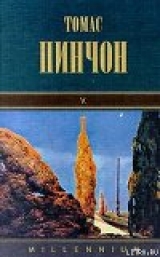
Текст книги "В"
Автор книги: Томас Рагглз Пинчон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 39 страниц)
III
Профейн заночевал у Свина, который жил у старых паромных доков. Он спал один. Паола случайно встретила одну из Беатрис и ушла на ночь к ней, сдержанно пообещав Профейну быть его дамой на новогоднем празднике.
Около трех Профейн проснулся на кухонном полу с головной болью. Ночной воздух, резкий и холодный, сквозил из-под двери, а снаружи доносилось тихое непрерывное рычание.
– Свин! – проворчал Профейн. – Где у тебя аспирин? – Ответа не последовало. Профейн проковылял в другую комнату. Свина не было и там. Рычание на улице стало казаться еще более зловещим. Профейн подошел к окну и внизу на улице увидел Свина, который сидел на своем мотоцикле, давая двигателю полный газ. Снег падал крошечными сверкающими иголками, и переулок светился особенным, необычным светом, который превращал одежду Свина в черно-белый клоунский костюм, а древние кирпичные стены, припорошенные снегом, – в нейтрально-серые. У Свина на голове была моряцкая вязаная шапка. Он натянул ее до самой шеи, и его голова смотрелась, будто мертвая черная сфера. Вокруг него клубились облака выхлопных газов. Профейн передернулся.
– Что ты делаешь, Свин? – крикнул он. Свин не ответил. Это загадочное зловещее явление Свина и "Харлей Дэвидсона" в пустом переулке в три часа ночи вдруг напомнило Профейну о Рэйчел, про которую ему не хотелось думать, – во всяком случае, сегодня, когда болит голова, а колючий ветер заносит в комнату снег.
В 1954 году у Рэйчел Аулглас был собственный «Эм-Джи». Подарок папочки. После первого рейса вокруг Гранд Сентрал (там располагался офис отца), в ходе которого машина была ознакомлена с телефонными столбами, пожарными гидрантами и случайными прохожими, Рэйчел поехала на все лето в горы Кэтскиллз. Оказавшись там, маленькая, угрюмая, пышно сложенная Рэйчел гнала свой «Эм-Джи», как коня, по изгибам и ухабам кровожадного Семнадцатого шоссе. Автомобиль, надменно тряся задницей, проезжал мимо повозок с сеном, рычащих грузовичков, стареньких родстеров «Форд», до отказа набитых стриженными под ежик гномиками, закончившими начальную школу.
Профейн как раз только что уволился из флота и работал помощником салатника в «Трокадеро» у Шлоцхауэра в девяти милях от Либерти, штат Нью-Йорк. Салатником был некто Да Коньо – сумасшедший бразилец, мечтавший отправиться в Израиль воевать с арабами. Однажды вечером в "Фиесте Лаундж" – баре «Трокадеро» – появился пьяный матрос, неся в своей дембельской сумке автомат тридцатого калибра. Он не помнил точно, как к нему попало это оружие; Да Коньо же предпочитал думать, что автомат был по деталям перевезен контрабандой с острова Паррис, – именно так поступила бы Хагана. Поторговавшись с барменом, который тоже хотел заполучить пушку, Да Коньо в конце концов одержал победу, отдав матросу три артишока и баклажан. К мезузе, приколотой над холодильником для овощей, и к сионистскому знамени, висевшему над разделочным столом, Да Коньо добавил этот выигрыш. Стоило шеф-повару отвернуться, как Да Коньо собирал свой автомат, маскировал его качанным салатом, жерухой, бельгийским цикорием и начинал играть в нападение на сидящих в зале посетителей.
– Йибл, йибл, йибл!!! – покрикивал он, злобно прищуриваясь. – Я попал в яблочко, Абдул Саид. Йибл, йибл, мусульманская свинья!
Автомат Да Коньо был единственным в мире, который при стрельбе издавал звук «йибл». Он мог сидеть до четырех ночи – чистить свою пушку и мечтать о похожих на Луну пустыне, о шипящей чань-музыке, о йемениточках с прикрытыми белыми платками нежными головками и с изнемогающими без любви чреслами. Он дивился на американских евреев, которые могут вот так сидеть с тщеславным видом и поглощать одно блюдо за другим, когда всего в половине окружности земного шара от них лежит безжалостная пустыня, усыпанная трупами сородичей. Каким еще языком мог он разговаривать с этими бездушными желудками? Уповать на ораторское искусство масла и уксуса или на мольбу пальмовой мякоти? У Да Коньо был единственный голос – его автомат. Но слышат ли они его? Есть ли у желудков уши? – Нет! Да и нельзя услышать выстрел, предназначенный тебе. Этот автомат, нацеленный, возможно, сразу на все пищеварительные тракты, одетые в костюмы "Харт, Шаффнер и Маркс" и похотливо побулькивающие при взгляде на официанток, был всего лишь неодушевленным предметом, который смотрит туда, куда его направит любая нарушающая равновесие сила. В чье пузо целился Да Коньо? Абдула Саида? Пищеварительного тракта? Свое собственное? К чему задавать вопросы? Он знал одно: он – бедный сионист, сбитый с толку, страждущий, жаждущий пустить корни – хотя бы на полноска вглубь – в каком-нибудь кибуце на той стороне земли.
Профейна удивило отношение Да Коньо к своему автомату. Любовь к вещи была для него в новинку. Немного позже, когда Профейн обнаружил, что такие же отношения существуют между Рэйчел и ее «Эм-Джи», он впервые в жизни понял, что у многих людей есть занятие, скрываемое от чужих глаз, и они уделяют ему гораздо больше времени, чем можно заподозрить.
Поводом для ее знакомства с Профейном, как и со многими другими, послужил «Эм-Джи». Этот автомобиль чуть его не задавил. Как-то в полдень, выйдя на улицу с мусорным ведром, через верх которого переливались некондиционные листья салата, Профейн услышал справа зловещий рокот. Он продолжал свой путь в уверенности, что обремененный ношей пешеход имеет предпочтительное право. В следующую секунду Профейн почувствовал удар, нанесенный ему правым крылом машины. К счастью, она ехала со скоростью пять миль в час – не очень высокой для того, чтобы покалечить, но достаточной для превращения Профейна, ведра и салата в грандиозный зеленый ливень, падающий на землю задницей вниз.
Обсыпанные салатом, они с подозрением разглядывали друг друга.
– Как романтично! – сказала она. – Вдруг ты похож на мужчину моей мечты? Убери-ка с лица этот лист, чтобы я смогла разглядеть.
Памятуя о своем месте, Профейн снял с лица лист, словно шляпу для поклона.
– Нет, – сказала она. – Это не он.
– Может, – отозвался Профейн, – в следующий раз попробуем с фиговым листочком?
Она рассмеялась и с грохотом умчалась прочь. Он нашел грабли и принялся собирать мусор в кучу, размышляя о встрече с очередным чуть не убившим его неодушевленным предметом. При этом Профейн не был уверен, что имеет в виду машину, а не Рэйчел. Он сложил салат обратно в ведро и отнес его в небольшую лощину за автостоянкой, служившую для персонала «Трокадеро» свалкой. На обратном пути он снова встретил Рэйчел. Аденоидальный тембр выхлопа остался тем же, что и по дороге в Либерти.
– Эй, Толстячок, поехали прокатимся, – позвала она. Профейн согласился – до приготовления ужина оставалось целых часа два.
После пяти минут езды по Семнадцатому шоссе Профейн решил, что если вернется в «Трокадеро» живым и невредимым, то выкинет из головы эту Рэйчел и впредь будет обращать внимание только на спокойных пешеходок. На машине она мчалась, словно проклятая в святой праздник. Он, конечно, не сомневался в том, что она соразмеряет возможности машины со своими собственными. Но откуда ей было знать, например, что встречный молоковоз на крутом зигзаге этой двухполосной дороги свернет на свою линию именно в тот момент, когда между ними останется одна шестнадцатая дюйма?
Не на шутку испугавшись за свою жизнь, Профейн не чувствовал обычного смущения перед девушками. Он потянулся к ее сумочке, нашел там сигарету и закурил. Рэйчел даже не заметила. Она была всецело поглощена вождением и вообще забыла, что рядом кто-то сидит. Она открыла рот лишь однажды – сказать, что сзади лежит холодное пиво. Профейн потягивал сигарету и размышлял: нет ли у него склонности к самоубийству? Может, он нарочно всегда идет туда, где ему могут встретиться враждебные предметы? Может, он сам стремится к тому, чтобы закончить свою жизнь смертью шлемазла? Если нет, то почему он тут сидит? Потому что у Рэйчел симпатичный зад? Он бросил взгляд на обитое кожей соседнее сиденье, – зад Рэйчел подпрыгивал синхронно с машиной; потом понаблюдал, как движется ее левая грудь под черным свитером – движение не такое уж простое, но и не вполне гармоническое. В конце концов Рэйчел свернула в заброшенный карьер. Вокруг валялись обломки щебня неправильной формы. Профейн не знал, что это за камни, но неодушевленными они были наверняка. Рэйчел повела машину вверх по пыльной дороге и остановилась на площадке в сорока футах над дном карьера.
Погода в тот день стояла неуютная. С безоблачного небосвода безжалостно били солнечные лучи. Упитанный Профейн весь взмок. Рэйчел, знавшая некоторых девушек из профейновской школы, сыграла с ним в игру "А не знаком ли ты?", но он проиграл. Она рассказала ему о всех своих кавалерах этого лета, – казалось, она выбирает исключительно старшекурсников из колледжей "Айви Лиг". Время от времени Профейн поддакивал: мол, в самом деле, это было чудесно.
Она рассказывала о Беннингтоне, ее альма матер. Она рассказывала о себе.
Рэйчел приехала из Пяти Городов – так называется местность на южном берегу Лонг-Айленда: Мальверн, Лоренс, Сидархерст, Хьюлет и Вудмер; сюда иногда добавляют Лонг-Бич и Атлантик-Бич, но при этом никому в голову не приходит называть этот район Семью Городами. Хотя местные жители и не принадлежат к сефардам, Пять Городов, казалось, поражены каким-то географическим инцестом. Смуглые девушки, от которых здешнее воспитание требует скромной походки, – словно принцессы Рапунцели, живущие в волшебных пределах страны, где эльфовая архитектура китайских ресторанов, дворцов морской кухни и синагог с подиумами зачастую оказывается не менее завораживающей, чем само море; потом девушки созревают достаточно, чтобы отправить их в северо-восточные горы и колледжи. Не за тем, чтобы охотиться на будущих мужей (ибо в Пяти Городах всегда достигается паритет, по которому все хорошенькие мальчики к шестнадцати-семнадцати годам уже распределены между невестами), но дабы получить хотя бы иллюзию свободы нагуляться всласть, – столь необходимую для эмоционального развития.
Убегают лишь отважные. Приходит воскресный вечер: гольф закончился, программа Эда Салливана уже пару часов как началась, официантки-негритянки, прибравшись после вчерашних гулянок, отправляются в Лоренс навестить родных; и тут-то кровь этого королевства вытекает из огромных домов, садится в автомобили и направляется в деловые районы развлекаться среди бесконечных верениц креветок и омлетов фу-юнь. Восточные официанты раскланиваются и улыбаются, порхают в летних сумерках, в их голосах слышен щебет летних пташек. Когда опускается ночь, наступает пора краткой прогулки по улице – торс отца, солидный и уверенный в своем костюме от Дж. Пресс, глаза дочери, спрятанные за солнцезащитными очками в отделанной искусственными бриллиантами оправе. Ее лоснящиеся бедра обтянуты слаксами, названными – по расцветке – так же, как машина матери, – «ягуар». Кто смог бы от этого убежать? Да и кто захочет?
Рэйчел захотела. Профейн, который одно время ремонтировал дороги в районе Пяти Городов, вполне мог ее понять.
Еще солнце не зашло, а между ними произошло уже почти все. Профейн был отчаянно пьян. Он вылез из машины, зашел за дерево и повернулся на запад с намерением помочиться на солнце и погасить его раз и навсегда, – Профейну почему-то это казалось очень важным. (Неодушевленные предметы могут делать все, что захотят. Точнее, вещи не могут ничего хотеть, – только люди. Но все равно вещи всегда делают свое дело, – вот почему Профейн мочился на солнце).
Оно ушло, будто Профейн в самом деле его погасил, став бессмертным богом спустившихся сумерек.
Рэйчел с любопытством наблюдала за ним. Он застегнулся и, пошатываясь, вернулся к пиву. Осталось всего две банки. Он открыл их и протянул одну Рэйчел.
– Я погасил солнце, – сказал он. – Выпьем за это. – Полбанки пролилось на рубаху.
Две смятые банки упали на дно карьера, за ними последовал пустой пакет.
Рэйчел так и сидела в машине.
– Бенни. – Ноготок коснулся его лица.
– Чего?
– Ты будешь моим другом?
– Похоже, друзей у тебя и так достаточно.
Она посмотрела на дно карьера.
– Почему мы не можем заставить себя понять, что другие – тоже реальные люди? – сказала она. – Нет ни Беннингтона, ни твоего ресторана, ни Пяти Городов. Есть лишь этот карьер: мертвые скалы, которые стояли здесь до нас и будут стоять после.
– Ну и что?
– Разве не таков этот мир?
– Ты прочла об этом во "Введении в геологию"?
Похоже, она обиделась.
– Я просто знаю.
– Бенни! – закричала она, но осеклась. – Будь моим другом. Вот и все.
Он пожал плечами.
– Пиши мне!
– Не думай, что…
– Дорога. Какова она? Твоя дорога, которую я никогда не увижу. С ее дизелями и пылью, мотелями, закусочными на перекрестках. Со всем, что там есть. Как выглядит мир к западу от Итаки и к югу от Принстона? Я, наверное, никогда не узнаю.
Он почесал живот.
– Да уж.
Весь остаток лета Профейн продолжал случайно встречать ее, минимум раз в день. Они всегда разговаривали, сидя в машине, и он пытался подобрать ключик к ее собственному зажиганию, вглядываясь в ветровые стекла глаз. Она сидела за правосторонним рулем и говорила, говорила… "Эм-Джи"-слова, неодушевленные слова, – слова, на которые он не знал, что отвечать.
Вскоре случилось то, чего Профейн и боялся: он понял, что обманом заставил себя влюбиться в Рэйчел, и удивился лишь тому, что это заняло столько времени. По ночам он лежал в своей ночлежке и горящим кончиком сигареты выводил в темноте апострофы. Около двух с ночной смены приходил сосед с верхней койки, некий Дюк Ведж – прыщавый молодчик из округа Челси, который все время принимался рассказывать о своей огромной зарплате; зарабатывал он и в самом деле много. Его истории убаюкивали Профейна. Однажды вечером в машине Рэйчел, стоявшей возле ее домика, он увидел с нею этого негодяя. Профейн поплелся обратно в ночлежку, но преданным себя не почувствовал, поскольку был уверен, что у Веджа все равно ничего не получится. Он даже дождался соседа и позволил потчевать себя детальным отчетом о том, как тот ну почти уже все сделал, но лишь почти. Профейн, как всегда, заснул на середине.
В разговоре он никогда глубоко не вдавался в ее мир: этот мир – очередная вещь, которой можно дорожить и которая может вызывать зависть, а значит, несет в себе воздух, которым Профейн не может дышать. В последний раз он увидел Рэйчел на праздник Труда. Завтра она должна была уезжать. В тот вечер прямо перед ужином у Да Коньо украли автомат. Да Коньо, весь в слезах, метался в поисках. Делать салаты было приказано Профейну. Он умудрился насыпать мороженой клубники в рубленую печень, смешанную с горчицей и прованским маслом для салата «Уолдорф», а также случайно обжарить в масле две дюжины редисок вместо картофеля фри (хотя ему все равно не удалось избежать нареканий со стороны клиентов, поскольку было лень идти за добавкой). Время от времени через кухню со стенаниями проносился бразилец.
Он так и не нашел свой любимый автомат. Несчастного и измотанного, его уволили на следующий день. Сезон уже все равно закончился; насколько Профейн понимал, Да Коньо вполне мог сесть на пароход до Израиля, а потом ковыряться в каком-нибудь тракторе и, подобно многим измученным рабочим-иммигрантам, пытаться забыть свою оставшуюся в Штатах любовь.
Когда вся эта беготня завершилась, Профейн отправился на поиски Рэйчел. Ему сказали, что она вышла с капитаном гарвардских арбалетчиков. Профейн побродил немного вокруг ночлежки и наткнулся на угрюмого Веджа – непривычно одинокого для этого времени суток. До самой полуночи они играли в «очко» на все презервативы, не использованные Веджем за лето. Их набралось около сотни. Пятьдесят Профейн взял в долг и, попав в полосу везения, очень скоро полностью обчистил Веджа. Тот отправился по соседям, чтобы занять еще, но вернулся, качая головой.
– Мне никто не поверил.
Профейн дал ему несколько в долг. В полночь Профейн сообщил Веджу о том, что тот задолжал уже тридцать штук. Ведж разразился соответствующим комментарием. Профейн сгреб в кучу все выигранные презервативы. Голова Веджа рухнула на стол.
– Он никогда не использует их, – обратился он к столу. – Ни хрена у него не выйдет! Никогда в жизни!
Профейн снова побрел к домику Рэйчел. С внутреннего двора доносилось бульканье расплескиваемой воды, и он направился туда. Рэйчел мыла там машину. Посреди ночи! Более того, она разговаривала.
– Мой прекрасный жеребенок, – услышал Профейн. – Как я люблю прикасаться к тебе! – "Мать честная!" – подумал он. – Ты знаешь, что я чувствую, когда мы едем с тобой по дороге? Когда мы вдвоем, и больше никого? – Губка ласково гладила бампер. – Я чувствую все, что чувствуешь ты, дорогой, ведь я уже так хорошо тебя знаю – как на тормозах тебя тянет немного влево, как ты начинаешь дрожать при пяти тысячах оборотов, когда ты возбужден. Ты начинаешь жечь масло, когда сердишься на меня, ведь правда? Я все знаю. – В ее голосе не слышалось никакого безумия; это была просто игра школьницы, хотя, следовало признать, весьма своеобразная игра. – Мы всегда будем вместе, – скользила замша под крышкой капота. – Не думай о том черном «Бьюике», мимо которого мы сегодня проезжали. Ух! – толстая, грязная, гангстерская машина. Я так и ждала, что из задней дверцы вывалится труп. Тебе не показалось? К тому же, ты – такой английский, такой угловатый, такой твидовый и – о! – такой айви-лиговый, что я никогда не брошу тебя, дорогой.
Профейна чуть не вырвало. Публичные изъявления сантиментов всегда на него так действовали. Она залезла в машину и откинулась на шоферском сидении, открыв рот навстречу летним созвездиям. Профейн хотел было подойти, но тут заметил, как ее левая рука бледной змеей заползла на рычаг переключения передач и начала его ласкать. Благодаря недавнему общению с Веджем, у Профейна возникли вполне однозначные ассоциации. Он не желал больше на это смотреть и быстрым шагом отправился назад в «Трокадеро» – через холм и лес, а потом не мог даже вспомнить – какой дорогой шел. Ни в одной из времянок свет не горел, но контора стояла открытой. Клерк куда-то вышел. Профейн перерыл все ящики и нашел, наконец, коробку кнопок. Затем вернулся к времянкам и до трех ночи ходил под светом звезд от одной двери к другой, прикрепляя на каждую по презервативу. Ему никто не мешал. Он чувствовал себя Ангелом Смерти, метящим двери завтрашних жертв. Назначение мезузы – отпугивать Ангела, поэтому к мезузе он не стал бы подходить. Но ни на одной из сотни дверей она не висела. Что ж, тем хуже для них.
Когда лето закончилось, между Профейном и Рэйчел завязалась переписка. Его письма были вялыми и кишели неправильными словами, ее – то остроумными, то отчаянными, то страстными. Через год она окончила Беннингтон, поехала в Нью-Йорк и устроилась на работу в приемную агентства по найму. Пару раз они встречались, когда он оказывался в Нью-Йорке; хотя они почти не думали друг о друге и хотя та рука, в которой держат нитку йо-йо, была у нее обычно занята другими вещами, он иногда чувствовал – как сегодня, например, – невидимое дергающее усилие, словно за пуповину – мнемоническое, возбуждающее, – и в такие минуты задавался вопросом: насколько он себе принадлежит. Он ценил в ней то, что она никогда не называла их отношения Связью.
– А что же это? – спросил он однажды.
– Секрет, – ответила она с детской улыбкой, которая, как мелодия Роджерса и Хаммерстайна на 3/4, приводила его в порхающее, желеобразное состояние.
Она посещала его без предупреждения, словно суккуб, приходящий со снегом и, как снег, неизбежный.
IV
Как оказалось, новогодней пирушке было суждено положить конец йо-йошничанью, – по крайней мере, временно прервать. Воссоединенная команда взошла на борт «Сюзанны Сквадуччи», подкупив вахтенного бутылкой вина, и позволила (не без предварительной перебранки) присоединиться к себе матросам с эсминца, стоявшего в сухом доке.
Поначалу Паола держалась поближе к Профейну, который положил глаз на одну пышную даму, одетую в нечто вроде меховой шубы и уверявшую, будто она – адмиральская жена. Здесь были хлопушки, радиоприемник и вино, вино… Влажная Железа решил залезть на мачту. Она была недавно покрашена, но Влажного это не остановило, и, по мере продвижения вверх, он делался все больше похожим на зебру. Добравшись до салинга, Железа уселся там, снял гитару, которая, пока он лез, болталась у него где-то снизу, ударил по струнам и запел с ковбойским прононсом:
Depuis que je suis ne
J'ai vu mourir des peres,
J'ai vu partir des freres,
Et des enfants pleurer…
Очередная песня десантника. Он часто появлялся на той неделе. С самого рождения (пел он) я видел умирающих отцов, уходящих братьев, плачущих младенцев…
– Что за проблемы у этого десантника? – спросил Профейн у Паолы, когда она перевела ему песню. – Многие видели то же самое. Это происходит не только на войне. Война здесь ни при чем. Я родился в гувервилле, еще до войны.
– Ты прав, – ответила Паола. – Je suis ne. Родиться. Вот и все, что для этого нужно.
Голос Влажного звучал так высоко над головами, что казался частью ветра – неодушевленного. Где теперь Гай Ломбардо со своими "Старыми добрыми временами"?
На первой минуте 1956 года Влажный спустился на палубу, а Профейн забрался на его место и, сидя верхом на рее, наблюдал, как прямо под ним Свин совокупляется с адмиральской женой. С неба, сыплющего снегом, спикировала чайка и, покружив немного, уселась на рею в футе от руки Профейна.
– Эй, чайка! – обратился к ней Профейн. Чайка не ответила.
– Эх, дружище, – обратился Профейн к ночи. – Люблю я смотреть, как молодежь собирается вместе. – Он внимательно изучил главную палубу. Паола исчезла. И тут все словно взорвалось. С улицы послышалась сирена, потом – другая. На пирс с ревом въехали машины – серые «Шевроле» с надписью "ВМС США". Включились прожекторы, и по пирсу рассыпались маленькие люди в белых фуражках и черно-желтых патрульных повязках на рукаве. Трое бдительных участников веселья бегали по левому борту и сбрасывали трапы в воду. К машинам, из которых уже мог бы составиться целый парк, добавился фургон с громкоговорителем на крыше.
– Теперь, ребята, все будет в порядке! – замычало пятьдесят ватт бестелесного гласа. – Все будет в порядке! – в этих словах заключалось все, что они хотели сказать. Адмиральша заверещала, что это, мол, – ее муж, и он теперь ее застукал. В самом разгаре грехопадения лучи двух или трех прожекторов пригвоздили их к палубе. Свин пытался попасть сразу всеми тринадцатью пуговицами в нужные петли, что в спешке практически невозможно. С пирса – подбадривающие выкрики и смех. Несколько патрульных уже пробирались на судно, по-крысиному заползая по швартовам. Экс-эшафотовцы оправлялись от сна и, пошатываясь, поднимались по трапам на палубу. Влажный вопил: "Готовьтесь отпихивать абордажников!" и размахивал гитарой, словно саблей.
Наблюдая за всем этим, Профейн стал немного беспокоиться за Паолу. Попытался найти ее, но лучи прожекторов все время двигались, приводя освещение главной палубы в полный беспорядок. Снова пошел снег.
– Ты думаешь, – сказал Профейн чайке, которая не обращала на него никакого внимания, – ты думаешь, я – Бог?
Осторожно добравшись до площадки, он лег на живот. Из-за края виднелись только глаза, нос и ковбойская шляпа – как горизонтальный Килрой.
– Если бы я был Богом… – он указал пальцем на одного из патрульных. – Раз, и дрын – у тебя в заднице! – Патрульный продолжал заниматься своим делом – колотить дубинкой по животу 250-фунтового артнаводчика по имени Пэтси Пагано.
Автопарк на пирсе пополнился скотовозом – так на языке ВМС называется воронок, или Черная Мария.
– Раз! – продолжал Профейн. – И ты, скотовоз, едешь, не останавливаясь, и падаешь в воду. – Скотовоз чуть было так не поступил, но успел вовремя затормозить. – Пэтси Пагано! Пусть у тебя вырастут крылья, и – лети! – Но последний удар свалил Пэтси на землю – похоже, надолго. Патрульный так и оставил его лежать: понадобилось бы не меньше шести человек, чтобы сдвинуть его с места. – В чем же дело? – недоумевал Профейн. Чайка, которой это дело наскучило, снялась с места и полетела в направлении базы. Возможно, подумал Профейн, Бог должен быть более позитивно настроен, нечего все время метать молнии. Он осторожно указал пальцем на Влажную Железу. – Влажный! Спой-ка им ту алжирскую пацифистскую песню! – Железа сидел верхом на барьере капитанского мостика. Он сыграл басовое вступление и запел "Блю Свед Шуз" Элвиса Пресли. Профейн перевернулся на спину и, прищурившись, стал смотреть на падающий снег.
– Что ж, почти получилось, – обратился он к улетевшей птице и к снегу. Он положил шляпу на лицо, закрыл глаза. И вскоре задремал.
Шум внизу понемногу стихал. Тела уносили и запихивали в скотовоз. Машина с громкоговорителем прокашлялась помехами, а потом уехала. Прожекторы выключили, а сирены, демонстрируя эффект Допплера, помчались в направлении штаба берегового патруля.
Профейн проснулся рано утром. Он был припорошен снежком и продрог до последней косточки. На ощупь он спустился по обледенелым ступенькам, поскальзываясь чуть ли не на каждой. Корабль был пуст. Профейн отправился греться под палубу.
Снова он попал в самую сердцевину чего-то неодушевленного. Снизу донесся шум. Скорее всего – ночной вахтенный.
– Вот не дадут побыть одному, – пробормотал Профейн и двинулся на цыпочках вдоль прохода. На полу он заметил мышеловку, аккуратно поднял ее и швырнул в проход. Она ударилась о переборку и отскочила с громким БРЯК. Шаги резко стихли, затем возобновились, но стали более осторожными – двигались где-то под Профейном, потом – вверх по трапу – туда, где лежала мышеловка.
Профейн посмеялся и нырнул за угол. Там нашел очередную мышеловку и отправил ее вслед за коллегой. БРЯК. Шаги забарабанили вверх по лестнице.
Четырьмя мышеловками позже Профейн очутился на камбузе, где вахтенный затеял варить некую кофейную бурду. Рассчитывая, что хозяин проплутает еще хотя бы пару минут, Профейн поставил на плиту чайник.
– Эй! – закричал вахтенный. Он оказался двумя палубами выше.
– Охо-хо! – отозвался Профейн. Он украдкой выбрался из камбуза и отправился на поиски мышеловок. Одну нашел наверху, на следующей палубе. Он поднял мышеловку, ступил на трап и бросил ее по невидимой дуге. По крайней мере, спас мышей. Сверху раздался глухой удар, потом – крик.
– Мой кофе, – вспомнил Профейн и бросился вниз по трапу через ступеньки. Он бросил в кипяток пригоршню смеси и скользнул к противоположному краю камбуза, едва не наткнувшись на вахтенного, который гордо шествовал с мышеловкой, свисающей с левого рукава. Профейн стоял довольно близко и видел его взгляд, исполненный терпения и муки. Вахтенный вошел на камбуз, и Профейн тут же выскочил в проход. Он успел пробежать три палубы вверх, когда услышал рев, доносившийся с камбуза.
– Ну что там еще?
Он попал в коридор, по обе стороны которого располагались пустые пассажирские каюты. Подобрав оставленный сварщиком мелок, он написал на переборке ИМЕЛ Я СЮЗАННУ СКВАДУЧЧИ и ниже И ВСЕХ ВАС, БОГАТЫЕ ВЫРОДКИ, подписался ФАНТОМ и почувствовал себя лучше. Кто будет плавать в Италию на этой штуковине? Скорее всего, председатели правлений, кинозвезды и депортированные рэкетиры.
– Сегодня, – промурлыкал Профейн, – сегодня, Сюзанна, ты принадлежишь мне. – Чтобы расписывать переборки, обезвреживать мышеловки. Это больше, чем сделал бы для тебя любой из пассажиров. Он поплелся по проходу, собирая мышеловки.
На подходе к камбузу он снова принялся разбрасывать их во все стороны.
– Ха-ха, – сказал вахтенный. – Давай, шуми! А я пока допью твой кофе.
И допил. Профейн рассеянно поднял единственную оставшуюся мышеловку. Она сработала и схватила его сразу за три пальца между первой и второй фалангами.
Что я должен делать, – подумал он, – кричать? Нет. Вахтенный и без того достаточно посмеялся. Стиснув зубы, он отцепил мышеловку, взвел ее, бросил через иллюминатор в камбуз и бросился бежать. Когда он спрыгнул на пирс, ему в затылок угодил снежок и сбил с головы ковбойскую шляпу. Он наклонился за шляпой и подумал: не произвести ли ответный выстрел? Нет. И побежал дальше.
Паола ждала у парома. Когда они поднимались на борт, она взяла его за руку.
– Мы когда-нибудь уйдем с этого парома? – все, что он сказал.
– Ты весь в снегу. – Она встала на цыпочки, чтобы стряхнуть с него снег, и он чуть ее не поцеловал. На морозе рана от мышеловки болеть перестала. Поднялся прилетевший из Норфолка ветер. На этот раз они остались внутри.
Рэйчел нашла его на автостанции в Норфолке. Согнувшись, Профейн сидел рядом с Паолой на деревянной грязновато-бледной лавке, протертой поколением случайных задниц; два билета до Нью-Йорка; "Нью-Йорк", – стучало внутри его ковбойской шляпы. Профейн закрыл глаза и пытался уснуть. Он уже начал отрубаться, когда по трансляции объявили его имя.
Он не успел еще проснуться, но уже знал – кто это может быть. Как чувствовал. Он часто думал о ней.
– Дорогой Бенни, – сказала Рэйчел. – Я обзвонила все автостанции страны. – Из трубки доносился шум веселой пьянки. Новогодняя ночь. А там, где сейчас сидел Профейн, были лишь старые часы. Да еще дюжина бездомных, ссутулившихся на деревянных лавках в попытке заснуть. В ожидании автобусов дальнего следования – настолько дальнего, что куда там «Грейхаунду» или «Трэйлвэйзу». Он смотрел на них, а слушал ее – не перебивая.
– Приезжай домой, – говорила она – единственный человек, кому он позволял говорить такие слова, не считая внутреннего голоса. Но от последнего он лучше бы отрекся – как от оболтуса и раздолбая – чем стал бы к нему прислушиваться.
– Понимаешь… – пытался он сказать.
– Я вышлю деньги на билеты.
И ведь выслала бы.
Он услышал, как к нему по полу движется глухой, бренчащий звук. Влажная Железа – хмурый и тощий – волочил за собой гитару. Профейн вежливо перебил Рэйчел.
– Тут пришел мой друг Влажная Железа, – сказал он полушепотом. – Он хочет спеть тебе песенку.
Влажный спел ей «Скитания» – старую песню времен Депрессии. Рыбы в море, рыбы в океане, рыжеволосая меня обманет…
У Рэйчел волосы тоже были рыжими, с прожилками преждевременной седины, настолько длинные, что если бы она обхватила их сзади рукой и, подняв над головой, дала свободно упасть вперед, то они полностью скрыли бы ее огромные глаза. Нелепый жест для девушки, чей рост, без каблуков, составлял 4 фута 10 дюймов – по крайней мере, попытайся она этот жест сделать.
Он почувствовал, как его потянуло за невидимую пуповину, и подумал о длинных пальцах, сквозь которые он мог бы – хоть изредка – видеть мельком голубое небо.








