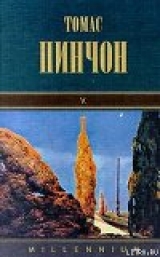
Текст книги "В"
Автор книги: Томас Рагглз Пинчон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 39 страниц)
IX
Неподалеку от британского консульства, примыкая к тюрьме, где сидел Эван, располагались две узкие улочки – Виа дель Пургаторио и Виа дель Инферна. Они пересекались в форме буквы «Т», ножка которой шла параллельно Арно. Виктория стояла на этом перекрестке – крошечная прямая фигурка в белом канифасе, окруженная непроглядной тьмой. Она трепетала, словно пришла на свидание с любимым. Люди в консульстве оказались тактичными; более того, она увидела, как в их глазах тяжело опускается скорбное знание, и сразу же поняла, что старик Годольфин и вправду был сжат тисками «жуткой необходимости» и что ее интуиция в очередной раз не подвела. Виктория гордилась этой своей способностью, как атлет гордится силой или мастерством; например, именно интуиция в свое время подсказала ей, что Гудфеллоу – шпион, а не просто случайный турист, и помогла ей раскрыть в себе талант к шпионажу. Ее решение помочь Годольфину происходило вовсе не из романтических иллюзий по поводу шпионажа (в этом занятии она видела больше уродства, чем обаяния), а, скорее, из ощущения, что мастерство, или любое virtu, желанно и восхитительно просто само по себе, – и чем дальше оно отстоит от идеи морали, тем эффективнее оно становится. Виктория, хоть она и стала бы это отрицать, принадлежала к тому же типу людей, что и Ферранте, Гаучо или синьор Мантисса; представься возможность, она тоже принялась бы действовать, исходя из личного, уникального толкования «Государя». Она так же переоценивала роль virtu – индивидуального посредничества, – как синьор Мантисса – образ лисы. И, возможно, когда-нибудь один из них сможет задать вопрос: что же еще движет эпохой, если не этот вид дисбаланса – когда перевешивает менее сильный, но более хитрый?
Она стояла на перекрестке, как вкопанная, и думала – поверил ли ей старик, дождется ли он ее? Она молила Бога, чтобы это оказалось так, – и дело даже не столько в том, что судьба его была ей небезразлична, сколько в деформированном самовозвеличивании: соответствие событий выработанному ей сценарию являло бы славное свидетельство ее мастерства. Чего ей удалось избежать – возможно, благодаря оттенку сверхъестественного, который приобретали мужчины в ее глазах, – так это общей тенденции школьниц называть мужчин, которым перевалило за пятьдесят, «сладкими», "душками" и «милашками». В каждом пожилом человеке она видела его образ двадцати– или тридцатилетней давности – призрак, чьи очертания почти слились с оригиналом – молодой, энергичный, обладающий могучей жизненной силой и чувствительными пальцами. Таким образом, она желала помочь молодой версии капитана Хью и сделать ее частью обширной системы каналов, шлюзов и бассейнов на бурной реке Фортуны.
Если на свете существует, – как начинали подозревать некоторые психиатры, – родовая память, врожденное вместилище изначального знания, формирующего определенные наши действия и случайные желания, то не только ее присутствие здесь – между чистилищем и адом, – но и вся ее преданность Римскому католицизму с той же необходимостью и вероятностью происходила и зависела от одного элемента первобытной веры, который, подобно жизненно важному клапану, сиял во всем своем величии и великолепии в этом вместилище – от понятия о призраке, или духовном двойнике, как о событии, происходящем реже путем размножения, но чаще путем расщепления, и от естественного вытекающего отсюда вывода: сын – это призрак-двойник отца. Приняв таким образом понятие дуализма, Виктория обнаружила, что до Троицы остается всего один шаг. Увидев над старым Годольфином ореол второго и более зрелого «я», она стояла сейчас у тюрьмы и ждала, а тем временем справа от нее раздавался одинокий голос девушки, поющей о трудности выбора между богатым стариком и красивым юношей.
Наконец, Виктория услышала, как открываются тюремные двери, потом приближающийся звук его шагов, стучащих по узкому проходу, и затем – удар захлопнувшихся дверей. Она воткнула зонтик в землю рядом со своей маленькой ножкой, и теперь стояла, высматривая его. Она заметила его лишь когда он чуть с ней не столкнулся.
– Ну и ну! – воскликнул он.
Она подняла глаза. Его лицо было еле различимым. Он вгляделся в нее внимательнее.
– Я видел вас сегодня днем. Девушка в трамвае. Верно?
– Вы пели мне из Моцарта, – пробормотала она в знак согласия. Совсем не похож на отца!
– Просто маленькая шутка, – произнес Эван, заикаясь. – Я не хотел вас смутить.
– Но тем не менее, я смутилась.
Эван робко опустил голову.
– Но что вы делаете здесь, в такое время? – Он издал вымученный смешок. – Не меня же вы ждете.
– Да, – спокойно сказала она. – Жду вас.
– Мне это ужасно льстит. Но, с позволения сказать, вы не похожи на тех молодых леди, которые… Ну, в смысле, вы понимаете. В смысле, а! к дьяволу, с чего бы это вам ждать меня? Ведь не потому же, что вам понравился мой голос.
– Потому что вы – его сын, – ответила она.
Он понял, что не нужно требовать никаких объяснений, не нужно, запинаясь, расспрашивать – как вы встретились с моим отцом? откуда узнали, что я здесь? и что меня выпустят? У него сложилось ощущение, что рассказ, который в камере он поведал Гаучо, был сродни исповеди, признанием в слабости, а молчание Гаучо – отпущением грехов, искупившим эту слабость и неожиданно толкнувшим его в трепещущие основы нового человечества. Он почувствовал, что вера в Вейссу лишает его права на обычную высокомерную мнительность, что отныне, куда бы он ни поехал, в качестве наказания должен будет с готовностью принимать все миражи и видения – как, например, эта встреча на перекрестке. Виктория обхватила ладонями его бицепс, и они пошли по улице.
Немного возвышаясь над ней, он заметил изящный гребень слоновой кости, воткнутый в ее волосы по самые подмышки. Лица, шлемы, касающиеся друг друга руки… распятия? Он, прищурившись, внимательно вгляделся в лица. Они, казалось, вытянулись под весом собственных тел, но, скорее по традиции, выражали восточное понятие о смирении, а не четко обозначенную кавказскую боль. Да, любопытная девушка! Он хотел было использовать гребень как тему для начала разговора, но она опередила его.
– Какой странный сегодня вечер! И этот город. Будто что-то дрожит под его поверхностью и вот-вот прорвется наружу.
– Да, я тоже это почувствовал. Я говорю себе: ведь мы сейчас ужасно далеки от Ренессанса. Несмотря на то, что вокруг – сплошные Фра Анжелико, Тицианы, Боттичелли. Церковь Брунеллески, призраки Медичи. Это – другое время. Как радий. Говорят, он постепенно, по капле изменяется и через невообразимый промежуток времени превращается в свинец. Кажется, нет больше былого сияния над старой Фиренце. Оно стало свинцово-серым.
– Быть может, единственное место, где осталось сияние – это Вейссу.
Эван посмотрел на нее сверху вниз.
– Странная вы девушка, – сказал он. – Я чувствую, вы знаете об этом месте больше меня.
Она поджала губы.
– Знаете, что я чувствовала во время разговора с ним? Мне казалось, будто он когда-то рассказывал мне те же истории, что и вам в детстве, но будто я их забыла, и стоило мне увидеть его, услышать его голос, как все эти воспоминания, ничуть не угаснув, вновь нахлынули на меня.
Он улыбнулся:
– Мы – почти брат и сестра.
Виктория не ответила. Они свернули на Виа Порта Росса. По улицам ходили толпы туристов. На углу три бродячих музыканта – гитара, скрипка и казу наигрывали сентиментальные мелодии.
– А может, мы в лимбе, – произнес он. – Или в месте типа того, где мы встретились – в мертвой точке между чистилищем и адом. Странно, что во Флоренции нет улицы Виа дель Парадизо.
– Возможно, ее нет нигде в мире.
Казалось, они отбросили прочь – по крайней мере, в тот момент – все теории, планы и законы внешнего мира, даже неизбежное романтическое любопытство по поводу друг друга, чтобы просто и чисто увлечься молодостью, разделить чувство вселенской печали, скорбь, вызванную созерцанием Человеческого в себе – чувство, которое всеми в этом возрасте воспринимается как награда за выживание в отрочестве. Музыка казалась им сладкой и исполненной боли, а цепочки гуляющих туристов – Пляской Смерти. На них то и дело наталкивались лоточники и зеваки, но они, не обращая на это внимания, стояли на тротуаре и смотрели друг на друга, погрузившись в связывающее их ощущение молодости и глубину глаз, которые они созерцали.
Он первым нарушил молчание.
– Ты не сказала, как тебя зовут.
Они представились.
– Виктория, – повторил он. То, как он это произнес, заставило ее почувствовать подобие триумфа.
Он легонько опустил ладонь на ее руку.
– Пойдем, – сказал он, чувствуя себя защитником, почти отцом. – Я должен встретиться с ним у Шайссфогеля.
– Конечно, – ответила она. Они свернули налево и пошли от Арно в направлении Пьяцца Витторио Эммануэле.
"Фильи ди Макиавелли" использовали в качестве гарнизона бывший табачный склад в стороне от Виа Кавур. В настоящий момент там никого не было, кроме человека с аристократической внешностью по имени Боррако, который выполнял свою еженощную обязанность – проверял винтовки. Внезапно в дверь постучали.
– Digame, – откликнулся Боррако.
– Лев и Лиса, – последовал ответ. Боррако отодвинул засов, и его чуть не сбил с ног коренастый метис Тито, который зарабатывал себе на жизнь продажей непристойных фотографий Четвертому армейскому корпусу. На лице было написано крайнее возбуждение.
– Они выступают, – запинаясь, принялся объяснять он. – Сегодня, полбатальона, у них винтовки и штыки…
– Ради всего святого, что случилось?! – взревел Боррако. – Италия что, объявила войну? Que pasa?
– Консульство. Венесуэльское консульство. Его начали охранять. Они поджидают нас. "Сынов Макиавелли" предали.
– Успокойся, – сказал Боррако. – Возможно, настал, наконец, момент, обещанный нам Гаучо. Тогда мы должны дождаться его. Быстрее. Поднимай остальных. Пусть будут в состоянии готовности. Пошли кого-нибудь в город за Куэрнакаброном. Скорее всего, он – в пивном садике.
Тито отдал честь, повернулся, со всех ног бросился к двери и отпер ее. Вдруг его осенило.
– А что если, – сказал он, – а что, если Гаучо – и есть предатель? – Он открыл дверь. Там стоял разъяренный Гаучо. Тито изумленно открыл рот. Не сказав ни слова, Гаучо опустил сжатый кулак на голову метиса. Тито потерял равновесие и рухнул на пол.
– Идиот, – сказал Гаучо. – Что происходит? Все что, спятили?
Боррако рассказал об армии.
Гаучо потер руки.
– Брависсимо. Основная акция. И никаких известий из Каракаса. Не имеет значения. Выдвигаемся сегодня. Поднимай войска. Мы должны быть там к полуночи.
– Осталось не так уж много времени, коммендаторе.
– Мы будем там к полуночи. Vada.
– Si, коммендаторе. – Боррако отдал честь и ушел, осторожно переступив через Тито.
Гаучо сделал глубокий вдох, скрестил руки, потом развел их в стороны и скрестил снова.
– Итак! – крикнул он в пустое пространство склада. – Во Флоренции вновь наступает ночь льва!
X
Заведение Шайссфогеля «Биргартен унд Ратскеллер» было любимым ночным местечком не только для немцев, но и для других флорентийских туристов. Итальянские caffe (как считалось) хороши лишь днем, когда город в ленивой полудреме созерцает свои художественные сокровища. Но послезакатные часы требуют бурного, неистового веселья – чего не могли предложить спокойные и даже несколько замкнутые caffe. Англичане, американцы, голландцы, испанцы они все, казалось, стремятся найти нечто вроде Hofbrauhaus, дух которого напоминал бы о Граале, и держать кружки с мюнхенским пивом, словно кубки. У Шайссфогеля присутствовали все желательные элементы: белобрысые официантки с толстыми косами, кругами уложенными на затылке, способные за одну ходку принести восемь пенных кружек, павильон в саду с небольшим медным оркестром, аккордеонист внутри, тайны, выкрикиваемые через стол, много дыма и поющие компании.
Годольфин-старший и Рафаэль Мантисса сидели за маленьким столиком в углу сада. Их губы обвевал игривый прохладный ветерок с реки, а в ушах резвилось дыхание оркестра. Они чувствовали себя абсолютно одинокими, самыми одинокими людьми в этом городе.
– Разве я тебе не друг? – уговаривал синьор Мантисса. – Ты должен мне рассказать. Допустим, тебе и в самом деле приходилось скитаться где-то вне мирового сообщества. А мне разве не приходилось? Разве меня, вопящего, словно мандрагора, не вырывали с корнем и не пересаживали из одной страны в другую, где обязательно или почва оказывалась слишком сухой, или солнце слишком злым, или воздух слишком зараженным? Кому же, если не брату, поведать эту ужасную тайну?
– Может, сыну, – сказал Годольфин.
– У меня никогда не было сына. Но разве это не правда, что мы тратим время нашей жизни в поисках некой ценности, истины, которую можно было бы поведать сыну, передать ему вместе с любовью? Большинство из нас – не такие счастливчики, как ты: возможно, нам нужно оторваться от остальной части человечества, чтобы найти те слова, которые стоит передавать сыну. Но прошло уже столько лет, что ты можешь подождать еще пару минут. Он возьмет твой подарок и воспользуется им для себя, для своей жизни. Но я его не виню. Так всегда поступает младшее поколение, – именно так, по-простому. Будучи мальчиком, ты тоже, наверное, принял от отца какой-нибудь подарок, не осознавая, что для тебя он со временем станет столь же ценным, как ценен он был для отца. У англичан есть верное выражение – "передавать вниз" – от одного поколения к следующему. Сыновья ничего не передают назад, вверх. Возможно, это печально и вовсе не в христианском духе, но так было с незапамятных времен и будет всегда. Ты можешь, давая, получать что-то взамен только когда имеешь дело с человеком из своего поколения. Например, с Мантиссой – твоим покорным слугой.
Старик слегка улыбнулся и покачал головой.
– Это не так уж много, Раф, и я уже привык к этому. Быть может, ты тоже поймешь.
– Да, возможно. Всегда трудно понять ход мыслей английского путешественника. Антарктида, да? Что заставляет англичан отправляться в такие жуткие места?
Годольфин смотрел в пустоту.
– Я думаю, – нечто противоположное тому, что заставляет их кружить по всему земному шару в сумасшедшей пляске, именуемой "Туры Кука", дабы увидеть кожу того или иного места. Исследователь хочет увидеть его сердцевину. Здесь, наверное, есть что-то от любви. Мне никогда не доводилось проникать в сердцевину тех диких мест, Раф. Пока я не побывал в Вейссу. Лишь в прошлогодней южной экспедиции я увидел, что находится под ее кожей.
– И что же ты увидел? – наклонившись вперед, спросил синьор Мантисса.
– Ничего, – прошептал Годольфин, – я увидел Пустоту. – Синьор Мантисса протянул руку и положил ее на плечо старика. – Понимаешь, – Годольфин продолжал сидеть, сгорбившись и неподвижно, – Вейссу терзала меня пятнадцать лет. Я мечтал о ней, жил ею почти все это время. Она не покидала меня. Краски, музыка, ароматы. И куда бы меня ни посылали, за мной все время следовали воспоминания. А теперь за мной следуют шпики. Это дикое и сумасшедшее царство не может позволить себе отпустить меня.
Раф, ты будешь одержим этим дольше, чем я. Мне уже недолго осталось. Но ты не должен никому ничего говорить. Я даже не прошу у тебя обещания, я просто беру его. Я сделал то, чего пока никто не делал. Я был на Полюсе.
– Полюсе? Боже мой. Тогда почему же мы не…
– Не читали об этом в прессе? Потому что я сам того захотел. Если помнишь, меня нашли у последней базы полумертвым и занесенным снегом после бури. Все подумали, что я пытался дойти до Полюса, но у меня не вышло. А я был уже на обратном пути. Но я не стал возражать. Понимаешь? Я отказался от верного рыцарского звания, впервые за всю свою карьеру отверг славу, сделал то, что делает мой сын с самого своего рождения. У Эвана мятежный характер, и вести себя так не было для него внезапным решением. А ко мне такое решение пришло вдруг, окончательно и бесповоротно, – и все из-за того, что, как оказалось, поджидало меня на Полюсе.
Два карабинера вместе со своими девушками встали из-за стола, и обе пары, покачиваясь, вышли рука об руку из садика. Оркестр заиграл печальный вальс. Из зала выплывали звуки пирушки и доносились до Годольфина и Мантиссы. Ветер не стихал. Было безлунно. Листья на деревьях трепыхались, словно крошечные механизмы.
– Это была дурацкая выходка, – продолжал Годольфин. – Почти бунт. Человек в одиночку в самый разгар зимы пытается добраться до Полюса. Они сочли меня сумасшедшим. Возможно, в то время они были и правы. Но я чувствовал, что должен дойти до него. Тогда я думал, что там – в одной из двух неподвижных точек этого вращающегося мира – смогу обрести покой и разгадать загадку Вейссу. Понимаешь? Мне нужно было хотя бы минутку постоять в мертвом центре этой карусели и наконец сориентироваться. И конечно же ответ ждал меня. Вкопав флаг, я принялся рядом выдалбливать лунку, чтобы оставить запас провианта для будущих экспедиций. Меня окружала вопиющая бесплодность – страна, забытая демиургом. Нигде на земле не может быть более пустого и безжизненного места. Продолбив два или три фута, я добрался до чистого льда. И вдруг мое внимание приковал странный свет, который, казалось, движется там, в глубине. Я расчистил площадку пошире. Сквозь лед, прекрасно сохранившись и не утратив своей радужной окраски, на меня глазел труп одной из их паучьих обезьян. Она была совершенно реальна, – не то, что смутные намеки, которые они делали мне раньше. Я говорю сейчас: "Делали намеки", но думаю, они оставили ее там для меня. Зачем? Возможно, по какой-то чуждой, не вполне человеческой причине, которую мне не понять. Возможно, просто хотели посмотреть – что я буду делать. Насмешка, понимаешь? – насмешка жизни, спрятанная там, где нет ничего одушевленного, кроме Хью Годольфина. Но, конечно, с подтекстом… Обезьяна рассказала мне всю правду о них. Если Эдем был творением Бога, то одному Ему известно – какое зло породило Вейссу. Под кожей, которая, морщинясь, пролезала в мои кошмары, никогда ничего не было. Сама Вейссу – это цветастый сон. Мечта о том, к чему ближе всего Антарктида – мечта об аннигиляции.
У синьора Мантиссы был разочарованный вид.
– Ты уверен, Хью? Я слышал, что в полярных регионах люди в результате долгого воздействия внешних факторов видят вещи, которые…
– А какая разница? – сказал Годольфин. – Если даже это и было галлюцинацией, то дело ведь не в том, что я видел или что мне казалось, что я видел, – это, в итоге, неважно. Дело в том, что я понял. К какой истине пришел.
Синьор Мантисса беспомощно пожал плечами.
– А теперь? Твои преследователи?
– Думают, что я выдам. Знают, что я разгадал значение их намека, и боятся, что я всем расскажу. Но ради Христа, как же я могу это сделать? Разве я ошибаюсь, Раф? Ведь мир тогда сойдет с ума. По глазам вижу, что ты озадачен. Я знаю. Ты пока этго не понимаешь, но ты поймешь. Ты сильный. И все это повредит тебе не больше, – он рассмеялся, – чем повредило мне. – Он посмотрел через плечо синьора Мантиссы. – А вот и мой сын. И с ним – эта девушка.
Эван встал перед ними.
– Отец, – произнес он.
– Сынок. – Они пожали друг другу руки. Синьор Мантисса окликнул Чезаре и пододвинул Виктории стул.
– Извините, я покину вас на минутку. Мне нужно передать послание. Сеньору Куэрнакаброну.
– Это – друг Гаучо, – пояснил Чезаре, возникая на заднем плане.
– Ты видел Гаучо? – спросил синьор Мантисса.
– Полчаса назад.
– Где он?
– На Виа Кавур. Он придет сюда позже. Он сказал, что ему нужно встретиться с друзьями по другому делу.
– Ага! – Синьор Мантисса взглянул на часы. – У нас осталось мало времени. Чезаре, иди договорись на барже. А потом – на Понте Веккьо за деревьями. Кэбмен тебе поможет. Поторопись. – Чезаре легким шагом удалился. Синьор Мантисса перехватил официантку, и она поставила на их столик четыре пива. – За наше предприятие, – сказал он.
За третьим столиком сидел Моффит и, улыбаясь, наблюдал за ними.
XI
В жизни Гаучо никогда не случалось ничего более прекрасного, чем этот марш по Виа Кавур. Боррако, Тито и еще несколько друзей каким-то чудесным образом умудрились совершить набег на кавалерийский полк и смыться оттуда с сотней лошадей. Кражу обнаружили быстро, но «Фильи ди Макиавелли» с веселыми выкриками и песнями уже мчались галопом к центру города. Гаучо в красной рубахе, широко улыбаясь, ехал впереди. «Avanti, i miei fratelli, – пели они, – Figli di Machiavelli, avanti alla donna Liberta!» Их преследовали армейские войска – беспорядочные неистовые группы солдат, – половина из них бежала, половина ехала в повозках. По пути к центру ренегаты встретили сидящего в бричке Куэрнакаброна. Развернувшись, Гаучо набросился на него, сгреб его тело в охапку и затем вернулся к «Сыновьям».
– Товарищ! – громогласно обратился он к своему удивленному заместителю. – Ну разве не славный сегодня вечер?
Они добрались до консульства за несколько минут до полуночи и спешились, продолжая кричать и петь. Те из них, кто работал на Меркато Сентрале, запасли достаточно гнилых фруктов и овощей для мощного и продолжительного заградительного обстрела консульства. Прибыла армия. Съежившись от страха, Салазар и Ратон наблюдали за происходящим из окна второго этажа. Разгорелся кулачный бой. Ни одного выстрела пока не прозвучало. Площадь, будто от взрыва, вдруг превратилась в гигантскую беспорядочную карусель. Прохожие с криками бросились в первые попавшиеся укрытия.
Гаучо мельком заметил Чезаре и синьора Мантиссу, которые стояли возле Поста Сентрале с двумя багряниками, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу.
– Боже мой, – произнес он. – Два дерева? Куэрнакаброн, я должен отлучиться. Ты пока побудешь коммендаторе. Принимай обязанности. Куэрнакаброн отдал честь и нырнул в самую гущу схватки. Пробираясь к синьору Мантиссе, Гаучо увидел Эвана, его отца и девушку, ожидавших неподалеку.
– Buona sera еще раз, Гадрульфи, – поприветствовал он Эвана и помахал ему рукой. – Мантисса, мы готовы? – От одной из портупей, пересекавших его грудь, он отстегнул большую гранату. Синьор Мантисса с Чезаре взяли полое дерево.
– Присматривай за другим деревом, – крикнул синьор Мантисса Годольфину. – Никто не должен знать, что оно – здесь, пока мы не вернемся.
– Эван, – прошептала девушка, прижимаясь к нему. – Здесь будут стрелять?
Он услышал в ее голосе лишь страх, не заметив нетерпения.
– Не бойся. – Он обнял ее крепче, как настоящий защитник.
Переминаясь с ноги на ногу, старик смущенно глядел на них.
– Сынок, – наконец заговорил он, чувствуя себя дураком. – Я думаю, это – не самый подходящий момент для такого разговора. Но я должен уехать из Флоренции. Сегодня. И я бы… Мне бы хотелось, чтобы ты поехал со мной.
Он не смотрел на сына. Юноша печально улыбнулся, продолжая обнимать Викторию.
– Но папа, – сказал он, – ведь мне придется тогда расстаться со своей единственной любимой.
Виктория встала на цыпочки и поцеловала его в шею.
– Мы встретимся снова, – грустно прошептала она, продолжая играть свою роль.
Старик отвернулся от них, исполненный волнения, непонимания и чувства, что его вновь предали.
– Мне очень жаль, – произнес он.
Эван отпустил Викторию и подошел к Годольфину.
– Отец, – сказал он. – Это – просто манера нашего поколения, моя ошибка, шутка. Тривиальная шутка дурачка. Ты же знаешь, что я поеду с тобой.
– Моя ошибка, – вымолвил отец, – я бы даже осмелился сказать, мой недосмотр, – заключается в том, что я всегда отстаю от молодежи. Представь, даже нечто простое как, например, разговор, интонация…
Эван опустил ладонь на спину Годольфина. Некоторое время они стояли, не двигаясь.
– На барже, – сказал Эван. – Там мы сможем поговорить.
Старик наконец обернулся.
– Как только мы на нее проберемся.
– Обязательно, – сказал Эван, пытаясь улыбаться. – В конце концов, мы вместе после стольких лет, когда мы околачивались на противоположных концах мира.
Не ответив, старик спрятал лицо у Эвана на плече. Оба испытывали легкое смущение. Виктория взглянула на них и спокойно отвернулась, чтобы посмотреть на сражение. Зазвучали выстрелы. На мостовой стали появляться кровавые пятна. Пение "Сынов Макиавелли" перемежалось пронзительными воплями. Она увидела, как один из бунтовщиков в пестрой рубахе распростертый лежит на толстой ветке дерева, а два солдата снова и снова колют его штыками. Виктория стояла столь же спокойно, как на перекрестке, где она ждала Эвана: ее лицо не выражало никаких эмоций. Она казалась себе олицетворением принципа женственности, дополняющим всю эту безудержную, взрывную мужскую энергию. Сама неоскверненность, спокойно наблюдала она за спазмами раненых тел, за этим балаганом насильственной смерти, написанным и сыгранным, казалось, для нее одной на этой маленькой площади-сцене. Из волос на ее голове за происходящим наблюдали пятеро распятых, выражая не больше эмоций, чем она.
Волоча за собой дерево, синьор Мантисса и Чезаре шли, пошатываясь, через "Ritratti diversi". Гаучо прикрывал их с тыла. Ему уже пришлось пристрелить двух охранников.
– Поторапливайтесь, – приговаривал он. – Мы должны поскорее отсюда выйти. Они не позволят долго водить себя за нос.
Оказавшись в Зале Лоренцо Монако, Чезаре вынул из ножен острый, словно лезвие, кинжал и приготовился вырезать Боттичелли из рамы. Синьор Мантисса стоял и смотрел на нее – на асимметрично посаженные глаза, наклон хрупкой головки, ниспадающие потоком золотые волосы. Он не мог сдвинуться с места, он чувствовал себя утонченным распутником перед дамой, о которой мучительно мечтал долгие годы, и теперь, когда его мечта так близка к свершению, он сделался вдруг импотентом. Чезаре воткнул нож в холст и повел лезвие сверху вниз. Уличный свет отражался от лезвия и, сливаясь с мерцанием принесенного ими фонаря, танцевал на роскошной поверхности полотна. Синьор Мантисса наблюдал за его движением, и внутри у него медленно рождался ужас. В этот момент он вспомнил о паучьей обезьяне Хью Годольфина, сверкающей сквозь хрустальный лед на самом дне мира. Изображение на холсте казалось ожившим, наводненным цветом и движением. Впервые за многие годы синьор Мантисса подумал о той белокурой лионской швее. Вечерами она пила абсент, а днем терзалась из-за этого. Она говорила, Бог ненавидит ее. В то же время ей становилось все сложнее и сложнее верить в Него. Ей хотелось уехать в Париж, ведь у нее такой приятный голос. Она пошла бы на сцену. Мечтала об этом с детства. По утрам бессчетное число раз в часы, когда инерция страсти уносила их от настигавшего сна, она изливала перед ним свои планы, свое отчаяние, свои приходившие на ум крошечные любовные истории.
Каким бы типом любовницы оказалась Венера? Какие дальние миры, случайно появляющиеся в три часа ночи из городов сна, открылись бы перед ним, как перед завоевателем? А ее бог, ее голос, ее сны? Она – сама богиня. Никогда ему не услышать ее голоса. И вся она (а, возможно, и вся сфера ее власти?) не больше, чем…
Цветастый сон, мечта об аннигиляции. Быть может, Годольфин именно это и имел в виду? И при этом она, тем не менее, была единственной любовью Рафаэля Мантиссы.
– Aspetti, – крикнул он и схватил Чезаре за руку.
– Sei pazzo? – огрызнулся Чезаре.
– Сюда идут охранники, – объявил Гаучо, стоявший у входа в галерею. Их целая армия. Богом прошу, поторопитесь.
– Ты затеял все это, – протестовал Чезаре, – а теперь собираешься бросить ее?
– Да.
Гаучо настороженно вскинул голову. До него донеслось слабое стрекотание ружейных выстрелов. Сердитым движением он кинул в коридор гранату; приближающиеся охранники бросились врассыпную, и она с грохотом разорвалась в "Ritratti diversi". К этому моменту синьор Мантисса и Чезаре, оба с пустыми руками, стояли уже у него за спиной.
– Мы должны спасать шкуру, – сказал Гаучо. – Ты берешь свою даму?
– Нет, – с отвращением откликнулся Чезаре. – Даже это проклятое дерево осталось там.
Они бросились бегом по коридору, где стоял запах сгоревшего кордита. Синьор Мантисса заметил, что в "Ritratti diversi" все картины унесли на реставрацию. Граната не причинила почти никакого ущерба, если не считать обгоревших стен и нескольких убитых. Они бежали бешено, изо всех сил. Гаучо наугад стрелял в охранников, Чезаре размахивал ножом, а синьор Мантисса дико махал руками, словно крыльями. Каким-то чудом они добрались до выхода и полу-сбежали полу-скатились по ста двадцати шести ступенькам, ведущим на Пьяцца делла Синьориа. Там к ним присоединились Эван с отцом.
– Я должен вернуться на поле боя, – сказал Гаучо, задыхаясь. Некоторое время он молча наблюдал за резней. – Ну разве не похожи они на обезьян, особенно сейчас, когда дерутся из-за женщины? Даже если ее зовут Свобода. Он вытащил длинный пистолет и проверил его. – Бывают ночи, – задумчиво произнес он, – одинокие ночи, когда мне кажется, что мы – обезьяны в цирке, пародирующие повадки людей. Возможно, все это – пародия, и единственное, что мы можем донести до людей – это пародия на свободу, на достоинство. Но этого не может быть. Иначе вся моя жизнь…
Синьор Мантисса пожал ему руку.
– Спасибо, – сказал он.
Гаучо покачал головой.
– Per niente, – пробормотал он, потом резко повернулся и пошел к бунтовщикам на площадь. Синьор Мантисса посмотрел ему вслед.
– Пойдемте, – наконец сказал он.
Эван повернулся и посмотрел туда, где стояла очарованная Виктория. Казалось, он сейчас двинется к ней или позовет ее. Но он пожал плечами и пошел за остальными. Возможно, ему просто не хотелось ее беспокоить.
Моффит увидел их, когда в него угодила репа – на поверку, не такая уж и гнилая, – после чего он плашмя бросился на мостовую.
– Они уходят! – Он поднялся на ноги и двинулся за ними, локтями прокладывая себе дорогу через ряды заговорщиков и ожидая, что его вот-вот пристрелят. – Именем Королевы! – закричал он. – Остановитесь! – Кто-то резко изменил свой курс и метнулся к нему.
– Батюшки! – произнес тот. – Да это же Сидней.
– Наконец-то. А я тебя ищу, – сказал Сидней.
– У нас нет ни секунды. Они уходят.
– Забудь об этом деле.
– Туда, в переулок. Быстрее. – Он потянул Стенсила за рукав.
– Забудь об этом, Моффит. Спектакль окончен.
– Почему?
– Не спрашивай. Окончен и все.
– Но…
– Просто из Лондона пришло коммюнике. От Шефа. Он знает больше, чем я. Он все отменил. Откуда я знаю? Мне же никто никогда ни о чем не рассказывает.
– О Боже!
Они незаметно пробирались к дверям. Стенсил вытащил трубку и закурил. Пальба звучала крещендо, которое, казалось, никогда не закончится.
– Моффит! – через некоторое время произнес Стенсил, задумчиво затянувшись. – Если когда-нибудь случится заговор с целью убить министра иностранных дел, я молю Бога, чтобы меня не назначили этот заговор предотвращать. Конфликт интересов, понимаешь ли.








