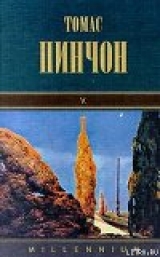
Текст книги "В"
Автор книги: Томас Рагглз Пинчон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 39 страниц)
– Почему ты ей все время позволяешь брать? – спросил он однажды. Только брать. – Это было в его мастерской во время одной из идиллий «Слэб-и-Рэйчел», неизменно предшествовавших романчику «Слэб-и-Эстер». Жулик Эдисон отключил электричество, и им пришлось смотреть друг на друга при газовой горелке, которая цвела желто-синим минаретом, превращая лица в маски, а глаза – в ничего не выражающую световую пелену.
– Слэб, милый, – ответила она, – просто крошка очень бедна. Почему бы ей не помочь, если я могу себе это позволить?
– Нет, – сказал Слэб. На его щеке пританцовывал тик. Или, может, так казалось при газовом свете. – Нет. Думаешь, я не вижу – в чем здесь дело? Ты нужна ей из-за денег, которые она продолжает из тебя выкачивать, а она нужна тебе, чтобы чувствовать себя матерью. Каждый грош, который она выуживает из твоей сумочки, становится очередной ниткой в тросе, связывающем вас, как пуповина. Этот трос разорвать все труднее и труднее, а вероятность того, что она выживет в случае, если трос все же порвется, становится все меньше. Сколько она вернула тебе?
– Она вернет, – сказала Рэйчел.
– Конечно. Теперь еще восемьсот долларов. Чтобы изменить вот это. – Он махнул в сторону маленького портрета, стоявшего у стенки возле мусорницы. Слэб потянулся, взял его и поднес поближе к пламени, чтобы им было лучше видно. "Девушка на вечеринке". Не исключено, что на картинку нужно было смотреть именно в пропановом освещении. Эстер глядела с картинки на невидимого зрителю человека. Этот ее взгляд: полужертва, полу-себе-на-уме.
– Посмотри на этот нос, – сказал он. – Зачем она хочет его изменить? С этим носом она хотя бы похожа на человека.
– В тебе говорит художник, – ответила Рэйчел. – Тебя интересует только фон картины – хоть в живописном, хоть в бытовом смысле. Но ведь есть что-то еще.
– Рэйчел! – он почти кричал. – Она получает полтинник в неделю. Двадцать пять уходит на аналитика, двенадцать – на квартиру. Остается тринадцать: на высокие каблучки, которые она ломает о решетки в метро, на помаду, шмотки, сережки. На еду, время от времени. А теперь – восемьсот за операцию. Что будет дальше? "Мерседес-Бенц 30 °CЛ"? Подлинник Пикассо? Аборт? Что?
– У нее начались вовремя, – холодно отрезала Рэйчел, – если тебя это волнует.
– Детка, – его голос вдруг стал задумчивым и мальчишеским, – ты хорошая женщина, представитель вымирающей расы. Ты должна помогать менее удачливому. Это правильно. Но всему есть предел.
Еще долго продолжали сыпаться обоюдные доводы, но спор проходил в ровном тоне, и в три часа ночи подошел к конечной точке – постели, где взаимные ласки сняли головную боль, возникшую за время разговора. Но дело не уладилось. Да оно и никогда не улаживалось. Это было еще в сентябре. А сейчас марлевый клюв уже снят, и нос гордым серпом смотрит на большой небесный Вестчестер, где рано или поздно оканчивают свой путь все избранники Божьи.
Она вышла из парка и зашагала от Гудзона по Сто двенадцатой улице. Те, кто доят, и те, кого доят. Возможно, на такой основе и зиждется весь этот остров – от дна самой глубокой канализационной канавы и, сквозь асфальт, до верхушки антенны на Эмпайр-стэйт-билдинг.
Рэйчел вошла в холл своего дома и улыбнулась древнему привратнику; потом – лифт, семь этажей вверх и, наконец, – дом, ура! ура! квартира 7G. Первым, что она увидела через открытую дверь, – был листок на кухонной стенке со словом ГУЛЯЕМ, украшенным карандашными карикатурами на членов Напрочь Больной Команды. Она бросила сумочку на стол и закрыла дверь. Работа Паолы, Паолы Майстраль – их третьей подруги по квартире. На столе лежала записка от нее. "Я с Винсомом, Харизмой и Фу. V-Бакс. Макклинтик Сфера. Паола Майстраль". Ничего, кроме имен собственных. Эта девушка живет исключительно именами собственными. Люди, места. Никаких предметов. Ей вообще рассказывали когда-нибудь о предметах? Рэйчел казалось, что сама она имеет дело лишь с предметами и больше ни с чем. Например, сейчас главным предметом был нос Эстер.
Под душем Рэйчел пела слащавую песенку голосом томной красотки, усиленным кафельными стенами. Она знала, что людей забавляет, когда эту песенку поет такая малышка.
Любой мужик – кобель, подруга.
Его любимый дом – бордель.
И он, чуть что, готов, подруга,
С другой девчонкою – в постель.
И даже если ты, подруга,
С ним и мила, и хороша,
Он все равно тебя унизит…
Не дам за это и гроша.
Ведь знаешь ты, моя подруга,
Я через это все прошла
И добрых мужиков, подруга,
Как ни старалась, не нашла.
Но если хочешь ты, подруга,
Мужчинку доброго найти,
То знай, любимая подруга,
Несчастье ждет тебя в пути…
Вскоре в комнате Паолы зажегся свет и стал просачиваться в воздух через окно и вентиляционную шахту, сопровождаемый звоном бутылок, шумом бегущей воды, спускаемого унитаза. И потом, еле различимо – звук расчески, проходящей по длинным волосам Рэйчел.
Когда Рэйчел выходила из квартиры, стрелки на светящихся часах у кровати Паолы Майстраль показывали почти шесть. Они не тикали, поскольку были электрическими. Минутная стрелка сначала не двигалась, но потом скачком оказалась на двенадцати и начала свой путь вниз – по другой половине циферблата, – как если бы она прошла сквозь зеркало и сейчас должна повторить в зеркальном времени то, что уже сделано ею во времени реальном.
II
Вечеринка, словно неодушевленный предмет отпущенной ходовой пружиной разворачивалась, стремясь охватить все пространство шоколадной комнаты, чтобы ослабить внутреннее напряжение и обрести равновесие. Почти в центре на сосновом полу, подогнув ноги, сидела Рэйчел Аулглас, и ее кожа сквозь черные чулки просвечивала бледным.
Казалось, она знает тысячу секретов, как, не прибегая к помощи пелены сигаретного дыма, добиться такого бездонного и чувственного взгляда. Нью-Йорк для нее был городом дыма, его улицы – закоулками лимба, его тела духами умерших. Дым, казалось, живет в ее голосе, в ее движениях, делает саму Рэйчел более материальной, видимой, – будто слова, жесты, капля кокетства могут лишь ненадолго взвиться и сразу же улечься, как дым в ее длинных волосах, и оставаться там, пока она не выпустит их – случайно и непреднамеренно – легким взмахом головы.
Всемирный искатель приключений Стенсил-младший восседал на кухонной раковине, покачивая лопатками, словно крыльями. Рэйчел сидела к нему спиной; через дверной проем кухни он видел оттененный рельеф ее позвоночника, скользящий на темном свитере черной змеей, мельчайшие движения ее головы и волос – Рэйчел поворачивалась к тому, кого она слушала.
Стенсил решил, что он ей не нравится.
– Он точно так же смотрит на Паолу, – сказала она Эстер. Эстер, конечно же, передала Стенсилу.
Но дело здесь было не в сексе. Причина крылась значительно глубже: Паола родилась на Мальте.
Стенсил появился на свет в 1901 году (когда умерла королева Виктория) как раз вовремя, чтобы называть себя ребенком века. Он рос без матери. Отец, Сидней Стенсил, служил в Министерстве иностранных дел своей страны компетентно и без лишних разговоров. О матери Стенсил ничего не знал. Умерла ли при родах, сбежала ли с кем-нибудь, покончила ли жизнь самоубийством; во всяком случае, ее исчезновение было связано для Сиднея с болью, достаточной для того, чтобы ни разу не упомянуть об этом в своих письмах к сыну. Отец умер в 1919 году на Мальте при неизвестных обстоятельствах во время расследования Июньских беспорядков.
В один из вечеров 1946 года Стенсил, отделенный от Средиземного моря балюстрадой, сидел в компании некой маркграфини ди Кьяве Левенштейн на террасе ее виллы на западном берегу Мальорки; солнце садилось в толстые тучи, превращая видимую часть моря в жемчужно-серую пелену. Возможно, они чувствовали себя последними богами, последними жителями планеты, покрытой водой, или может… Впрочем, делать выводы было бы нечестно. В любом случае эта сцена игралась следующим образом.
МАРКГ. Значит, вы должны уехать?
СТЕН. Стенсил должен быть в Люцерне уже на этой неделе.
МАРКГ. Терпеть не могу предвоенные мероприятия.
СТЕН. Это – не шпионаж.
МАРКГ. А что же это?
(Стенсил смеется и смотрит в сумерки).
МАРКГ. Вы так близки.
СТЕН. Кому? Маркграфиня, он не близок даже самому себе. Это место, этот остров. Всю жизнь он ничего не делал, а только скакал с острова на остров. Есть ли в этом смысл? Да и должен ли вообще быть смысл? Даже если он скажет вам, что не работает ни на какой Уайтхолл, кроме, разве что, – ха-ха – на сеть уайтхоллов в собственном мозгу – безликих коридоров, которые он все время подметает и поддерживает в приличном виде на случай визита агентов. Эмиссаров из зон распятой человечности, из вымышленных регионов любви. Но кто его для этого нанял? Во всяком случае, не он сам. Может, его хозяин безумие? Безумие пророка-самозванца…
(В этом месте наступила долгая пауза. Тускнеющий свет проливался через край тучи и падал на них – усталых и раздраженных).
СТЕН. Стенсил достиг совершеннолетия через три года после смерти отца. Среди имущества, перешедшего к нему, была пара рукописных книг в переплетах из телячьей кожи, покоробившихся от влажного воздуха многих европейских городов. Журналы и неофициальные дневники, где описывалась карьера агента. В тетради "Флоренция, апрель 1899 года" есть фраза, которую молодой Стенсил запомнил навсегда. "В. – в ней и за ней кроется больше, чем любой из нас мог подозревать. Не кто она, но что – что она из себя представляет. Упаси Господи, если меня когда-нибудь призовут дать ответ на этот вопрос – хоть на этих страницах, хоть в официальном рапорте".
МАРКГ. Женщина.
СТЕН. Снова женщина.
МАРКГ. Значит, это она – та, кого вы ищете? Преследуете?
СТЕН. Следующим вашим вопросом будет – не думает ли он, что она – его мать. Смешной вопрос.
В 1945 году Герберт Стенсил вполне сознательно окунулся в кампанию, лишившую его сна. Прежде он был ленив и воспринимал сон как одно из величайших благословений жизни. В промежутке между войнами он жил вольной пташкой, и тогдашний источник его доходов – впрочем, как и теперешний, неизвестен. Сидней оставил после себя не так уж много – в смысле фунтов и шиллингов, – но зато почти в каждом городе западного мира он приобрел хорошую репутацию среди представителей своего поколения. Это поколение свято верило в Семью, и поэтому молодой Герберт имел весьма неплохие шансы. Нельзя сказать, что он все время жил дармоедом: на юге Франции он работал крупье, в Восточной Африке – надзирателем на плантации, в Греции – управляющим борделя; кроме того, Стенсил занимал ряд гражданских постов в родной стране. Игра в стад-покер тоже годилась, чтобы залатать бреши в бюджете; впрочем, если по дороге пару раз и случалось залатать их с лихвой – такие ошибки он быстро заглаживал.
В период междуцарствия смерти Герберт кое-как сводил концы с концами и изучал дневники отца, выискивая в них ту часть наследства, которая касалась "кровных связей". К тому времени он еще не набрел на тот пассаж, где упоминалась В.
В 1939 году он жил в Лондоне и работал на Министерство иностранных дел. Он не заметил, как начался и как кончился сентябрь, но у него было такое чувство, будто некий незнакомец, живущий над границами сознания, трясет его за плечо. Он не испытывал особого желания просыпаться, хотя и понимал, что если он этого не сделает, то вскоре останется единственным спящим. Как достойный член общества Герберт пошел в добровольцы. Его послали в Северную Африку на должность, определенную весьма расплывчато: шпион-переводчик-связной, – где он вместе со своими коллегами совершал возвратно-поступательное движение из Тобрука в Эль-Ахейлу, потом обратно через Тобрук в Эль-Аламейн и снова в Тунис. Под конец Стенсил был по горло сыт трупами, и, когда воцарился мир, стал подумывать – не вернуться ли к предвоенным прогулкам лунатика. Он днями просиживал в одном оранском кафе среди бывших солдат американской армии, решивших повременить с возвращением на родину. Однажды он праздно листал флорентийский дневник, как вдруг слова о В. засветились для него особым светом.
– Может, В. – это от «виктори» – знак победы? – игриво предположила маркграфиня.
– Нет, – Стенсил покачал головой. – Просто Стенсилу, наверное, было одиноко, и он нуждался в компании.
По неведомой причине он обнаружил, что сон отнимает время, которое можно было бы провести активным способом. Его случайные довоенные прыжки уступили место единому великому движению от инертности к… Не к энергичности, нет, но, по крайней мере, к деятельности. Его работа – поиски В. – была далека от того, чтобы служить прославлению Господа и собственной божественности (с точки зрения пуритан), и казалась Стенсилу занятием мрачным и безрадостным – сознательным приятием неприятного по той единственной причине, что В. существует, и ее нужно искать.
А что будет, когда он ее найдет? Та любовь, которой обладал Стенсил, была полностью направлена внутрь – на обретенное чувство одушевленности, ставшее для Стенсила слишком дорогим. И, чтобы продлить его в себе, ему приходилось преследовать В.; но если ему суждено найти ее, то ничего больше не останется – лишь вновь погрузиться в полубессознательное состояние. Поэтому он пытался выкинуть из головы всякую мысль об окончании поисков. Приближаться – и вновь выпускать из виду.
Здесь, в Нью-Йорке, тупик, в который зашел Стенсил, стал казаться еще более безвыходным. На вечеринку он попал по приглашению Эстер Гарвиц, чей пластический хирург – Шунмэйкер – владел жизненно важной частью загадки В., заявляя при этом о своем полном неведении.
Стенсил собрался ждать. Он поселился в недорогой квартире в районе Тридцатых улиц (Истсайд), временно освобожденной неким египтологом по имени Бонго-Шафтсбери – сыном другого египтолога, с которым был знаком Сидней. Когда-то давно, до Первой мировой, отцы враждовали, – у Стенсила-старшего такие отношения были со многими из теперешних «связей» сына, но, как ни парадоксально, этот факт, к счастью Герберта, удваивал его шансы на получение прожиточных средств. В последний месяц он использовал свою квартиру лишь как piede-a-terre, кое-как урывая время для сна между обязательными визитами к тем, кто относился к "связям", – причем их число включало в себя сыновей и друзей оригиналов и поэтому постоянно росло. С каждой ступенью важность его родства ослабевала. Еще немного, и наступит день, когда Стенсила станут терпеть просто из вежливости. Тогда они с В. окажутся в полном одиночестве – в мире, который потерял их обоих из виду.
А до тех пор можно было ждать Шунмэйкера, заполняя время королем амуниции Чиклицем и лекарем Айгенвэлью (определения их профессий, как и все остальное, восходили ко временам Сиднея, хотя сам Сидней и не был знаком с этими людьми лично). Тот период отличался вялостью, от которой бросало в дрожь, и Стенсил прекрасно это сознавал. Месяц – слишком долгий срок для того, чтобы жить в одном городе, – если только в нем не находится ощутимый объект для изучения. Стенсил даже принялся за долгие прогулки по городу в надежде на стечение обстоятельств. Но ничего не происходило. Он ухватился за приглашение Эстер, надеясь напасть на след, найти ключ или хотя бы намек. Но Больная Команда ничего не могла ему предложить.
Хозяин квартиры был достаточно характерным выразителем настроений, доминирующих в Команде. Он представлял собой ужасное для Стенсила зрелище: Стенсил увидел в нем себя в довоенное время.
Универсал Фергюс Миксолидян – армяно-ирландский еврей – утверждал, что он – самое ленивое существо в Нуэва-Йорке. Диапазон его творческих начинаний – ни одно из них так и не было завершено – простирался от вестерна, написанного белым стихом, до перегородки, которую он вытащил из кабинки туалета на вокзале Пенн-стэйшн и принес на выставку в качестве того, что в старину дадаисты называли «реди-мэйд». Критики откликнулись не очень добрыми комментариями. Фергюс настолько обленился, что единственным его занятием (за отсутствием надобности зарабатывать на жизнь) стала еженедельная возня у кухонной раковины с сухими электроэлементами, ретортами, перегонными кубами и растворами солей. Он добывал водород, и заполнял им плотный зеленый шарик с нарисованной на нем большой буквой Z. Если он собирался спать, то привязывал шарик к спинке кровати, и это было единственным способом для посетителей понять – на какой из сторон сознания он находится.
Еще он любил смотреть телевизор. Он придумал гениальное изобретение выключатель, воспринимающий сигналы от двух электродов, которые крепились на внутренней стороне запястья. Когда Фергюс проваливался до определенного уровня бессознательности, сопротивление кожи начинало повышаться, и как только доходило до некоторого значения, срабатывал выключатель. Таким образом, Фергюс становился как бы продолжением телевизора.
Остальные члены Команды пребывали в такой же летаргии. Рауль писал для телевидения, бережно храня в памяти имена всех спонсоров-фетишей этой индустрии, на которых он горько жаловался. Слэб под влиянием спонтанных порывов рисовал картины. Он называл себя кататоническим экспрессионистом, а свои работы – "пределом некоммуникабельности". Мелвин играл на гитаре и пел вольный фолк. Стиль привычный – богема, творчество, искусство, – только он еще дальше отошел от действительности, этакий до крайности декадентский романтизм, не более, чем обессиленное воплощение бедности, бунта и артистической души. Ибо к несчастью, большинство из них работали только на прокорм, а темы для разговоров черпали со страниц «Тайм» и других подобных изданий.
Возможно, они выжили, – размышлял Стенсил, – единственно потому, что не одиноки. Бог ведает, сколько их еще на свете – людей с тепличным чувством времени, не знающих жизни и уповающих на милость Фортуны.
Вечеринка в тот раз распалась на три части. Фергюс со своей дамой и другая пара, прихватив с собой галлон вина, уединились в спальне, заперли дверь и предоставили Команде полную свободу на пути к хаосу, но только на остальной территории. Раковину, на которой сейчас сидит Стенсил, займет Мелвин. Он заиграет на гитаре, и все будут до полуночи отплясывать на кухне хору и африканские танцы плодородия. Огни в гостиной погаснут один за другим, и с проигрывателя зазвучат квартеты Шенберга (полное собрание), потом о них все забудут, и они автоматически включатся еще раз, и еще. И горящие угольки сигарет усеют комнату, как сигнальные костры, и Рауль – а может, Слэб – будет ласкать на полу не очень разборчивую в связях Дебби Сенсэй (например), в то время, как ее рука поползет по ноге другого, который сидит на кровати с ее подружкой, – и так далее – праздник любви, или секс «венком». Вино окажется разлитым, мебель – поломанной. На следующее утро Фергюс ненадолго проснется, окинет взглядом царящий разгром и остаток рассеянных по квартире гостей, обматерит их всех и вернется ко сну.
Стенсил раздраженно пожал плечами, встал с раковины и взял пальто. На выходе он натолкнулся на шестерых: Рауль, Слэб, Мелвин и с ними три девицы.
– Батюшки, – сказал Рауль.
– Ну и сцена, – добавил Слэб, указывая взмахом руки на раскрутившуюся вечеринку.
– Пока, – сказал Стенсил и вышел.
Девушки молчали. Они были из тех, что раньше следовали за лагерями и зачислялись в расходуемые – или, по крайней мере, заменимые – предметы снабжения.
– Да-а, – сказал Мелвин.
– Спальные кварталы Нью-Йорка, – заметил Слэб, – скоро охватят весь мир.
Одна из девушек рассмеялась.
– Заткнись, – сказал Слэб, поправляя шляпу. Он всегда носил шляпу – и дома, и на улице, и лежа в кровати, и будучи мертвецки пьяным. Еще он носил костюмы в духе Джорджа Рафта – пиджаки с огромными острыми лацканами, острые накрахмаленные несъемные воротнички, острые подбитые плечи. Он весь состоял из острых углов. Кроме лица, – заметила девушка. – Его черты были довольно мягкие, как у беспутного ангела: вьющиеся волосы, лилово-красные круги, образующие под глазами двойные и тройные петли. Сегодня ночью она будет целовать их один за другим – эти печальные круги.
– Извини, – пробормотала она и отошла к пожарному выходу. У окна она задержалась и выглянула на реку, но ничего, кроме тумана, не увидела. Ее спины коснулась рука – точно в том месте, которое рано или поздно находили все знакомые ей мужчины. Она выпрямилась, свела лопатки вместе, и ее высокая грудь обрисовалась на фоне окна. Ей было видно, как его отражение смотрит на их отражение. Она повернулась. Его щеки пылали. Короткая стрижка, костюм, харрисовский твид.
– Ты новенький, – улыбнулась она. – Я – Эстер.
Он снова вспыхнул, но тут же нашелся:
– А я – Канцелярская Кнопка. Извини, что заставил тебя подпрыгнуть.
Она инстинктивно знала: к моменту окончания одного из университетов "Айви Лиг" он будет прекрасным активистом и, кто знает, возможно, так и останется активистом до конца своих дней. Но все равно ему чего-то не хватает, и поэтому он висит, уцепившись за край Больной Команды. Если он займется административной деятельностью, то будет пописывать. А если станет инженером или архитектором, то будет рисовать или лепить. Его ноги навсегда останутся по разные стороны линии; со временем он поймет, что в обоих мирах он – худший, и начнет задавать себе вопрос: почему, черт побери, вообще должна существовать какая-то линия, да и существует ли она? Но он научится быть раздвоенным и так и будет стоять, расставив ноги, пока не погибнет от разрыва промежности в результате столь долгого напряжения. Она встала в четвертую балетную позицию, развернула свой бюст под углом 45 градусов к его линии зрения и, нацелив нос ему в сердце, сверху вниз посмотрела на него сквозь огромные ресницы.
– Ты давно в Нью-Йорке?
Несколько бродяг, прижавшись к запотевшим от их дыхания стеклам, заглядывали в кафе «V-Бакс». Время от времени из вращающихся дверей появлялся какой-нибудь смахивающий на студента тип – как правило, с дамой, и пока он шел по этому участку Бауэри, бродяги по очереди просили его дать закурить, денег на метро или на банку пива. Февральский ветер весь вечер летел через скважину Третьей авеню и нес на них стружку, отработанное масло и всю жирную грязь из-под нью-йоркского станка.
Внутри, покачивая задницей, свинговал Макклинтик Сфера. У него была очень жесткая, словно приклеенная к черепу кожа. Каждая жилка и каждый волосок резко и отчетливо выделялись на фоне зеленочных пятен подсветки; у уголков нижней губы были заметны две морщины-близняшки, выдавленные на коже силой мундштука, – они шли вниз и казались продолжением усов.
Он дул в отделанный слоновой костью альт-саксофон с тростью на четыре с половиной. Подобного саунда никто раньше не слышал. Зрители разделились на обычные группы: студенты колледжей не врубались и уходили с середины второй темы; музыканты из других оркестров – у них был или выходной, или перерыв, достаточно длинный, чтобы ехать сюда через весь город – усердно вслушивались, – "Пытаюсь въехать", – ответил бы любой из них; по виду людей у стойки было ясно: они прекрасно догоняют – то есть понимают, одобряют и сопереживают, – впрочем, быть может, только потому, что у предпочитающих сидеть у стойки вид, как правило, весьма непроницаемый.
В задней части бара есть столик, на который посетители ставят пустые бутылки и стаканы, но если его успевают занять, никто обычно не возражает, а официанты всегда слишком заняты, чтобы набрасываться с криками. Сейчас за ним сидели Винсом, Харизма и Фу. Паола вышла в уборную. Они молчали.
У группы на сцене не было рояля. Только – бас, ударник, Макклинтик и играющий на горне паренек, которого он откопал среди Озаркских гор. Ударник был приглашенным, и старался избегать всякой пиротехники, раздражающей массовку из колледжей. Маленький контрабасист с желтыми злыми глазками, проткнутыми в центре булавочными иголками зрачков разговаривал со своим инструментом. Инструмент был гораздо выше хозяина и, казалось, не слушался его.
Горн и альт предпочитали сексты и минорные кварты, и когда они попадали в эти интервалы, звук начинал напоминать поножовщину или перетягивание каната: звучание было консонантным, но казалось, что в мелодии встретились две перекрестные цели. Совсем другими были соло-партии Макклинтика. Вокруг стояли люди, большинство из которых пишут обзоры для журнала «Даунбит» или аннотации к пластинкам. Они, похоже, понимали, что он играет, с полным пренебрежением гармоническими прогрессиями. Они много говорили о музыке соул, об антиинтеллектуальном в искусстве и о зарождении ритмов африканского национализма. Это – новая концепция, – говорили они. А некоторые даже произнесли: "Птица жив".
С тех пор, как год назад душа Чарли Паркера растаяла в злом мартовском ветре, о нем было сказано и написано огромное количество всякой ерунды. И еще долго будет говориться. Чарли – величайший альт послевоенной сцены, и когда он ушел с нее, некая странная негативная воля – нежелание, отказ верить в холодный факт финала – заставила фанатов вычерчивать на каждой станции метро, на тротуарах, у писсуаров отрицание: Птица жив. Поэтому среди людей, собравшихся этим вечером в «V-Бакс», было, по самым умеренным подсчетам, около десяти процентов мечтателей, которые не вняли Вести и видели в Макклинтике Сфера своего рода перерождение.
– Он играет ноты, которых не хватало Птице, – прошептал стоящий перед Фу. Фу проделал ряд беззвучных движений, изображая, как разбивает о край стола пустую бутылку, втыкает ее в спину говорящего и там поворачивает.
Время близилось к закрытию, вот – последняя тема.
– Скоро нужно уходить, – сказал Харизма. – Где Паола?
– Вот она, – ответил Винсом.
На улице ветер исполнял свою вечную тему. Он дул и дул. Не останавливаясь.








