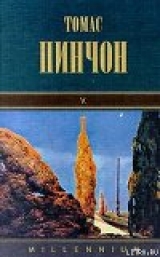
Текст книги "В"
Автор книги: Томас Рагглз Пинчон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 39 страниц)
Похоже, я никогда не остановлюсь.
– Она хочет тебя, – сказал Влажный. Девушка в окошке «Справочное» нахмурилась. Рябая кожа, широкая кость – деревенская девчонка, в чьих глазах отражается мечта о скалящихся радиаторах «Бьюиков» и танцах по пятничным вечерам в каком-нибудь мотеле.
– Я хочу тебя, – сказала Рэйчел. Он потерся подбородком о трубку, скрежеща трехдневной щетиной. Он подумал о том, что на протяжении всех пятисот миль на север под землей вдоль кабеля сидят черви и слепой народец троллей. Сидят и слушают. Тролли знают много всяких волшебных штучек. Интересно, могут они изменять слова или имитировать голоса?
– Ну что, едешь? – сказала она. Было слышно, как сзади нее кто-то блюет, а зрители истерически смеются. Джазовая пластинка.
Он хотел ответить: "Боже, ведь мы оба как раз этого и хотим". Но вместо этого спросил:
– Как у вас там гуляется?
– Мы у Рауля, – сказала она. Рауль, Слэб и Мелвин были частью единой компании недовольных, которую окрестили "Напрочь больной командой". Половину жизни они торчали в баре "Ржавая ложка" в нижнем Вестсайде. Профейн вспомнил "Могилу моряка" и не увидел никакой разницы.
– Бенни, – до этого она никогда не плакала, насколько он мог припомнить. Это его обеспокоило. Но, может, она притворяется. – Чао! – сказала она. Этот фальшивый гринвич-виллиджский способ не говорить «прощай». Он повесил трубку.
– Там неслабый мордобой, – сказал бухой и мрачный Железа. – Старина Шныра так нажрался, что укусил за задницу одного моряка.
Если посмотреть со стороны на планету, качающуюся на пути по орбите, расщепить солнце зеркалом и представить себе нитку, то получится нечто похожее на йо-йо. Точка, наиболее удаленная от солнца, называется афелием. Точка, наиболее удаленная от руки называется, по аналогии, апокером.
Профейн и Паола уехали в Нью-Йорк в ту же ночь. Влажная Железа вернулся на корабль, и Профейн больше никогда его не видел. Свин умчался на своем «Харлее» в неизвестном направлении. Кроме них на «Грейхаунде» ехали: молодая пара, которая, усни все пассажиры, занялась бы любовью прямо на заднем сидении; торговец карандашными точилками, повидавший все уголки Америки и готовый дать интересную информацию о любом городе – неважно каком, лишь бы вы сейчас туда направлялись; и четыре младенца со своими неумелыми мамашами, занявшие стратегические дислокации по всему салону, – они лепетали, ворковали, рыгали, практиковали самоасфиксию, пускали слюни. На протяжении всей двадцатичасовой поездки не было ни минуты, когда хоть один из них не вопил.
Когда они проезжали через Мэриленд, Профейн решился.
– Не думай, что я пытаюсь от тебя избавиться, – он протянул ей конверт из-под билетов с написанным на нем адресом Рэйчел. – Я просто не знаю – сколько пробуду в городе. – Он и в самом деле не знал.
Она кивнула.
– Значит, ты любишь ее.
– Она – славная женщина. Найдет тебе работу и место, где можно вписаться. Не спрашивай меня, любим ли мы друг друга. Это слово ничего не значит. Вот адрес. Сядешь на Вестсайдскую электричку, и ты – прямо там.
– Чего ты боишься?
– Спи. – И она заснула у него на плече.
На остановке "Тридцать четвертая улица", уже в Нью-Йорке, он помахал ей рукой.
– Я, может, тоже там появлюсь. Хотя надеюсь, что нет. Это очень сложно.
– Можно мне рассказать ей…
– Она и так узнает. В этом-то вся и беда. На свете не бывает ничего такого, о чем ты или я смогли бы ей рассказать – она знает все.
– Позвони мне, Бен. Пожалуйста. Может быть.
– Хорошо, – ответил он. – Может быть.
V
Итак, в январе 1956 года Бенни Профейн вновь оказался в Нью-Йорке. С его приездом окончилась оттепель. Первым делом он нашел койку в городской ночлежке «Наш дом» и газету в одном из окраинных киосков, а потом, уже поздно вечером, бродил по улицам и в свете фонарей изучал объявления о найме. Как обычно, он никому особенно не требовался.
Случись рядом кто-то из старых знакомых, он заметил бы, что Профейн ничуть не изменился. Все тот же большой амебоподобный мальчик, мягкий и толстый; коротко подстриженные, клочковатые волосы; маленькие, как у свиньи, глазки, расставленные слишком широко. Дорожные работы не улучшили ни его внешний облик, ни внутренний. Хотя большая половина его жизни была связана с улицей, они так и остались чужими во всех отношениях. Улицы (дороги, кольца, скверы, площади, проспекты) не научили его ничему: он не умел работать ни с теодолитом, ни на кране, ни на подъемнике, не умел класть кирпичи, правильно натягивать рулетку, прямо держать шест, не научился даже водить машину. Он просто шел. Причем, шел, как иногда ему думалось, по проходам залитого светом гигантского супермаркета, в котором его единственная функцией было – желать.
Однажды утром Профейн проснулся рано, и после неудачной попытки снова заснуть ему взбрендило провести этот день, как йо-йо – кататься в метро под Сорок второй улицей от Таймс-сквер до Гранд Сентрал и обратно. Он пробрался в умывалку "Нашего дома", дважды споткнувшись по дороге о свободные матрасы. Во время бритья порезался, а вынимая заевшее лезвие, полоснул себя по пальцу. Чтобы смыть кровь, он решил принять душ, но рукоятки у кранов не хотели поворачиваться. Когда он, наконец, нашел работающий душ, то оказалось, что подача холодной и горячей воды в нем чередуется случайным образом. То завывая от боли, то дрожа от холода, он танцевал вокруг душа и, поскользнувшись на куске мыла, чуть не сломал себе шею. Вытираясь, разорвал пополам протершееся полотенце, сделав его совершенно непригодным. Майку надел задом наперед. Следующие десять минут были заняты застегиванием молнии, а потом еще пятнадцать ушли на ремонт шнурка, который порвался, когда Профейн завязывал ботинок. Вместо утренних песен он ругался матом. Дело не в том, что он устал или страдал нарушением координации. Просто, будучи злосчастным, он давно знал одну вещь: неодушевленные предметы не могут жить с ним в мире.
Профейн сел в метро на Лексингтон-авеню и поехал до Гранд Сентрал. В вагоне оказалось полно самых разнообразных, обалденно восхитительных красавиц – от секретарш, едущих на работу, до школьниц-малолеток. Это было уже слишком. Обессилев, он повис на поручне. Началось какое-то наваждение – его преследовали огромные, необычные волны возбуждения, тут же делающие недоступно-желанной любую женщину определенной возрастной группы с подходящей фигурой. Наконец, Профейн освободился от чар, но зрачки еще некоторое время вращались, и он продолжал жалеть о том, что шея не может поворачиваться на 360 градусов.
После часа пик поезд пустеет, как замусоренный пляж в конце сезона. Между девятью и полуднем сюда раболепно возвращаются неизменные постояльцы – скромные и нерешительные. После восхода все бурное и изобильное вливается в мир и наполняет его ощущением весны и жизни. А сейчас старушки-пенсионерки и спящие бродяги, до этого момента незаметные, восстанавливают подобие права на собственность, – и начинается осень. На одиннадцатом или двенадцатом рейсе Профейн заснул. Был почти полдень, когда его разбудили три пуэрториканца – Толито, Хосе и Кук (сокращение от Кукарачито). Они зарабатывали здесь деньги, хотя прекрасно знали, что по утрам в будни метро no es bueno для танцев и игры на бонгах. Хосе держал кофейную банку: перевернутая вверх ногами, она служила погремушкой для отбивания ритма неистовых меренг и румб, а в нормальном положении принимала от благодарной аудитории мелочь, жетоны для проезда, жвачку и плевки.
Профейн спросонья щурился и наблюдал, как они бесились, кувыркались и иногда в шутку принимались за кем-нибудь ухлестывать. Они цеплялись за поручни и висели, раскачиваясь и заставляя стойки вибрировать; Толито ходил по вагону и изображал игру с бинбэгом, подкидывая семилетнего Кука, а на заднем плане Хосе отчаянно молотил по своему жестяному барабану, создавая вместе со стуком поезда рваную полиритмию, а локти и кисти его рук двигались с частотой, выводящей их за пределы различимости. Его зубы были обрамлены широкой, как Вестсайд, улыбкой.
Когда поезд вползал на «Таймс-сквер», они пошли по вагону с банкой. Заметив их приближение, Профейн закрыл глаза. Они уселись напротив и, болтая ногами, занялись подсчетом выручки. Кук сидел посередине, и остальные двое пытались столкнуть его на пол. В вагон вошли два подростка из их квартала – черные чино, черные рубахи, черные гангстерские куртки – на спинах красными буквами с подтеками выведено ПЛЭЙБОИ. Троица на противоположной лавке тут же замерла. Они сидели, выпучив глаза и вцепившись друг в друга.
Младенец Кук, как всегда, не сдержался.
– Maricon! – весело завопил он. Профейн открыл глаза. Старшие ребята, отстукивая набойками стаккато, прошли мимо и скрылись в соседнем вагоне. Толито положил руку на голову Кука, пытаясь вдавить его в пол, чтобы никогда больше не видеть. Куку удалось выскользнуть. Двери закрылись, и вагон снова двинулся к Гранд Сентрал. Внимание троицы обратилось на Профейна.
– Эй, мужик! – сказал Кук. Профейн с опаской посмотрел на него.
– Почему? – сказал Хосе. Он рассеянно надел банку на голову, и она съехала на уши. – Почему ты не вышел на «Таймс-сквер»?
– Проспал, – сказал Толито.
– Он йо-йо, – продолжал Хосе. – Вот увидите. – На некоторое время они забыли о Профейне и пошли по вагонам выполнять свою работу. Они вернулись, когда поезд снова отъезжал от Гранд Сентрал.
– Смотрите, – сказал Хосе.
– Эй, мужик, – сказал Кук, – опять ты?
– Он – безработный, – сказал Толито.
– Почему ты тогда не охотишься на аллигаторов, как мой брат? – спросил Кук.
– Брат Кука убивает их из винтовки, – пояснил Толито.
– Если тебе нужна работа, иди охотиться на аллигаторов, – сказал Хосе.
Профейн почесал пузо и посмотрел на пол.
– А это постоянная работа? – поинтересовался он.
Поезд въехал на «Таймс-сквер», выбросил из себя пассажиров, взял новую порцию, закрыл двери и с визгом умчался в тоннель. На соседний путь прибыл следующий. В коричневом свете кружились тела, громкоговоритель объявлял маршруты прибывающих составов. Наступил обеденный час. Станция стала наполняться гулом и людским движением. В это время сюда толпами возвращаются пассажиры. Прибыл, открылся, закрылся и уехал очередной поезд. Сутолока на деревянной платформе усиливалась, нагнетая атмосферу дискомфорта, гнева, терпения, готового вот-вот лопнуть, и удушья. Вернулся первый состав.
В толпе, толкавшейся в это время на станции, была девушка с длинными распущенными волосами и в черном плаще. Она осмотрела четыре вагона и в пятом, наконец, нашла Кука, который сидел рядом с Профейном и разглядывал его.
– Он хочет помогать Анхелю убивать аллигаторов, – сказал Кук девушке. Профейн лежал на сидении наискось и спал.
Во сне он, как всегда, был один – гулял по улице, на которой нет ничего и никого, – лишь ожившее поле зрения. Была ночь. На гидрантах ровно светились огоньки, на асфальте виднелись крышки люков. Вокруг – неоновые вывески, – когда он проснется, то не сможет вспомнить слов, что горели на них.
Его сон был связан с историей, которую ему довелось услышать – о мальчике, родившемся с золотым винтиком вместо пупка. Чтобы избавиться от винтика, мальчик целых двадцать лет ездил по всему свету и консультировался с докторами и специалистами. Наконец, на Гаити он встретил шамана вуду, который дал ему дозу зловонного напитка. Выпив его, мальчик заснул и увидел сон: он идет по улице, залитой зеленым светом. Следуя наставлениям шамана, он дважды повернул направо, один раз – налево, и возле седьмого фонаря увидел дерево, увешанное разноцветными воздушными шариками. На четвертой от верхушки ветке висел красный. Мальчик хлопнул его и обнаружил внутри отвертку с желтой пластиковой ручкой. Этой отверткой он отвернул винтик и тут же проснулся. Было утро. Он посмотрел на свой пупок и увидел, что винтик исчез. Двадцатилетнее проклятие наконец снято. Вне себя от радости он вскакивает с постели, и его задница падает на пол.
Когда Профейн вот так брел один по улице, ему казалось, будто он тоже ищет некую вещь, с помощью которой его, как машину, можно будет разобрать. На этом месте у Профейна всегда возникал страх, а сон превращался в кошмар: теперь, если он будет идти дальше, то не только задница, но и руки, ноги, губчатый мозг, часовой механизм сердца – все будет разбросано по мостовой среди канализационных люков.
Но была ли домом эта улица, залитая ртутным светом? Может, он возвращался туда подобно слону, идущему на свое кладбище, чтобы лечь и превратиться в слоновую кость, в которой спят зародыши утонченных шахматных фигур, спиночесалок и полых ажурных китайских сфер – каждая следующая гнездится внутри предыдущей?
Ему никогда и ничего больше не снилось – только Улица. Вскоре он проснулся, так и не найдя ни отвертки, ни ключа, и увидел прямо над собой лицо девушки. На заднем плане стоял Кук, опустив голову и широко расставив ноги. Из третьего от них вагона, сквозь грохот поезда, доносилась металлическая дробь кофейной банки Толито.
Ее лицо с родинкой на щеке было молодым и нежным. Она заговорила с ним до того, как он открыл глаза. Она хочет, чтобы он поехал к ней. Зовут ее Хосефина Мендоса, она – сестра Кука и живет далеко от центра. Она должна помочь ему. Профейн никак не мог понять – что происходит?
– Что? – спросил он. – О чем вы говорите, леди?
– Тебе что, здесь нравится? – воскликнула она.
– Нет, леди, нет, конечно не нравится, – ответил Профейн. Набитый битком поезд направился к «Таймс-сквер». Две пожилые дамы, возвращавшиеся из «Блумингдэйла» с покупками, бросали на них сверху враждебные взгляды. Фина заплакала. Вернулись остальные ребята, пробиваясь сквозь толпу и напевая.
– Помогите, – сказал Профейн. Он сам не знал – к кому обращается. Он проснулся, любя и желая всех женщин в этом городе, и вот перед ним – одна из них, да еще хочет взять его к себе. Поезд въехал на «Таймс-сквер», и двери раскрылись. Во внезапно возникшей сутолоке, плохо понимая, что делает, Профейн схватил подмышку Кука и выбежал из поезда, а Фина, из-под распахнутого плаща которой выглядывали тропические птицы на зеленом платье, последовала за ними, взяв за руки Толито и Хосе. Они бежали через станцию под цепью зеленых ламп. Неспортивно подпрыгивая на бегу, Профейн натыкался на урны и автоматы с кока-колой. Кук высвободился у него из рук и побежал, прорываясь, как бейсболист, через полуденную толпу.
– Луис Апарисио! – кричал он, продвигаясь прыжками к «дому», видимому только для него. – Луис Апарисио! – и отряд девочек-скаутов был разбит наголову. Внизу ждал нужный поезд. Фина и ребята успели войти, а на Профейне дверь захлопнулась, зажав его посередине. У Фины и ее брата от испуга выпучились глаза. Вскрикнув, она потянула Профейна за руку, и свершилось чудо – двери вновь открылись. Она втащила его внутрь, в свое скрытое силовое поле. И он сразу понял: здесь, в настоящий момент, злосчастный Профейн может двигаться ловко и уверенно. Всю дорогу домой Кук пел Tienes Mi Corazоn – лирическую песенку, однажды слышанную им в кино.
Они жили в районе Восьмидесятых улиц между Амстердам-авеню и Бродвеем – Фина, Кук, мать, отец и еще один брат по имени Анхель. Иногда друг Анхеля Джеронимо ночевал у них, и его укладывали в кухне на полу. Старик получал пособие.
Мать сразу же влюбилась в Профейна и позволила ему переночевать в ванне, где Кук и обнаружил его на следующее утро. Кук включил холодную воду.
– Господи Иисусе! – взвыл Профейн заплетающимся спросонья языком.
– Слушай, тебе нужно искать работу, – сказал Кук. – Так говорит Фина.
Профейн выскочил из ванной и побежал по всей квартире за Куком, оставляя мокрые следы. В гостиной он загремел, споткнувшись об Анхеля и Джеронимо, которые, лежа на полу, пили вино и разговаривали о том, как они пойдут сегодня в Риверсайд-парк и каких девочек они там увидят. Кук убежал, смеясь и выкрикивая "Луис Апарисио!", а Профейн продолжал лежать, прижав нос к полу.
– Выпей вина, – предложил Анхель.
Через пару часов они, чудовищно пьяные, спускались, пошатываясь, по ступеням старого дома из песчаника. Анхель и Джеронимо спорили о том, гуляют ли девочки по такому холоду в парке. Они вышли на середину улицы и направились на запад. Хмурое небо было затянуто тучами. Профейн то и дело натыкался на припаркованные машины. На углу они оккупировали ларек, торгующий хот-догами, и, чтобы немного протрезветь, выпили по коктейлю "пина колада", однако ожидаемого эффекта не получили. На Риверсайд-драйв Джеронимо отрубился. Профейн и Анхель схватили его и поволокли, как буйного барашка, через улицу, спустились под горку и вошли в парк. Профейн споткнулся о камень, и они втроем, совершив полет, упали в заиндевевшую траву, а тем временем мальчишки, одетые в толстые шерстяные пальто, играли над ними желтым бинбэгом в «брось-поймай». Джеронимо запел.
– Смотрите, – сказал Анхель. – Вон там я вижу одну.
Девушка выгуливала мерзкого, злобного пуделя – совсем молоденькая, с длинными блестящими волосами, пританцовывающими на воротнике ее пальто. Джеронимо прервал свою песню, сказал "Cono!" и помахал рукой. Потом снова запел, на сей раз для нее. Она не обратила внимания ни на кого из них и направилась к выходу из парка, спокойно улыбаясь голым деревьям. Они провожали ее глазами, пока она не скрылась из виду. Им стало грустно. Анхель вздохнул.
– Их так много, – сказал он. – Миллионы миллионов девушек. Здесь, в Нью-Йорке, в Бостоне – я был там однажды – и в тысяче других городов… У меня от этого башню сносит.
– В Джерси тоже, – отозвался Профейн. – Я работал в Джерси.
– В Джерси много хорошего, – сказал Анхель.
– Но там, на дороге, они все были в машинах.
– Мы с Джеронимо работаем в канализации. Под землей. Там вообще ничего не видно.
– Под землей. Под улицей. – Через минуту Профейн повторил: – Под Улицей.
Джеронимо кончил петь и спросил у Профейна, помнит ли он историю с детенышами аллигаторов? В прошлом году, или, может, в позапрошлом, дети по всему Нуэва-Йорку покупали их себе как домашних животных. В «Мэйси» их продавали по пятьдесят центов, и казалось, каждый ребенок вменил себе в обязанность завести хоть одного. Но вскоре аллигаторы детям наскучили. Некоторых просто выпустили на улицы, но большинство оказалось смыто в унитаз. Аллигаторы выросли, размножились, питаясь крысами и помоями, и вскоре наводнили собой всю канализационную систему, превратившись в огромных слепых альбиносов. Сколько их там, внизу, – один Бог знает. Некоторые сделались людоедами, поскольку в округе не осталось ни единой крысы – одни были съедены, а другие в ужасе бежали.
В прошлом году разгорелся канализационный скандал, и у Департамента проснулась совесть. Они объявили набор добровольцев, чтобы те, вооружившись винтовками, охотились под землей на аллигаторов. Нанимались немногие, да и те вскоре увольнялись. Мы с Анхелем, – гордо сказал Джеронимо, – работаем уже на три месяца дольше, чем кто-либо до нас.
Профейн вдруг протрезвел.
– Они продолжают набирать добровольцев? – медленно промолвил он. Анхель запел. Профейн повернулся и посмотрел на Джеронимо. – А?
– Конечно, – ответил Джеронимо. – Винтовку в руках держал?
Профейн ответил утвердительно, хотя не держал никогда и не собирался, – во всяком случае, на уровне земли. Но винтовка под землей, под Улицей, – из этого может что-нибудь выйти. Попытаться можно.
– Я поговорю с нашим боссом, мистером Цайтсуссом, – сказал Джеронимо.
Бинбэг, весело переливаясь, повис на секунду в воздухе.
– Смотрите, смотрите! – весело кричали дети. – Смотрите! Он падает!
ГЛАВА ВТОРАЯ
Напрочь Больная Команда
I
В полдень Профейну, Анхелю и Джеронимо наскучило высматривать девочек, и они отправились за вином. А примерно час спустя как раз мимо того места, где они сидели, возвращалась домой Рэйчел Аулглас – профейновская Рэйчел.
Нет слов, чтобы описать ее походку. Она передвигала ноги медленно, но мужественно и чувственно – будто шла на свидание через сугробы глубиной с ее рост. Она пересекала площадку, и серый плащ развевался на легком бризе, прилетевшем с побережья Джерси. Когда она шагала по решетке в центре площади, высокие каблучки с потрясающей точностью попадали на X-образные пересечения прутьев. Хоть этому она научилась за полгода жизни в Нью-Йорке! В процессе учебы ей не раз приходилось терять каблуки, а зачастую – и самообладание; зато сейчас она прошла бы здесь с закрытыми глазами. Она могла бы сойти с решетки, но ей хотелось порисоваться. Перед собой.
Рэйчел работала в агентстве по найму – проводила там собеседования; но сейчас она шла из одной истсайдской клиники, где встречалась с неким Шейлом Шунмэйкером – пластическим хирургом. Шунмэйкер славился своим мастерством, и его бизнес процветал; у него работали два ассистента, первым из которых считалась медсестра-секретарша-регистраторша с невероятно скромным вздернутым носом и тысячами веснушек, сделанных лично Шунмэйкером. Каждая веснушка была татуировкой, а девушка – его любовницей; по милости какой-то ассоциативной причуды он называл ее Ирвинг. Другого ассистента звали Тренч, – в перерывах между приемом пациентов этот неблагополучный малолетка забавлялся метанием скальпелей в именную дощечку, презентованную его шефу организацией "Объединенный еврейский призыв". Клиника располагалась в лабиринте комнат фешенебельного дома между Первой и Йорк-авеню – на краю Немецкого квартала. Для соответствия местоположению здесь был установлен замаскированный громкоговоритель, из которого ревел пивнушный Мьюзек.
Рэйчел пришла сюда в десять утра. Ирвинг сказала ей подождать, и она ждала. В это утро доктор был очень занят. Сегодня потому столько народу, рассудила Рэйчел, – что после операции нос заживает четыре месяца. Через четыре месяца будет июнь – время, когда еврейские девушки, уверенные, что давно уже вышли бы замуж, не будь у них такого безобразного носа, отправятся на курортную охоту за мужьями – все с одинаковыми носовыми перегородками.
Это внушало Рэйчел отвращение: согласно ее теории, все эти девушки хотят сделать операцию не для косметики, а затем, чтобы избавиться от горбатого носа как признака еврейской нации и получить взамен вздернутый нос, известный по фильмам и рекламам как признак WASP, или Белого Англо-Сакса Протестанта.
Откинувшись на спинку стула, Рэйчел наблюдала за пациентами, не испытывая особого нетерпения перед встречей с Шунмэйкером. Напротив нее, через широкую полосу неброского коврового покрытия, сидел влажноглазый юноша с жидкой бородкой, которой не удавалось скрыть безвольный подбородок, и бросал на Рэйчел смущенные взгляды. Девушка с клювообразным тампоном на носу закрыла глаза и плюхнулась на диван, а с флангов встали ее родители и принялись шепотом обсуждать вопрос цены.
На противоположной стене высоко под потолком висело зеркало, а под ним – полка с часами начала века. Двусторонний циферблат поддерживали четыре золотые стойки вразлет над лабиринтом механизма, помещенного под колпак шведского флинтгласа. Маятник не совершал обычных колебатеных движений, – он имел форму горизонтального диска, посаженного на вал, который в шесть часов становился параллельным стрелкам. Диск совершал четверть оборота в одну сторону, затем четверть – в другую, и каждое вращательное перемещение вала продвигало регулятор хода на один зубец. Сверху на диске в фантастических позах застыли два золотых чертика. Их движение отражалось в зеркале, равно как и окно позади Рэйчел – огромное, от пола до потолка. За окном росла сосна, и в зеркале были видны ее ветви и зеленые иголки. Ветви качались на февральском ветру – неутомимые и сверкающие, – а напротив два дьяволенка исполняли свой метрономный танец под вертикальным нагромождением золотых шестеренок и храповиков, рычажков и пружин, блестевших тепло и весело, как люстры в бальном зале.
Рэйчел смотрела в зеркало под углом 45 градусов, и поэтому видела как первый циферблат, глядящий в комнату, так и второй – отраженный в зеркале. Здесь жило два времени – обычное и обратное, – и они сосуществовали, отменяя друг друга. Быть может, по всему миру рассеяно множество таких точек-ориентиров – в узлах, похожих на эту комнату, которая принимает в себя приходящих и уходящих людей – несовершенных и неудовлетворенных. И не дает ли сумма реального и мнимого – оно же зеркальное – времени в результате ноль, служа тем самым какой-то не совсем понятной этической цели? Или в расчет берется лишь зеркальный мир, лишь надежда, что прогиб носового моста или выступ лишнего хряща на подбородке будет означать переход от злосчастья к счастью и что с момента операции мир измененного человека начнет жить по зеркальному времени, работать и любить при зеркальном свете и быть всего лишь танцем чертенка под люстрой эпохи, пока смерть не остановит тиканье сердца (метрономную музыку) – спокойно и тихо, как бы прекращая вибрацию света?..
– Мисс Аулглас! – Ирвинг, улыбаясь, стояла у входа в святилище Шунмэйкера. Рэйчел встала и взяла сумочку. Проходя мимо зеркала, она поймала косой взгляд своего двойника из зеркального мира, а затем вошла в кабинет и встала перед доктором, который с ленивым и враждебным видом сидел за столом, формой напоминавший человеческую почку. На столе лежали счет и копирка.
– Счет для мисс Гарвиц, – произнес Шунмэйкер. Рэйчел достала из сумочки свернутые двадцатидолларовые банкноты и бросила их на бумаги.
– Пересчитайте, – сказала она. – Здесь – остаток.
– Успеется, – ответил доктор. – Присаживайтесь, мисс Аулглас.
– Эстер осталась без гроша, – сказала Рэйчел, – и сейчас ей не на что жить. То, чем вы здесь занимаетесь…
– … это бесстыдный рэкет, – сухо закончил он фразу. – Сигарету?
– У меня есть свои. – Она села на краешек стула, откинула упавшие на лоб пряди волос и достала сигарету.
– Спекуляция на людском тщеславии, – продолжал Шунмэйкер, – пропаганда заблуждения, что красота – не в душе и что ее можно купить. Да… – Он выбросил вперед руку с массивной серебряной зажигалкой. Тонкий язычок пламени. Его голос стал похож на лай. – … Ее можно купить, мисс Аулглас, и я ее продаю. Я даже не считаю себя необходимым злом.
– В вас вовсе нет необходимости, – сказала Рэйчел сквозь дымовой нимб. Ее глаза сверкали, как грани двух соседних зубьев пилы.
– Вы поощряете их к измене, – добавила она.
Он смотрел на ее нос, изогнутый чувственной аркой.
– Вы из ортодоксов? Нет. Консерваторов? Нет. Молодые люди никогда не бывают ни теми, ни другими. У меня родители были ортодоксами. Если я не ошибаюсь, они считали, что если твоя мать – еврейка, то ты тоже еврей, вне зависимости от того, кто твой отец, поскольку все мы выходим из материнского лона. Длинная непрерывная цепь еврейских матерей, которая тянется от Евы.
"Лицемер", – читалось в ее взгляде.
– Нет, – продолжал он. – Ева была первой еврейской матерью – той, которая подала пример. Слова, сказанные ею Адаму, повторяют с тех пор ее дочери. "Адам, – сказала она. – Войди и отведай плод".
– Ха-ха, – сказала Рэйчел.
– Теперь что касается этой цепи и наследственных характеристик. Мы продвинулись вперед, стали с годами более утонченными, мы больше не верим в то, что земля плоская. Хотя в Англии есть один человек – президент Общества плоской Земли. Он говорит, что она плоская и окружена ледяными барьерами замороженным миром, куда уходят все пропавшие люди и откуда никогда не возвращаются. То же самое – с Ламарком, который считал, что если мыши отрезать хвост, то у нее родятся бесхвостые дети. Но это не так. Вес научных доказательств говорит об обратном, точно так же, как любая фотография с ракеты, запущенной с Белых Песков или мыса Канаверал, противоречит аргументам Общества плоской Земли. Я не делаю с носом еврейской девушки ничего такого, что могло бы повлиять на носы ее детей, когда она станет, как положено, еврейской матерью. Так в чем же здесь зло? Я что, разрываю эту огромную, нерушимую цепь? Нет. Я не иду против природы и не предаю евреев. Как бы ни старались отдельные люди, но цепь все равно продолжается, и малые силы, вроде меня, никогда ее не победят. Это можно сделать только путем изменения плазмы зародыша. Ядерное излучение, например. Вот оно может предать евреев и сделать так, чтобы будущие поколения рождались с двумя носами или вовсе без оных. Кто знает, ха-ха! Вот эти силы и предадут человеческую расу.
Из-за дальней двери доносился звук упражнений Тренча в ножички. Рэйчел сидела, плотно сжав скрещенные ноги.
– Может, – сказала она, – эти силы и изменят их изнутри. Но вы их тоже изменяете. Каких еврейских матерей вы воспитали, если они заставляют своих дочерей оперировать нос, даже если те этого не хотят? Сколько поколений прошло через вас? Для скольких людей вы сыграли роль старого доброго семейного врача?
– Вы – вредная девчонка, – сказал Шунмэйкер, – но, правда, хорошенькая. Зачем вам на меня кричать? Я – всего лишь пластический хирург. Даже не психоаналитик. Может, когда-нибудь появятся специальные пластические хирурги, которые смогут выполнять операции на мозге, делать из мальчика эйнштейна, а из девочки – элеонору рузвельт. Или даже научатся делать людей менее вредными. Но такие времена пока не наступили, и я понятия не имею что происходит внутри. Происходящее там не имеет никакого отношения к цепи.
– Вы организуете другую цепь. – Она старалась не кричать. – Изменение людей изнутри означает начало новой цепи, которая не имеет никакого отношения к плазме зародыша. Кроме того, вы умеете выводить наружу внутренние особенности. Вы можете изменять отношение…
– Внутри, снаружи, – сказал он. – Ваша непоследовательность сведет меня в могилу.
– Было бы неплохо, – сказала она, поднимаясь. – О таких, как вы, мне снятся нехорошие сны.
– Пусть ваш аналитик разъяснит вам их значение.
– Надеюсь, вы тоже иногда видите сны. – Она стояла в дверях в пол-оборота к нему.
– Мой банковский счет достаточно велик, чтобы отказываться от иллюзий, – ответил он.
Но Рэйчел принадлежала к тому типу девушек, которые не могут уйти, оставив последнее слово за противником.
– Я слышала об одном пластическом хирурге, утратившем иллюзии, сказала она. – Он повесился. – И вышла, прошагав мимо зеркала с часами, на тот же ветер, что качал сосновые ветки. Она старалась забыть оставшиеся там безвольные подбородки, помятые носы и шрамы на лицах людей, принадлежащих, как она опасалась, к новой общности.
Сойдя с площадки, Рэйчел шла теперь по мертвой траве Риверсайд-парка под мертвыми деревьями, по сравнению с которыми даже скелеты жилых домов на Драйве казались одушевленными. Мысли Рэйчел были заняты Эстер Гарвиц – ее давней соседкой по квартире, которой она помогала выбираться из постоянных финансовых кризисов, и этим кризисам они обе давно потеряли счет. По пути попалась ржавая пивная банка, и Рэйчел со злобой пнула ее ногой. Что же это получается, – думала она, – весь Нуэва-Йорк состоит из халявщиков и их жертв? Шунмэйкер доит мою подругу, а она – меня. Может, все построено по принципу бесконечного секса по кругу – мучители и мученики, те, кто доит, и те, кого доят. Кого, в таком случае, дою я? Первым ей в голову пришел Слэб из триумвирата Рауль-Слэб-Мелвин. С момента приезда Рэйчел в этот город ее жизнь колебалась между ним и приступами жестокого неверия в мужской род как таковой.








