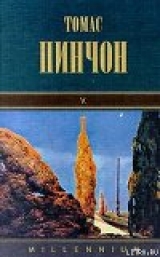
Текст книги "В"
Автор книги: Томас Рагглз Пинчон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 39 страниц)
Словно дернул я ниточку, и восковый рот
Трагической маски моей расплылся в улыбке -
Улыбке для вас. А для меня ее суть -
Геометрическое место точек
y=a/2(ex/a+e-x/a).
Однажды на улице Фаусто наткнулся на инженера-поэта. Днубиетна был пьян, и теперь, поскольку опьянение проходило, возвращался к месту попойки. Неразборчивый в средствах торговец по имени Тифкира хранил у себя запас вина. В то воскресенье шел дождь. Погода стояла отвратительная, налетов было немного. Два молодых человека встретились у развалин маленькой церквушки. Исповедальню рассекло пополам, но какая половина осталась – священника или прихожанина – Фаусто определить не мог. Слепящее серое пятно солнца – в дюжины раз большее, чем обычно – показалось за дождевыми тучами на полпути вниз из зенита. Достаточно яркое – еще чуть-чуть, и оно стало бы создавать тени. Но свет падал из-за Днубиетны, и черты инженерова лица различались с трудом. На нем были запачканные грязью хаки и синяя рабочая кепка; на обоих падали крупные капли дождя.
Днубиетна мотнул головой в сторону церкви.
– Ты был там, а, священник?
– На обедне – нет. – Они не виделись целый месяц. Но к чему рассказывать друг другу новости?
– Пойдем. Выпьем. Как Елена с малышкой?
– Нормально.
– Мараттова опять беременна. Не скучаешь по холостяцкой жизни?
Они шли по узкой мощеной булыжником улочке, скользкой от дождя. По обе стороны лежали кучи обломков, стояло несколько уцелевших стен и крылец. Ручейки каменной пыли, матовые на фоне сияющего булыжника, беспорядочно кроили мостовую. Солнце еще больше приблизилось к своей реальной форме. За ними тянулись хилые тени. Дождь все еще моросил.
– Или, женившись до войны, – продолжал Днубиетна, – ты приравниваешь холостяцкую жизнь к миру?
– Мир, – сказал Фаусто. – Странное слово. Они пробирались через разбросанные куски кирпичной кладки.
– Сильвана, – запел Днубиетна, – в красной нижней юбке/Вернись, вернись/Мое сердце можешь оставить себе/ Но верни деньги…
– Тебе надо жениться, – скорбно произнес Фаусто, – а так, это не честно.
– Поэзия и техника не имеют ничего общего с семейной жизнью.
– Мы давно не спорили, – вспомнил Фаусто, – уже несколько месяцев.
– Здесь. – Поднимая облака цементной пыли, они спустились по лестнице, которая вела под все еще относительно невредимое здание. Завыли сирены. В комнате на столе спал Тифкира. В углу две девушки апатично играли в карты. Днубиетна на мгновение исчез за стойкой и появился оттуда с бутылочкой. От упавшей на соседней улице бомбы затрещали потолочные балки, закачалась висевшая в комнате масляная лампа.
– Мне пора спать, – сказал Фаусто. – Вечером на работу.
– Угрызения совести любящей половины мужа, – вставил Днубиетна, разливая вино. Девушки подняли глаза. – Это такая униформа, – доверительно сообщил он, и это прозвучало столь забавно, что Фаусто пришлось рассмеяться. Вскоре они перебрались за стол девушек. Разговор то и дело прерывался: почти прямо над ними находилась артиллерийская позиция. Девушки были профессионалками и пытались делать Фаусто и Днубиетне непристойные предложения.
– Бесполезно, – сказал Днубиетна. – Я платить не стану, а этот женат и к тому же – священник. – Трое засмеялись, захмелевший Фаусто не развеселился.
– Это давно в прошлом, – тихо сказал он.
– Священник – это надолго, – возразил Днубиетна. – Давай, благослови вино. Освяти его. Сегодня воскресенье, а ты не был на обедне.
Над их головами «Бофорсы» начали прерывисто и оглушительно кашлять – два выстрела в секунду. Четверо сосредоточенно пили вино. Упала очередная бомба.
– Вилка! – выкрикнул Днубиетна, перекрывая огонь зениток. В Валетте это слово лишилось своих значений. Тифкира проснулся.
– Крадете мое вино! – закричал хозяин. Он споткнулся, налетел на стену и прислонился к ней лбом. Потом принялся тщательно расчесывать под майкой волосатую спину и живот. – Могли бы меня угостить.
– Оно не освящено. Это все отступник Майстраль.
– Я заключил соглашение с Богом, – начал Фаусто, будто желал исправить недоразумение. – Если я перестану задавать вопросы, Он забудет о том, что я не ответил на Его призыв. Стану, знаете ли, просто пытаться выжить.
Когда это пришло ему в голову? На какой улице, в какой момент после долгих месяцев, полных впечатлений? Возможно, он придумал это прямо здесь. Он опьянел. И был так измотан, что ему хватило всего четырех стаканов вина.
– Какая же это вера, – серьезно спросила одна из девушек, – если не задаешь вопросов? Священник говорил, мы правильно делаем, что спрашиваем.
Днубиетна заглянул в лицо приятеля; не найдя там ответа, он повернулся и похлопал девушку по плечу.
– Баловство одно, милая. Пей вино.
– Нет! – завопил Тифкира, наблюдавший за ними, стоя у другой стены. – Вы здесь все опустошите. – Пушка снова подняла шум.
– Опустошим, – Днубиетна засмеялся, заглушая шум. – Не говори так, идиот. – Он воинственно двинулся через комнату. Фаусто положил голову на стол, чтобы немного отдохнуть. Девушки вернулись к картам, используя его спину в качестве стола. Днубиетна схватил хозяина за плечи и принялся пространно обличать его, прерывая процесс встряхиваниями, вызывавшими циклические колыхания жирного туловища.
Наверху зазвучал отбой. Вскоре за дверью послышался топот ног. Днубиетна открыл дверь, и внутрь, в поисках вина, ввалился грязный и утомленный артиллерийский расчет. Фаусто проснулся, вскочил на ноги, разбрасывая карты червово-пиковым дождем, и отдал честь.
– Вон, вон! – закричал Днубиетна. Отказавшись от мечты о грандиозном винном складе, Тифкира сполз на пол и закрыл глаза. – Нам нужно отправить Майстраля на работу.
– Изыди, презренный! – закричал Фаусто, снова отдал честь и упал навзничь. Хихикая и покачиваясь, Днубиетна с одной из девушек помогли ему подняться на ноги. Очевидно, это он придумал отвести Фаусто на Та Кали пешком (обычно для этого ловили грузовик), дабы тот протрезвился. Когда они выбрались на сумеречную улицу, снова завыли сирены. Солдаты со стаканами в руках, топоча сапогами, побежали вверх по лестнице и столкнулись с ними. Раздраженный Днубиетна внезапно вынырнул из под руки Фаусто и ударил кулаком в живот ближайшего к нему артиллериста. Началась потасовка. Бомбы падали в районе Большой Гавани. Взрывы приближались – медленно, но неотвратимо, подобно шагам сказочного людоеда. Фаусто лежал на земле, не испытывая большого желания спешить на помощь своему приятелю, которого яростного атаковали превосходящие силы противника. В конце концов они оставили Днубиетну и бросились к «Бофорсу». Не так уж высоко над ними из завесы облаков выскочил МЕ-109 и понесся, пойманный лучами прожекторов. Следом тянулись оранжевые трассы. "Снять сукина сына!" – крикнули с позиции. «Бофорс» развязал язык. Фаусто с вялым интересом следил за происходящим. Освещаемые разрывами снарядов и отблесками прожекторных лучей силуэты солдат то появлялись, то растворялись в темноте ночи. В свете одной из вспышек Фаусто заметил красное свечение вина Тифкиры в стакане, пригубленном подносчиком снарядов; вино медленно убывало. Над Гаванью зенитный снаряд настиг «Мессершмитта», топливные баки самолета воспламенились огромным желтым цветком, и он стал медленно, словно воздушный шарик, падать. Тянувшийся сзади черный хвост дыма клубился в лучах прожекторов, которые на мгновение задержались в точке пересечения, прежде чем заняться другими делами.
Над ним появился Днубиетна – понурый, один глаз начал заплывать. "Пора, пора!" – закаркал он. Фаусто неохотно поднялся на ноги, и они пошли. В дневнике нет записей о том, как это происходило, но добрались они до Та Кали как раз, когда прозвучал отбой. Они прошагали пешком с милю. Вероятно, ныряя в укрытие всякий раз, когда разрывы бомб раздавались слишком близко. В конце концов их подобрал проезжавший мимо грузовик.
"Едва ли это можно назвать геройством, – писал Фаусто. – Мы оба были пьяны. Но я не мог избавиться от мысли, что в ту ночь о нас позаботилось провидение. Что Бог приостановил действие законов случая, по которым мы неминуемо должны были погибнуть. Так или иначе улица – царство смерти – была дружелюбной. Возможно, потому, что я соблюдал наше соглашение и не благословил вино."
Post hoс. И лишь часть «взаимоотношений» в целом. Именно это я имел в виду, говоря о простоте Фаусто. Он не совершал сложных поступков, не удалялся от Бога и не отвергал Его церкви. Потеря веры – отнюдь не простое дело и требует времени. Никаких прозрений, никаких "моментов истины". На последних стадиях требуются глубокие размышления и концентрация, сами по себе являющиеся результатом накопления незначительных событий – случаев общей несправедливости, неудач, обрушивающихся на головы праведных, собственных неотвеченных молитв. У Фаусто и его «Поколения» просто не хватало времени на эти неспешные интеллектуальные выкрутасы. Они отвыкли от этого, потеряли ощущение самих себя, отошли от мирного университета дальше и подошли к осажденному городу ближе, чем готовы были признать, стали в большей степени мальтийцами, т. е., чем англичанами.
Все остальное в его жизни ушло под землю, приобретя траекторию, в которой сирены являлись лишь одним из параметров, и Фаусто понял, что старые заветы и соглашения с Богом тоже должны измениться. Поэтому для поддержания по крайней мере рабочего соответствия Богу, Фаусто делал то же, что и для дома, пропитания, супружеской любви: натягивал простыни вместо парусов – выкручивался, одним словом. Но его английская половина по-прежнему оставалась на месте и вела дневник.
Дитя – ты – становилась крепче, подвижнее. В сорок втором попала в буйную компанию сорванцов, главным развлечением которых была игра "Королевские ВВС". Между налетами вы выбегали на улицы и, вытянув руки в стороны, как крылья аэропланов, с криками и жужжанием носились между разрушенных стен, груд обломков, то исчезая в каком-нибудь отверстии, то появляясь вновь. Разумеется, мальчики повыше и посильнее были «Спитфайрами». Остальные – непопулярные мальчики, девочки и малышня – изображали самолеты врага. Полагаю, ты обычно изображала итальянский дирижабль. Самая жизнерадостная девочка – воздушный шарик того участка коллектора, где мы тогда жили. Измотанная, преследуемая, увертываясь от летевших отовсюду камней и палок, ты всякий раз умудрялась с "итальянским проворством", которого требовала твоя роль, избегать перехвата. Но всегда, перехитрив противников, ты, в конце концов, сдавалась, исполняя патриотический долг. Но лишь когда была готова.
Твоя мать и Фаусто – медсестра и сапер – большую часть времени проводили вдали от тебя, ты оставалась между двумя полюсами нашего подземного общества: стариками, для которых острая боль почти не отличалась от ноющей, и молодежью – твоей истинной природой, – бессознательно творившей абстрактный мир, прототип того мира, который Фаусто III унаследует уже устаревшим. Уравновешивались ли эти две силы, оставляя тебя на одиноком мысу между двумя мирами? Можешь ли ты еще смотреть в обе стороны, дитя? Если да, то твоему положению можно лишь позавидовать: ты – все та же четырехлетняя воюющая сторона с надежно укрытой историей. Теперешний Фаусто может смотреть лишь назад, на те или иные этапы собственной истории. Лишенной непрерывности. Нелогичной. "История, – писал Днубиетна, – не «наша» функция."
Лелеял ли Фаусто слишком большие надежды, или общность была сплошной фикцией, призванной компенсировать его фиаско в качестве отца и мужа? По меркам мирного времени он, несомненно, потерпел фиаско. Нормальный довоенный сценарий представлял собой медленное врастание в любовь к Елене и Паоле по мере того, как молодой человек, преждевременно загнанный в брак и отцовство, учился взваливать на себя это бремя – удел всех мужчин мира взрослых.
Но Осада создала другие виды бремени, и нельзя было сказать, чей мир более реален – детский или родительский. Несмотря на грязь, шум и хулиганство, мальтийские ребятишки выполняли поэтическую функцию. Игра в Королевские ВВС являлась придуманной ими метафорой, призванной скрыть существующий мир. Кому это помогало? Взрослые были на работе, стариков это мало трогало, сами дети пребывали «внутри» своей тайны. Должно быть, они играли за неимением лучшего: пока их неразвитые мускулы и мозг не позволяли им взвалить на себя часть работы в руинах, в которые превращался их город. Это было выжиданием, поэзией в вакууме.
Паола, дитя мое, дитя Елены, но прежде всего дитя Мальты, ты была одной из них. Эти дети знали, что происходит, знали, что бомбы убивают. Но что, все-таки, есть человек? Он ничем не отличается от церкви, обелиска или статуи. Важно лишь одно: выигрывает бомба. Их оценка смерти была ачеловеческой. Кто-то может поинтересоваться, являлось ли наше взрослое восприятие смерти, безнадежно перепутанное с любовью, общественными отношениями и метафизикой, сколько-нибудь более удовлетворительным. Конечно, дети проявляли большее здравомыслие.
Они пробирались по Валетте своими тайными тропами. Фаусто II запечатлевает их замкнутый мир, наложенный на разрушенный город – племена оборванцев разбросанные по Шагрит Меввийа, то и дело развлекающиеся междоусобными стычками. Их разведывательные и фуражные отряды всегда находились неподалеку, в пределах видимости.
Должно быть, наступил перелом. Сегодня прилетали всего один раз – ранним утром. Этой ночью мы спали в коллекторе рядом с четой Агтина. Маленькая Паола ушла вскоре после отбоя с мальчиком Маратта и еще несколькими ребятами исследовать район доков. Казалось, даже погода указывает на передышку. Ночной дождь прибил к земле каменную и цементную пыль, умыл листья деревьев и вызвал веселый водопад, ворвавшийся в наше расположение шагах в десяти от наволочки с выстиранным бельем. Воспользовавшись этим, мы совершили в симпатичном ручейке омовение, сразу после чего отступили в пределы миссис Агтина, где разговелись сытной овсянкой, которую эта добрая женщина только что состряпала – будто на случай именно такой неожиданности. Какой обильной благодатью и величием наполнился наш удел впервые с начала Осады!
Наверху сияло солнце. Мы поднялись на улицу, еще на лестнице Елена взяла меня за руку и, когда мы оказавлись на поверхности, уже не отпускала. Мы пошли. Ее лицо, свежее после сна, выглядело таким чистым на солнце! На старом солнце Мальты, молодое лицо Елены. Казалось, только сейчас я встретил ее впервые, или что снова став детьми, мы забрели в ту же апельсиновую рощу, попали в благоухание азалий, сами того не замечая. Она заговорила, как девочка-подросток – по-мальтийски: какими храбрыми выглядели солдаты и матросы (ты имеешь в виду, какими трезвыми, – прокомментировал я, и она засмеялась с притворным раздражением); как смешно смотрелся заброшенный унитаз в верхней правой комнате здания английского клуба, боковуя стену которого снесло взрывом; почувствовав себя молодым, я преисполнился при виде этого унитаза возмущения и политики. "Как замечательна демократия на войне, – разглагольствовал я. – До войны они не допускали нас в свои роскошные клубы. Англо-мальтийские отношения были фарсом. Pro bono, ха-ха. Пусть аборигены знают свое место. А сейчас даже святая святых этого храма открыта на всеобщее обозрение." Так мы едва ли не буянили на залитой солнцем улице, куда дождь принес подобие весны. Мы чувствовали, что в такие дни Валетта вспоминает собственную пасторальную историю. Вдоль морских бастионов словно внезапно расцвели виноградники, из колотых ран Кингсвэя вымахали оливковые и гранатовые деревья. Гавань сверкала, мы заговаривали с прохожими, улыбались, приветливо махали руками, солнце запуталось в густой сети волос Елены, веснушки танцевали на ее щеках.
Как мы набрели на тот сад или парк, я не знаю. Все утро мы бродили по берегу. Рыбацкие лодки вышли в море. Несколько жен сплетничали среди водорослей и глыб желтого бастиона, оставшихся после бомбежки. Они чинили сети, смотрели в море, покрикивали на детей. Сегодня в Валетте повсюду были дети, они раскачивались на ветвях деревьев, прыгали в море с разрушенных волноломов; их было слышно, но не видно в пустых остовах разбомбленных домов. Они то пели, то начинали гомонить, дразниться или просто визжать. Не были ли их голоса, в действительности, нашими собственными, запертыми на многие годы в каждом доме и лишь теперь вырвавшимися на свободу, дабы нас смущать.
Мы нашли кафе, где подавали вино, привезенное последним конвоем – редкий сорт! Вино и несчастный цыпленок – было слышно, как владелец режет его в соседней комнате. Мы сидели, пили вино, смотрели на Гавань. Птицы направлялись в Средиземное море. Барометр поднимается. Возможно, у них было особое чувство и на немцев. Растрепанные ветром волосы Елены падали ей на глаза. Впервые в том году мы смогли поговорить. До тридцать девятого я дал ей пару уроков разговорного английского. Сегодня она захотела продолжить: кто знает, сказала она, когда представится другой такой случай? Серьезный ребенок. Как я ее любил!
Вскоре после полудня владелец вышел, чтобы посидеть с нами; одна рука еще была липкой от крови, и к ней пристало несколько перышек. "Я польщена знакомством с вами, сэр", – по-английски приветствовала его Елена. Она сияла. Старик загоготал.
– Англичане, – сказал он, – да, я понял это в тот самый момент, когда вас увидел. Английские туристы. – Это стало нашей общей шуткой. Пока она прикасалась ко мне под столом – несчастная Елена, – владелец продолжал свои глупые рассуждения об англичанах. Ветер из Гавани приносил прохладу, а море, которое я почему-то помнил лишь желто-зеленым или коричневым, теперь было синим – карнавально-синим, с белыми барашками. Веселая Гавань.
Из-за угла выбежало полдюжины ребятишек: мальчики в майках, с загорелыми руками, позади – две маленькие девочки в длинных сорочках, но нашей среди них не было. Не взглянув на нас, они пронеслись мимо и сбежали по склону холма в направлении Гавани. Откуда-то появилась туча – твердый на вид комок, будто вкопанный, торчал на пути солнца. Мы с Еленой наконец встали и пошли по улице. Скоро из аллеи в двадцати ярдах впереди выбежала еще одна ватага ребятишек – срезав угол, они пробежали в нашем направлении и один за другим исчезли в подвале того, что некогда было домом. Солнечный свет доходил до нас изрезанный стенами, рамами, стропилами – скелетами. Наша улица была испещрена тысячами ямок, как гавань под безудержным полуденным солнцем. Мы вяло спотыкались, то и дело опираясь друг на друга, чтобы не упасть.
Первая половина дня – морю, вторая – городу. Бедный разрушенный город. Спускающийся к Марсамускетто; каменные остовы – без крыш, стен и окон – не могли спрятаться от солнца, отбрасывавшего все тени вверх по склону холма и в море. Казалось, дети преследуют нас по пятам, идя на звук шагов. Мы слышали их за развалинами – или лишь шуршание босых ног и ветерка в проходах. И они все время звали кого-то с соседней улицы. Ветер из Гавани мешал разобрать имя. Солнце медленно сползало по склону холма, приближаясь к преградившей ему путь туче.
Фаусто, кричали они? Елена? Была ли наша девочка среди них, или где-нибудь в другом месте выслеживала чьи-то шаги самостоятельно? Мы же прокладывали свои собственные по сетке улиц, бесцельно, в ритме фуги – фуги любви или памяти, или некого абстрактного чувства, которое всегда приходит постфактум, и которое в тот день не имело ничего общего со свойствами света или давлением на мою руку пяти пальцев, будивших во мне пять чувств и не только их…
"Печален" – глупое слово. Свет не печален, или не должен быть таким. Боясь даже оглянуться назад, на свои тени – как бы они не оторвались от нас и не скользнули в канаву или одну из трещин в земле, – мы прочесывали Валетту до вечера, словно искали что-то.
Пока, наконец, не набрели на маленький парк в самом сердце города. В одном конце скрипел на ветру оркестровый павильон, его крыша каким-то чудом держалась на нескольких уцелевших столбах. Вся конструкция прогнулась, и птицы покинули гнезда, прилепившиеся вдоль карниза, кроме одной, которая торчала из гнезда, глядя в сторону Бог знает на что, и не испугалась при нашем приближении. Она походила на чучело.
Именно там мы очнулись, там дети стали брать нас в кольцо. Неужели эти кошки-мышки продолжались весь день? Унеслась ли вся остававшаяся музыка вместе с живыми птицами или начался только сейчас пригрезившийся нам вальс? Мы стояли среди опилок и щепок невезучего дерева. Кусты азалии ждали нас напротив павильона, но ветер дул не в ту сторону – из будущего – унося весь запах назад, в прошлое. Сверху над нами нависали высокие пальмы, с притворной заботливостью отбрасывая саблевидные тени.
Холодно. А потом солнце встретилось со своей тучей, и другие тучи, которых мы не заметили, казалось, со всех сторон ринулись в атаку на тучу солнечную. Будто ветер сегодня дул сразу со всех тридцати двух румбов розы ветров, чтобы сплестись в центре в гигантский смерч и вознести огненный шар вверх, как приношение, осветить подпорки Небес. Саблевидные тени исчезли; и свет, и тень слились в великолепный ядовито-зеленый. Огненый шар продолжал ползти вниз по склону холма. Листья деревьев в парке начали тереться друг о друга, как ноги саранчи. Почти музыка.
Ее охватила дрожь, на какое-то мгновение она прижалась ко мне, потом внезапно опустилась на грязную траву. Я сел рядом. Мы, должно быть, смотрелись странной парой: головы втянуты в плечи из-за ветра, лица безмолвно обращены к павильону, словно в ожидании музыки. Боковым зрением мы видели среди деревьев детей. Белые вспышки, которые могли быть лицами или лишь тыльными сторонами листьев, свидетельствовали о приближении шторма. Небо затягивалось тучами, зеленый свет сгущался, все глубже и безнадежнее погружая остров Мальту и остров Фаусто и Елены в свои холодящие кровь ночные кошмары.
О Боже, внось предстояло пройти через ту же самую глупость – внезапное падение барометра, вероломство снов, посылавших нежданные ударные группы через границу, которой полагалось оставаться нерушимой, ужас перед незнакомой ступенькой лестницы в темноте, там, где, как нам казалось, была улица. В тот день мы действительно меряли улицы ностальгическими шагами. Куда они завели нас?
В парк, который нам никогда не найти снова.
Казалось, нам нечем наполнить свои полости – только Валеттой. Камнем и металлом не насытишься. Мы сидели с голодными глазами, прислушиваясь к нервным листьям. Чем можно было прокормиться? Только друг другом.
– Мне холодно. – По-мальтийски, и она не придвинулась ближе. Больше об английском сегодня не могло быть и речи. Я хотел спросить: "Елена, чего мы ждем – чтобы испортилась погода, чтобы деревья или мертвые здания заговорили с нами?" Я спросил: "Что случилось?" Она покачала головой. Ее взгляд блуждал между землей и скрипящим павильоном.
Чем дольше изучал я ее лицо – темные развивающиеся волосы, бездонные глаза, веснушки, сливавшиеся с вездесущим зеленым, – тем больше волновался. Я хотел возмутиться, но возмущаться было не перед кем. Возможно, мне хотелось плакать, но соленую Гавань мы оставили чайкам и рыбацким лодкам; мы не постигли ее так, как постигли город.
Посетили ли ее те же воспоминания об азалиях или хоть слабое ощущение того, что город был пародией, несбыточной надеждой? Было ли у нас хоть что-то общее? Чем глубже мы погружались в сумерки, тем меньше я понимал. Я действительно, – возражал я себе, – люблю эту женщину всем, что питает и оберегает во мне любовь, но здесь вокруг любви сгущалась темнота: отдавая, я не понимал – сколько теряется, а сколько будет возвращено. Видела ли она тот же самый павильон, слышала ли тех же самых детей по краям парка, была ли она здесь, или как Паола – Боже праведный, даже не наш ребенок, а Валетты – далеко и одна, дрожа, как тень, на какой-нибудь улице, где свет слишком прозрачен, а горизонт слишком отчетлив, чтобы эту улицу не породила болезнь прошлым, Мальтой, которая была, но которой больше никогда не будет?!
Пальмовые листья истирались, дробя друг друга на зеленые волокна света, ветки деревьев скрипели, сухие, как кожа, листья рожкового дерева, перестукиваясь, трепетали. Словно за деревьями идет собрание, собрание в небе. Панический трепет вокруг нас распространялся, начинал заглушать детей или призраков детей. Не смея оглянуться, мы были в состоянии лишь взирать на павильон, хотя один Бог знал, что там могло появиться.
Ее ногти, поломанные при погребении трупов, впивались в обнаженную часть моей руки, ниже закатанного рукава рубашки. Нажим и боль усиливались, наши головы медленно, будто головы марионеток, склонялись – глаза к глазам. В сумерках ее зрачки расширились, подернулись пеленой. Я пытался смотреть только на белки – подобно тому, как мы смотрим на поля страницы, – стараясь избежать написанного чернилами радужки. Только ли ночь явилась на «собрание» снаружи? Что-то подобное ей, проникнув сюда, выделилось и сгустилось в глазах, которые еще утром отражали солнце, барашки и настоящих детей.
Мои ногти в ответ впились в нее, и мы сдвоились – симметрично, разделяя боль, – возможно, только она и была у нас общей; ее лицо стало искажаться – отчасти от напряжения, требовавшегося, чтобы причинять боль мне, отчасти чтобы вынести боль, причиненную мною. Боль усиливалась, пальмы и рожковые деревья сошли с ума, ее радужки закатились к небу.
– Missierna li-inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek… – Она молилась. В затворничестве. Достигнув порога, скользнула назад, к тому, в чем была уверена. Налеты, смерть матери, ежедневная переноска трупов не смогли этого сделать. Для этого потребовались парк, детская осада, взбудораженные деревья, наступающая ночь.
– Елена.
Ее взгляд вернулся ко мне.
– Я люблю тебя, – двигаясь по траве, – я люблю тебя, Фаусто. – Боль, ностальгия и желание смешались в ее глазах – так казалось. Но мог ли я знать – с той же спокойной уверенностью, какую испытываю, зная, что солнце остывает, руины Хаджиар Ким постепенно превращаются в прах, как превращаемся в него мы, и мой крошечный "Хиллман Минкс", состарившийся и поставленный в гараж в 1939 году и теперь тихо распадающийся под многотонными развалинами. Как мог я делать выводы? – единственным и едва ли серьезным оправданием служило рассуждение – по аналогии, – что ее нервы, расшатанные и пронзенные моими ногтями, были такими же как мои, что ее боль была моей. А в широком смысле – и болью листьев, нервно дрожавших вокруг нас.
Посмотрев мимо ее глаз, я обнаружил, что все листья побелели. Они повернулись светлыми сторонами наружу, а тучи, в конце концов, оказались грозовыми.
– Дети, – услышал я. – Мы потеряли их.
Потеряли их. Или они – нас?
– О, – вздохнула она, – смотри, – отпуская меня, я тоже отпустил ее, и, поднявшись на ноги, мы стали смотреть на чаек, занимавших половину неба – чаек, теперь одних на всем острове освещенных солнцем. Собиравшихся вместе, из-за шторма где-то в открытом море, ужасающе безмолвных, медленно смещавшихся вверх-вниз и неуклонно в направлении земли – тысячи капель огня.
Не стало ничего. Было ли все это реальностью – дети, спятившие листья и метеорология снов, – в это время года на Мальте не бывает ни прозрений, ни моментов истины. Омертвевшими ногтями мы формовали живую плоть – выдавливали и разрушали, но не исследовали закоулки душ.
Я ограничу неизбежный комментарий просьбой. Проследите преобладание человеческой атрибутики в отношении неодушевленного. Весь «день» – если это был один день, а не проекция настроения, сохранявшегося дольше – предстает, как воскрешение человечества в образе роботов, здорового – в образе декадентского.
Приведенный фрагмент важен не столько из-за этого очевидного противоречия, сколько из-за вполне реальных детей, какова бы ни была их функция в символике Фаусто. Кажется, они одни осознавали тогда, что история не остановилась. Что перемещались войска, прибывали «Спитфайры», конвои лежали в дрейфе за мысом Святого Эльма. Это происходило – нельзя отрицать – в 1943 году, во время перелома, когда базировавшиеся на острове бомбардировщики начали возвращать Италии часть войны, и когда борьба с подводными лодками на Средиземном море перешла в такую стадию, что мы могли рассчитывать на нечто большее, чем "Трехразовое питание" доктора Джонсона. Но еще раньше – после того, как дети оправились от первого потрясения, – мы, «взрослые», смотрели на них с какой-то суеверной подозрительностью, будто они были ангелами-учетчиками, заносившими в ведомость живых, мертвых, симулянтов, отмечавшими, что носит губернатор Добби, какие церкви разрушены, какова пропускная способность госпиталей.
Они знали и о Плохом Священнике. Всем детям свойственна определенная тяга к манихейству. Здесь сочетание осады, римско-католического воспитания и неосознанного отождествления собственной матери с Богородицей – все это укладывало простой дуализм в по-настоящему странные схемы. На проповедях в них начиналась абстрактная борьба между добром и злом, но даже воздушные бои происходили слишком высоко, чтобы казаться реальными. Они опускали «Спитфайры» и МЕ на землю своей игрой в Королевские ВВС, но, как уже упоминалось, то была лишь метафорой. Немцы, разумеется, олицетворяли абсолютное зло, а союзники – абсолютное добро. В этом чувстве дети не были одиноки. Но если бы их идею борьбы описать графически, она представляла бы собой не два направленных лоб в лоб равновеликих вектора со стрелками, в виде Х неизвестной величины, а безразмерную точку – добро, – окруженную неопределенным числом радиальных стрелок – направленных в нее векторов зла. Т. е добро загнано. Богородицу атакуют. Крылатая Матерь защищается. Женщина пассивна. Мальта в Осаде.
Колесо. Эта схема суть колесо Фортуны. Вращение, являвшееся, возможно, основным условием – постоянно. Стробоскопический эффект мог изменить видимое число спиц, могло измениться направление вращения, но ступица, несмотря ни на что, удерживала спицы, а точка пересечения спиц определяла ступицу. Старая циклическая идея истории проповедывала только обод с прикованными к нему князьями и крепостными; колесо располагалось вертикально; человек поднимался и падал. Но детское колесо лежало строго горизонтально, ободом ему служил морской горизонт – такая вот эстетичная и «наглядная» раса мы, мальтийцы.
Таким образом, они не противопоставляли Плохого Священника ни Добби, ни Архиепископу Гонзи, ни Отцу Аваланшу. Плохой Священник был вездесущ, как ночь, и детям, чтобы продолжать свои наблюдения, приходилось сохранять по крайней мере такую же подвижность. Это не было организованным мероприятием. Ангелы-учетчики никогда ничего не записывали. Скорее, если хотите, – «взаимоосознанием». Они просто пассивно наблюдали – каждый день на закате вы могли заметить их стоящими, подобно часовым, на вершине кучи обломков или выглядывающими из-за угла, на корточках сидящими на крыльце, несущимися вприпрыжку и в обнимку через пустую площадку, очевидно никуда конкретно не направляясь. Но всегда где-нибудь в пределах их видимости мелькала сутана или тень темнее остальных.








