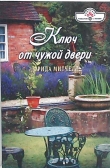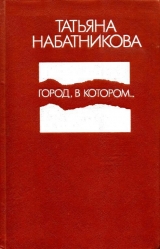
Текст книги "Город, в котором..."
Автор книги: Татьяна Набатникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц)
Глава 5
ВОСК ЖИВЫХ ПЧЕЛ
Возвращался со смены, увидел на улице ту девушку, Олю, что была прежде соседкой Хижняка. Она шла с коляской, нежно в нее заглядывая и делая какую-то игру для своего малыша. Саня перешел вдогонку на ее сторону улицы. Ему хотелось заговорить. Не нужно ли ей чего. Не извиниться (этого не умел), но как-то, может быть, загладить грубость своего тогдашнего вторжения.
Они перевозили Хижняка в новую квартиру. Саня приехал с утра, сидели на узлах и ждали машину. Хижняк рассказывал, какой Путилин замечательный мужик, – пообещал квартиру, так потом на завкоме настоял, чтоб дали ему, Хижняку, а не Пшеничникову, который теперь ушел в лабораторию. Было воскресное утро, за стеной заплакал ребенок и послышался голос хозяина: «Что, трудно было унести его на кухню?» Что-то тихо объясняла жена, стараясь успокоить ребенка. «Нет, – допытывался хозяин, – что, трудно было унести его на кухню?» Опять невнятное бормотанье – и четкое, подкрепленное силой: «Я тебя спрашиваю, что, трудно было унести его на кухню?» Все туже закручивался вопрос, набирая угрожающую пружинную силу. Саня насторожился.
– Стены оголились, – сразу слышимость, – объяснила Рита.
– А, не бери в голову, обычное дело! Конечно, мне вроде как даже неудобно перед Пшеничниковым: все-таки он устроил меня на станцию, я этого не забыл, нет! Но Путилин твердо сказал, что при ближайшем рассмотрении Пшеничников получит трехкомнатную.
«Я тебя еще раз спрашиваю: что, трудно было унести его отсюда?» – из-за стены.
– Но ведь я не рвал из глотки, я не толкался, мне дали. А Путилин сказал…
Горыныч опустил глаза и покраснел. Юрку он уже не слышал. Тугой кровью перехлестнуло слух, и Юркины радости впустую носились в воздухе.
«Нет, ты мне скажи, я что, не имею права поспать после ночной?» – раздался за стеной рев, удар пинка, звук падения табуретки, плач ребенка, восклицание женского голоса. Саня рванулся из комнаты. Хижняк выскочил следом – удержать. (Когда-то однажды ехали на велосипедах по мосту – летом они пересаживались на велосипеды, многие из них имели разряд и но лыжам, и по велосипеду; и в этот раз в группе были новички, главное – девчонки: плохо владели машиной; их круто обогнал троллейбус и тормознул перед ними – с известной ненавистью к этим «бездельникам» того, кто на дороге «вкалывает». Гонщики к этому привыкают и всегда начеку, но новички… Получился большой завал. Вот так же перекрыло у Сани слух кровью. Мысль в такие минуты у него не действует, только пульсирует, бьется одно тугое, громадное чувство. Он вырвался, догнал троллейбус, настиг и, поравнявшись с водительской кабиной, сорвал с рамы насос и со всею полнотой чувства рассадил боковое стекло. Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына. Троллейбус шарахнулся, встал. Шум, скандал, милиция!.. Разбирательство. Хижняк стонал: «Ну, Горыныч, ну, горе ты луковое, сколько же с тобой хлопот, а, ты еще сам себе не надоел?»)
Хижняк выскочил за ним в коридор Горыныч уже выволакивал соседа – из постели, в трусах и майке, и тот от удивления даже не сопротивлялся. Саня волок его под мышки: за грудки не за что было уцепиться.
– Той-той-той! – притормаживал их Хижняк.
– Отлезь! – грубо рявкнул Саня, отдернув плечо.
Он выволок полуголого на улицу, на снег, и там смачно врезал. Тот упал чуть не под колеса подъехавшей тэцовской машины. Машина стала, из кабины попрыгали ребята. Хижняк остановился в дверях подъезда в одной рубашке, зябко спрятав руки в карманы брюк: дул студеный ветер.
Снег прилип к теплой коже и подтаивал. Взвившись с земли, поверженный ринулся рыхлой кучей на Саню. Такой молодой – и уже такой весь несобранный, размазавшийся, как каша по тарелке. Саня ждал. Подоспели ребята из машины. Саня тогда еще не знал их, он не работал еще на станции, как раз на Юркином новоселье-то Агнесса и позвала его на станцию… Сосед, отплевываясь и отвратительно ругаясь, отряхивал с вялых плеч налипший снег, затопал в подъезд, обещая Сане прекрасное будущее. Хижняк отступил, пропуская его. Секунду все неподвижно стояли.
– Ну, ребятки, за дело, быстро! – скомандовал шофер, относясь к происшествию как к забытому факту.
– Ну ты псих! – сказал Хижняк, берясь за торец дивана.
– Это ты псих! – злобно ответил ему Саня.
Теперь Оля шла с коляской по улице. Сане хотелось как-то обозначить свое к ней хорошее отношение. Сказать, что много с тех пор думал о ней: что так нельзя жить, как она, потому что так прожила его, Санина, мать.
Старый шофер Федор Горынцев выпил за свою жизнь море красного вина и море белого вина. Два моря выпил, сильно подорвался на этом деле и теперь слесарил в гараже из милости. Пропащий был человек, но не желавший это признать. Ибо, как бы низко человек ни пал, все-таки, глянув вниз, он увидит пример еще большего падения, и тогда он может еще и гордиться. «Какой Митька стал подонок – ой-ой – окурки подбирает! – брезговал старый Горынцев. – И в пиво водку подливает, – осуждал, – а это страшный вред!» Нуждался Федор Егорович в собеседнике, полном уважения и сочувствия, – чтоб этот собеседник разделил его презрение к павшим ниже его. «Митькина баба говорит ему: вот если бы ты был как Федор, с тобой можно было бы жить!» – скромно подсказывал он жене. Но жена – постоянное великое огорчение его сердца – не принимала подсказки, ничуть им не гордилась и жила, не понимая своего счастья. Ему становилось скучно от такой недооценки, но приходилось эту скуку теперь сдерживать, потому что сыновья выросли, а раньше он ее немедленно выражал, как только она возникала. Это сейчас все его самовыражение стало безобидно и даже забавно, но так было не всегда. У матери навечно выработалась такая мимикрическая манера поведения: она вроде бы и слушала, но не отзывалась; как бы занята была все время кастрюлями и горшками. Ибо выказать неодобрение было опасно, а поддакнуть не позволяло остаточное достоинство честной крестьянки. За долгие годы такой жизни она вообще отучилась от мимики и стала как иностранный разведчик – с намертво замкнутым и остановленным лицом. «У тебя, мать, морда все время стоит на «нейтралке», – рассуждал выпивший старый шофер. – С тобой, мать, далеко не уедешь».
Пока Саня набирался духу, Оля свернула с коляской во двор церковной ограды. Саня остановился, сомневаясь, можно ли ему тоже войти, пустят ли. Ему казалось, что входить сюда позволено только чистеньким старушкам и тихим девушкам.
Оля в глубине ограды оставила коляску, убедившись, что ребенок уснул. Саня топтался в воротах. Мимо него уверенно прошагал внутрь какой-то крепкий мужчина, и Саня пристроился за ним, применив навык детства проскальзывать в кино мимо билетерши.
Ошеломленно огляделся – внутри было настолько все иначе, чем за стенами снаружи, – как будто он долго ехал, преодолевая тысячи километров, пересекая климатические пояса, материки и меридианы. В этом мире было и сумрачно и светло одновременно. Горели тут и там, группами и поодиночке свечи – от их тихого пламени было тепло, и чуть слышный, как электрический, треск стоял в воздухе.
Пространство храма пересекали по своим делам старушки и средние женщины, они покупали свечки, возжигали их перед иконами, о чем-то совещались со священником. Тетушка за кассой со сноровкой отпускала товар, ласково улыбалась и время от времени очищалась при помощи крестного знамения, как птица отряхивает перышки, постоянно соблюдая себя.
Оля подошла со свечкой к темноликой иконе, подсвечник перед которой пустовал. Не оказалось огня засветить. Пришлось ей сходить к другой иконе, к какому-то, видимо, очень могущественному святому, перед которым сияло, как на елке, от просьб и благодарностей. Она зажгла там свечку и, заслонив пламя ладонью, осторожно понесла свою жертву бедной богородице, которую обходили стороной. Одинокий огонь установился и, потянувшись ввысь нетерпеливым язычком, затрещал, как скворец, лик сироты-богородицы озарился, Оля стала глядеть в него долго и неподвижно. Побеспокоить ее здесь Саня не посмел.
Неподалеку сидела на приступочке бабушка в черном платке, она сидела смирно, имея впереди непочатый край медленного времени; благодушно, с равномерным чувством она посматривала по сторонам, и было ей, видно, хорошо и покойно. Поглядела она и на Олю, стоящую к ней боком, – на это сиротское противостояние перед единственной свечой – поглядела и увидела, как у Оли от чувства выступили слезы. Бабушка немедленно прекратила свой благодушный покой, душа ее мобилизовалась на выручку – и глаза готовно намокли, она подоспела к Оле и тронула ее за плечо:
– Ты, милая, когда свечку ставишь, так обязательно поцелуй икону-то! Нагнись вот так вот и поцелуй. И перекрестись! – Все это она тут же и проделала для науки. – И скажи: «Пресвятая дева богородица, помоги ты моему горю!»
И, воскликнув эту краткую молитву, бабушка так прониклась ее смыслом, что и вовсе уж расплакалась, деля Олину неизвестную беду. Оля не вынесла бабушкиного сочувствия, ведь наступающее при этом облегчение ноши болезненно, как освобождение ноги от тесной обуви, судорожно всхлипнула, отмахнувшись, шепнула «спасибо» и отошла прочь. Отошла в уголок и стояла теперь там, обратившись лицом к другой иконе, – Видимо, совсем бессильной, ибо перед нею даже подсвечника не было поставлено.
В другом крыле храма священник, собрав старушек, совершал скромную службу. Старушки специальным образом в нужных местах хором поддакивали, где-то кланялись, а где-то отзывались особым кличем, который было не разобрать. Саня позавидовал единству их устремления, ему бы тоже хотелось стоять с незнакомыми добрыми людьми и петь с ними один гимн, присоединяя свою маленькую волю к их маленьким волям, чтобы возносилось это общее пламя, набравшее мощь, к единой точке ввысь, – но он не знал слов да и постыдился бы, такой молодой, большой и сильный, присоединяться к стаду мелких старушек. Священник тоже был молодой, большой и сильный, но он не стыдился компании старушек, – доведя молитву до конца, он перекрестил их, поклонился и сказал: «Простите меня!» А старушки тоже поклонились, перекрестились и ответили вразнобой: «И ты нас прости!» Великий пост был, время печали, и распятие покрыто черным траурным кружевом.
Саня вышел наружу. В коляске ревел Олин ребенок: проснулся, сел и ревел, какая-то тетенька мимоходом трясла коляску и уговаривала ребенка. Саня подошел, отнял у нее, сам стал уговаривать, а тетенька пошла в храм. Ребенку было года полтора, он, наверное, уже соображал и от Сани принялся реветь еще пуще.
Подоспела Оля с благодарно-извиняющимся лицом.
– Вы меня не помните? – увидел Саня.
Она застыдилась: нет, не помнит.
– А я бил вашего мужа, – простенько сказал Саня.
Она пугливо взглянула и застыдилась еще больше: за такую свою неприглядную судьбу, на которую без всякой радости пришлось взирать этому постороннему человеку. Она молчала. Саня сказал:
– Видимо, свечка – это не что иное, как огненная жертва. Сжигаемое богу жертвенное вещество. Воск живых пчел.
– Да? – удивилась Оля. – А я думала, просто, чтобы горел свет… Помните, «засветила богу свечку…»? Именно «засветила».
– Наверное, и то и другое.
Они вышли со двора. Ребенок успокоился от близости матери, но, спасаясь от новых страхов, вцепился в нее взглядом – неотрывно, как рукой за подол.
Вдоль чугунной ограды церкви гнездились просящие старухи. Оля достала из кармана мелочь и стала оделять их медяками, никого не пропуская. Те ее благословляли и утирали пальцами уголки ртов.
Вдоль ряда шла навстречу со скандалом нищая пьяница, отругиваясь от кого-то невидимого и ненавистного. Щербатый рот разбрызгивал слюну.
Саня подтолкнул Олю:
– Этой дай!
– Она не просит, – попятилась Оля, но потом послушно двинулась навстречу той, издалека протягивая пятачок. Та поглядела недоверчиво: что это, ей? – а потом вдруг разом поверила: ей! – и простерла руку, и взяла пятачок, и воссияла, улыбнувшись Оле полупустым ртом, и все кругом озарилось.
Оля благодарно оглянулась на Саню – тот смотрел в ответ со скрытым великодушием, со сдержанным счастьем старшего брата. Он копил по крохе, собирал по грошу – и вот принес своей сестре мечтанную долгожданную куклу, безразлично протянул и отвернулся, не интересуясь видеть, какая радость им сотворена.
У Сани не было сестры. У Оли не было брата.
Церковь осталась далеко, движение улиц тоже – стало тихо, и можно говорить такое (потому что настал вечер, совсем иные силы, чем днем, заступили на дежурство в природе, а человек лишь часть природы, повинующаяся ее законам и ее дежурным силам весны, осени, утра, вечера или дня) – можно стало говорить такое, чего не скажешь среди дня.
– Подруги, конечно, у меня есть… Но такой одной, чтоб как сестра, чтоб уйти к ней жить… Я тысячу раз надумывала: надо уйти. Но как начну представлять но деталям: вот кроватка, вот тумбочка, в которой все его рубашки, ползунки, игрушки, вот коляска, ванночка… И где взять машину, и кто мне все это поможет грузить, и сколько надо платить шоферу, и ведь убегать надо тогда, когда его нет дома, а то догонит и просто убьет… А что? – да, убьет. Вон, видишь, самолет в небе как похож на акулу: плывет вкрадчиво, не шевеля плавниками… Мы еще только поженились – и вот был такой случай, на берегу пруда… Там лещи от стоячей воды, что ли, болеют чем-то; иногда смотришь – плавает поверху, хребет так и рассекает воду, а в глубину уйти не может. И вот он разделся и пошел купаться. Я помню, он идет, свесил плечи – руки длинные, сутулый – ну горилла, – на бедре татуировка; он побрел в воду, а на него наткнулся такой вот обезумевший лещ, и он его – хлюп, хлоп! – выловил, сразу взбудоражился, попер к берегу. Я ему: выпусти! А он: да нет, он не глистастый, смотри, нет глистов – и стал давить его, чтобы показать мне, ЧТО из него выдавливается, я сразу отвернулась. Он думал, что ли, взять его зажарить? – не знаю. Говорит, нет у него глистов, у глистастых брюхо вздутое. Пальцы всунул в жабры, хрустнул, переломал – и радуется, улыбается. Лицо всегда однообразное такое, угрюмое, а тут он улыбался как умел. Но я тогда ничего этого не понимала, совсем вслепую жила, наугад, и все время хотелось надеяться на лучшее. Все плохое, думала, это случайность, и оно сразу забывалось, а мелькнет хорошее – ну вот это и есть настоящее в человеке, вот так теперь всегда и будет. Ведь я не знала, как должно быть в семье, я не знала родителей, а тетка моя одинокая была и умерла уже. Я говорю ему: «Сумасшедший!» Я думала, это он просто сумасшедший и не соображает. Зубы у него впереди железные, живот ленивый, спина проседает, не держится прямо – и все свидетельствует мир, до последней черточки, до последнего жеста все свидетельствует мне, а я не вижу, не хочу видеть ничего, что страшно. Там на берегу женщина какая-то была с ребенком, она подбежала к нам – показать ребенку рыбку, а потом увидела, что он делает с этой рыбкой, и у нее на лице ужас, она сразу отвернулась и пошла, и ребенка своего отвернула и к себе прижала. Я только по ее ужасу и догадалась, что надо ужасаться. А он как танк, не знает, куда девать свой раздавливающий позыв, он эту рыбу подбросил вверх – свирепо, радостно, кровожадно, – чтобы она оттуда как можно ужаснее низверглась – об воду; сам глядит, а она, мертвая, поруганная, кувыркается в пустоте, боками напрасно блещет, падает сверху в свою бывшую родную воду – как на еще одну погибель. Как будто можно погибнуть дважды. Наверное, можно – иначе почему так жутко было глядеть, как она, мертвая, падает. Я смотрела, вся внутри себя калачиком свернулась, ничего не понимаю, а он весь в радостном возбуждении, дождался, когда она ударится об воду, снова запрыгал к ней, настиг бедный этот труп, никак не может остановиться: еще раз так же страшно, бесновато вышвырнул ее – теперь на берег.
Я ее схватила на песке, бегу, несу к воде: думаю, может, она еще что-то чувствует и ей легче будет, если я ее бережно в воду опущу – спокойнее: тише умирать.
А он зубами железными блестит, радуется:
– Да она уже все, сдохла! Я же ей жабры переломал.
А я все равно ее в воду. Он тогда рассердился: «Пруд заражать, да?!» Вознегодовал. Не помнит, как сам доказывал, что она без глистов.
Потом он забыл про рыбу и поплыл. Долго шел по воде, мелко было вначале. Идет, сутулый, ручищи в воде мочит. А эта женщина, что ужаснулась, снова мимо меня проходила, и на лице у нее еще содрогание, она на меня глядит, колеблется, а потом сказала: «Девушка, он тебя стопчет!..» А что мне было делать, я уже беременная была… Но я потом приспособилась: он говорит – я не слышу. Смотрю на него – и не слышу. И еще нашла себе спасение: во времени прятаться. Ага. Ведь ночи и дня – поровну. А эта мука с ним – только днем, когда он не спит и не на работе. Значит, надо просто дотерпеть до ночи – а там и отдохну. Ну вот как работник ждет конца смены или отпуска, так и я пережду свою «смену», и тогда начинается моя настоящая жизнь – когда я сплю. Я так все изменила в себе, что будто бы происходящее днем – это сон. А когда я сплю – вот это и есть жизнь. Днем перемогаюсь, как будто страшное кино смотрю, которое меня совсем не касается. Кино это не про меня вовсе. А сны стали как многосерийные фильмы – с продолжением и без окончания. Я уже помню, на чем проснулась, и как только до подушки, так включаю свое кино с того места, на котором остановилась – и полетели!
– Эх, Оля… Сын-то у тебя не летучий.
– Комната моя, мне дали. Но он не хочет уходить, говорит, имеет право на жилплощадь.
– Значит, Оля, должна уйти ты, – непреклонно сказал Саня.
– У меня никого нет. Тетка моя когда умерла в деревне, я приехала сюда в ПТУ, потом работала и жила в общежитии. С ребенком в общежитие не пустят. Да и стыдно: дали комнату, а я опять же иду к ним проситься.
– Есть один выход, – неумолимый, как хирург, настаивал Саня. – Тебе надо идти работать в детский дом. Я не знаю, но мне кажется, там должны давать возможность жить при детях. Ведь детям от этого тоже хорошо: у них как бы круглосуточная мать. Ты ведь любишь детей?
– Да.
– Давай я все выясню, что и как.
– Давай, – просто согласилась Оля, чувствуя, что от Сани можно брать без боязни – потому что он как брат.
Саня отправился домой. Целые колонии частных домишек лепились заплатками на плане города. Был бы еще город Ташкентом, но, увы, во дворе у жителя такого тараканьего поселка не росли черешни, у него и помидоры-то не во всякое лето вызревали, а зима в аккурат втрое дольше лета. Воду там носят из обледеневшей колонки, а во двориках сумрачно от тесноты. Дом, в котором вырос Саня, был кривобокий, с отростками – потому что разделился когда-то на два хозяина, и каждый из владельцев расширился куда мог, налепив пристроек. Не дом, а коралловый полип. Похоже на времянки палестинских беженцев, но Сибирь не Палестина, и полипы пристроек надежно утеплены – но это еще хуже: непроветренный воздух уплотняется до вязкой густоты.
Саня твердо сказал матери:
– Есть одна девушка с маленьким ребенком. Им некуда деться. Вот я получу комнату, а она у тебя поживет пусть пока.
– Ох, Саня… Один ведь всех не спасешь.
– А я не один.
Ты не одни? – взвеселилась мать. – Неужели еще где-то видел такого дурака?
– В общем, сделаешь, как сказал! – сверкнул на нее грубым взглядом Саня. Он вообще был груб с матерью, которую любил и жалел. Так было лучше. Потому что, обращайся он с нею нежно, она узнала бы, как бывает между людьми, – и тогда зрелище всей ее жизни с мужем, прошедшей в унижении, страхе и позоре, было бы ей нестерпимо.
В мае Саня действительно получил комнату: Агнесса сходила к Путилину, Путилин позвонил другу, еще звено-два, и до сдачи нового дома, ведь ждать его больше года, вырешили Сане комнату в семейном общежитии братски расположенного рядом с ТЭЦ завода. Что ж, Саня и не мечтал. «Вот и все, – огляделся в своей комнате. – И больше, честно говоря, мне ничего не надо, только бы это не отобрали», а ребята потом орали «горько!», узнав, что странные супруги Горынцевы, имея сына, до сих пор еще не жили под одной крышей. «Горько!», а Вали-то нет: ушла укладывать спать своего сына у кого-то из соседей по коридору, и вот тогда Ритка Хижняк – как обычно: «Нет, вы поглядите, он гуляет, а жена только подает на стол и водится с сыном! Ты скажи, Горынцев, змей ты Горыныч, когда кончится это притеснение женщин! Я вовлеку твою жену в союз борьбы за ее освобождение». А сама же первая ее презирает. «Не вовлечешь!» – процедил Саня, не взглянув.
И работой, и комнатой этой он был обязан, может быть (в конечном счете), дружбе с ее мужем, и, видимо, поэтому Рита чувствовала себя тут как барин-благодетель, как куражливый клиент в ресторане, заранее заплативший за бой посуды. «И как только женщина может переносить такое к себе отношение? Я бы не выдержала и одного дня!» – «К тебе, Рита, относятся лучше?» – спросил ядовито, с подтекстом и с готовностью раскрыть этот подтекст. «Да неужели нет!» Рискует. «Ну и слава богу, – все так же опасно сказал Саня. – А что касается нас с Валей, то мы знаем, какие у нас отношения!» – «А я не верю, что за хамством могут скрываться какие-то хорошие отношения!» – задирается, ох нарывается Ритка. «Зато ты должна хорошо знать, что скрывается за приличием! Сказать что?» – «Сказать!» – лезет Ритка на рожон. «Ну ты ладно, сядь!» – робко одергивает ее Юрка. Струсил. А Саня уже был готов пустить отравленную эту стрелу, язвить свою врагиню – его остановил Юркин испуг, эта его бессловесная мольба. И то правда, сказать-то можно – а что потом делать Юрке? «Хозяйке штрафную! – шумит тренер Михал Ильич, надеясь своей всеобщей любовью перекрыть, как козырным тузом, остальные карты возникающих здесь настроений. – Я желаю этому дому, – поднимает он рюмку, – чтобы здесь была полная чаша. И еще: чтобы Саня поступил заочно в институт. Ему надо расти дальше». – «Куда еще расти? – распущенно отозвался Саня. – И так уже метр восемьдесят», – потому что не знали они его беды, и то, как больно ему выслушивать их несбыточные пожелания. А Валя вздохнула и виновато потупилась. «А ты не относись к этому так легкомысленно, – подхватил наставительно Хижняк и развил плодоносную мысль их отеческого тренера: – Будешь учиться заочно. Поступишь сперва на подготовительные курсы. Семья будет всем обеспечена. Квартиру теперь уж получишь, Путилин мужик надежный, ты убедился, он не выдаст. Горячая вода будет – посуду мыть. Денег хватит – чего еще?» А Саня усмехался и пил. Он пил с каким-то вызовом – как будто мстил им за эти тосты. Юра успел и на этот счет предостеречь своего подопечного друга. За долг почел. «Смотри не переусердствуй! Вахтенная работа, знаешь, не терпит пьянства!» – «Есть, начальник! – Саня со злостью отдал честь. Что, Юрка всерьез считает его своим должником? Ну, если так – и вдруг холодно разъяснил: – Пока что я сам себе хозяин. И здесь я не на вахте. И никто никогда не посмеет мной командовать у меня дома. К вашему сведению». – «Эх ты! – возмутилась Рита. – Стараются для тебя, помогают, тащат! Только осрамишь всех». – «Осрамлю!» – непременно подтвердил Саня.
Михаил Ильич запутался в своей козырной любви и растерянно смотрел на враждующих ребят, своих воспитанников, выросших за пределы досягаемости его помощи.
Ночью Саня вздохнул возле своей жены: «А что, может… Еще ведь не поздно, срок небольшой, а? Сходишь, может?» Валя тоже вздохнула, промолчала. Это и было ответом. «Ну, с тобой все ясно!» Так кончилась Санина инженерная карьера, не начавшись. Смирно пахать по гроб жизни дэтом, дежурным электротехником, как Агнесса. А Валя робко попросила: «Сань… Отвернись, а? От тебя вином пахнет, а меня тошнит». Потом добавила: «Лето начнется, жара – тяжело будет… И живот что-то вроде быстро растет – как бы не двойня?» А Саня злорадно ответил ей: «Привыкай. Третьего понесешь – до самых колен отвиснет!» И она это безропотно снесла.
Иногда он сам удивлялся, сколько она способна снести. Это иной раз нравилось, иной – бесило. До какого же упора можно дошагать и докуда же она будет отступать без сопротивления? За преданность полагается быть благодарным, но иногда он ненавидел ее за то, что полюбила его с первого дня, с первого класса, и все десять лет мучила его этой немой, ни разу ничего не потребовавшей любовью. И одиннадцать лет, и двенадцать, и особенно в тот давний день, когда он пришел к ней – черный, дикий, в ссадинах лицо. Они жили неподалеку друг от друга и иногда встречались на улице – «здравствуй!» – «а, привет…» – а заходить к ней он не заходил – с какой стати? И – зашел вот. Сидел, сидел, потом дико посмотрел на нее и сказал:
– Вы все сволочи, так?
И она сразу приняла на себя вину за его горе: что мир не пригоден для справедливой жизни. Что есть в этом мире кто-то – ОНА – смертельно обидевшая Саню. Вот теперь пусть Валя ответит перед ним за всех сестер своих женщин. Она закрыла лицо руками и опустила голову.
Бедное животное – его подвели к жрецу, и тот возложил на его рогатую бородатую голову свои электропроводные руки. И перечислил все зло своего народа. Ощутил, козел, как сказанное стало твоим физическим свойством? – пора. Теперь гнать тебя палками в пустыню, прочь, обеззараживая местность от греха и позора (и это потом тоже было с Валей, и через это она прошла).
Она плакала, а он сидел рядом, откинувшись на диване, и, мертвый, ничего не делал, чтобы успокоить ее. Она склонялась, а прощения ей все не было за несовершенный мир, она опустила голову на его колени (тяготение – сильнее земного…), а он не пошевелился, не дотронулся, не погладил. Так она плакала у него на коленях, не принятая им. Потом он зло, яростно стиснул ее плечи. Как тот электропроводный жрец. Ощутила ли, жертва, что это входит в тебя через прикосновение? – ненависть.
Тут и произошла ее, бедной, брачная – и не ночь, а белый день стоял. Серый стоял день, черный.
Все она приняла, как свою вину за остальной мир. Кажется, он ее даже не поцеловал тогда. Он не помнит. Кажется, она так и осталась нецелованной, ставши беременной. А до того времени – до девятнадцати лет – у нее никого совсем не было. Ни свиданий, ни ожиданий. Нет, она была не хуже других, но так получилось, что никто ее ни разу не остановил на улице и не сказал – ну, что обычно говорится: «Девушка, а девушка!» Она выходила на проспект погулять – одна, – и никто ей не встретился. Пока не пришел к ней он. И так, не погулявши в девках, она очутилась сразу в бабах.
Работала на почте. Не стремилась ни к каким свершениям.
А Саня больше не приходил. (Почему – это уже другой вопрос. Сказать: стыдно было, противно от себя самого, потому и не казал глаз – это была бы правда. Но правда и то, что некоторые есть зачумленные, которые жадно и мстительно заражают других вокруг себя – и Саня, кажется, мог тогда это понять. Мне плохо – так пусть же и тебе! Меня предали – так и я тебя пусть предам! Великое в этом есть облегчение.)
Его взяли осенью в армию, а у нее вырос живот, отец сказал: чтоб он ее больше не видел. Мать тогда (она даже не спросила у Вали, о т к у д а – не хотела знать, так ей это было больно) начала разводиться с отцом, чтобы разделить их бедную квартиру в старом деревянном доме барачного типа – чтобы оставить Валю с собой. А Сане кто-то из одноклассников написал в армию в порядке сплетни, что наша-то, мол, тихоня Валя не замужем, а ходит с пузом. Саня ахнул, застонал, башкой о стенку ударился… Служба его сводилась к тренировкам и выступлениям за команду СКА, и ему не составило труда немедленно получить отпуск.
Он поехал жениться.
Валин отец сразу успокоился и примирился, а мать, наоборот, стала горевать и отговаривать Валю от такого замужества: уж лучше родить одной, чем немилой замуж, Валя и сама не хотела немилой, но Саня не спрашивал ее, хочет она или не хочет, он действовал без спросу, единоправно, и Валю это парализовало.
На свадебных фотокарточках в свете вспышки у Вали так и осталось навечно растерянное лицо, уже опухшее и искаженное беременностью, и просторное белое платье не скрывало живота. В руках она держала цветы, стараясь хоть ими прикрыться, а у Сани рядом было бодучее носатое лицо, готовое ринуться сей же миг на любого, кто ухмыльнется.
Никому не даст ее в обиду – сам будет обижать…
Ну, а насчет того, кому Саня обязан теперь этой комнатой, да и работой на станции, – так уж не Юрке, это точно. Единственное Юркино к этому отношение – то, что у него Саня познакомился с Агнессой. Агнесса и позвала его на станцию.
Она была в тот вечер на вершине благодушия – за ней ухаживал Михал Ильич, видно, старое железо еще магнитит. Он ей что-то напел про Саню. «Мне ваш дорогой тренер Михал Ильич сейчас рассказал, что, когда вам присвоили мастера спорта, вы отказывались получать, потому что, как это, одно дело выполнить норму, а другое спокойно ее держать, так?» – «Это было так давно, Агнесса Сергеевна, что я этого уже не помню». – «…Вы говорили, не могу, недостоин! Саша! Ваш дорогой Михал Ильич сказал мне, что у вас специальность какая-то тоже по электричеству, да? Он сказал, что в этом он ничего не понимает. Так что вы там кончили, мне это важно немедленно знать?» – «Я вкалываю, Агнесса Сергеевна, в кузнечно-прессовом цехе и уже сам забыл, что я кончил. Какой-то, помнится, техникум. Где-то у матери в сумке, завернутый в платочек, хранится мой диплом. У нее есть такая заветная сумка с документами и облигациями – она говорит, если вдруг пожар, она хватает эту сумку и больше ничего. Потому что, говорит, без документов мы никому не докажем, что мы вообще есть. Я ей сказал: да выкинь ты этот диплом! Не слушается!»
В тот раз им так и не дали договорить: жена Семенкова, взбешенная, все спутала, пришлось Сане взять ее на себя. А она и рада, что нашлось кому передать управление – как вожжи в руки – на, правь мной. Муж ее был добычлив и сметлив, но ведь надо же иногда, чтоб был кто-нибудь, у кого можно спросить: «Ну что делать, а?» – и чтоб поверить его ответу. Вывел ее в прихожую, она присмирела, только приплакивает понемногу, застегнул на ней пальто, увел домой, из открытой форточки новоселья доносился неистребимый смех Ритки Хижняк, и смех этот оставался на слухе, как царапины на коже, – почти болезненно.
Агнесса потом разыскала Саню – через Юрку… Велела привести на станцию. И в первый же день они с Семенковым поцапались. Агнесса их растащила, а Семенков, как птица, долго щетинил перья и косил кровавым глазом, огрызаясь. Когда уволился Егудин и назначили дисом Агнессу, Семенков обиделся, что не его. Жаловался Хижняку: «Что у меня нет верхнего образования? Так и у Агнессы нет. У нее опыт? А у меня толк. Да и с опытом, если разобраться: это как поршень в цилиндре – первое время он притирается, потом он в идеальном режиме, а дальше уж срабатывается и хлябает. То же и с опытом: первые пять лет он накапливается, потом он в золотом рабочем состоянии лет десять – ну а после уж извините меня! Так что я не знаю, не знаю, чего они хотят от Агнессы!»