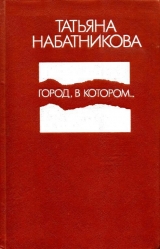
Текст книги "Город, в котором..."
Автор книги: Татьяна Набатникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
Глава 8
ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОРОШИЙ
Когда они только приехали в этот молодой арабский городочек и вышли в первый день прогуляться (однообразные, песчаного цвета, дома; отличительные лица – к т о г д е ж и в е т – появятся у этих домов позднее), то очень скоро прошли его насквозь – от пустыни до пустыни. Они остановились и испуганно переглянулись, пленники: дальше идти было некуда. То есть ровного места полно, но все оно пустое, бессмысленное – хуже стены. За стеной хоть, думаешь, ЧТО-ТО находится.
В стороне от города, на отлете скучилось глинобитное поселение – деревня. Она казалась издали замкнутой, непроницаемой, густо, тревожно и таинственно населенной и ничего хорошего не сулила чужаку, если посмеет сунуться.
Доступную же им площадь они, показалось, всю исчерпали в первую же прогулку. И что им тут делать впредь?
– Все, пришли! – сказал Юрка и злорадно рассмеялся.
Бедные, они с испугу забыли, что всюду, где ни живи, используешь совсем небольшое пространство радиусом не больше получаса ходьбы. И его хватает. А все разнообразие создается за счет дополнительной координаты – времени. На нее нанизываются все необходимые события, а пространство – это что-то вроде театральных декораций. Иной раз можно и вообще обойтись без них. И каким бы тесным ни было место твоего обитания – даже тюремная камера, – оно вмещает все, что касается тебя, а наружные размеры теряют значение.
Не дрейфьте, ребята, отвернитесь от пугающей бесконечности пустыни, возвращайтесь в город: он успел стать другим за то время, что вы глядели наружу. Люди уже отоспали свою дневную сиесту и выбираются из жилищ. Зажглись у базара цветные огни, шары их витают в воздухе, как сумасшедшие круги светил в небе Ван Гога. Слышна музыка. Базар – это торговое средоточие городка, причудливое сооружение, чередующее утробные зияния лавок и забегаловок, внутренние дворики, галереи и перекрытия. Вон уже машет призывно Валид со своей вечнозеленой улыбкой. Значит, вы у себя: есть кому окликнуть вас на улице, подтверждая ваше существование. Вашу необходимость на этом свете.
Сразу полегчало.
Люди тут спасаются только дружбой – в пустыне, на чужбине. То-то всегда полон здешний русский клуб, мужчины играют на бильярде и в шэш-бэш (вторая, сказал Коля Кузовлев, по интеллектуальности игра после перетягивания каната), а жены посиживают в баре «Эльдорадо» со своими детьми, потягивают банановый коктейль. То-то с такой радостью встретили их, новых, Риту с Юрой, с таким любопытством накинулись. Азербайджанец-завхоз лично сопровождал их в отведенную для них трехкомнатную (ужас!) квартиру.
– Тут с тряпкой ползать по полу не будешь, нет, – разливался-нахваливал. – Тут шланг и веник: все смывает вода, в углу сток. Уклон точный, не бойтесь затопить соседей, все подогнано. Стены тоже моются шлангом.
Он показал Рите: во встроенных шкафах приготовлен запас постельного белья, на кухне столовый сервиз – показывал так победно и торжественно, будто это его личный подарок семье Хижняков.
– А поменьше квартиру нельзя было подобрать? – спросила Рита.
Меньше здесь просто не строят. Конечно, чего им тесниться, топить-то не надо! Это в отечестве дом – убежище от холода. Здесь наоборот – от жары. Потому что плюс десять здесь только в декабре и январе, а в остальное время года плюс гораздо больше.
Неодушевленные залы комнат. Гулкие каменные недра. Холодным звуком отзываются на прикосновение железные тумбочки, стулья и кровати.
Когда азербайджанец ушел, Юра зло усмехнулся:
– Тоже «специалист», прикомандировался!
А тогда, дома еще, в тот день, когда он узнал, что командирован, когда свалилось на его голову это счастье (или несчастье? Интересно, что он почувствовал, когда узнал, что Рита ДОБЫЛА ему эту загранкомандировку? Впрочем, с чувствами у Юрки не особо. Ему некогда чувствовать, он все время соображает – как шпион, работающий на несколько разведок. Он хитрый врун, Юрка, и должен постоянно следить, как бы не выдать себя, другого, где не следует. Эта озабоченность все время проглядывает в его привычке то и дело озираться посреди разговора и в рассеянной поспешности на лице. Полноту чувства могут позволить себе только простаки, живущие на виду, в открытую, без оглядки), когда привалило это счастье, Рита, волнуясь, поджидала Юрку дома, зная уже, что он ЗНАЕТ, – и вот он наконец заявился поздно-поздно. Медлил, расшнуровывал туфли в прихожей, обстоятельно выравнивал тапочки, прежде чем всунуть ноги. А она, Рита, мужественно ждала, когда он закончит со своим переобуванием, чтобы встретить его прямым взглядом. Надо уметь растаптывать непоколебимым чувством правоты. Наконец он выпрямился. Смотрел мимо. Куражливо осведомился:
– Ну что, я один не ужинал? Или кто-нибудь составит мне компанию?
Сухо:
– Юльку я накормила. Тебя жду.
– Так, – понял он. – Своей новостью я, смотрю, никого тут не удивлю.
– Не удивишь.
(Главное – спокойствие.)
– Значит, в отпуске ты была не в доме отдыха.
Рита не ответила – ведь это был не вопрос.
– Так. Все понятно. Только интересно: ведь ясно же было – как только придет вызов, так все и обнаружится, – на что же ты рассчитывала?
– На то, что ты не дурак! – воспламенилась гневом и твердо посмотрела ему в глаза.
И он это съел. Он это просто съел.
Ничего. Юрка – современное цивилизованное устройство на транзисторах и микросхемах, слаботочное, неперегревающееся, способное, как электронно-вычислительная машина, выполнять миллион операций в минуту. Юрка – это ум, а не какая-нибудь глупая, бьющая себя кулаком в грудь нараспашку душа. Душа – это ламповое такое громоздкое анахроничное устройство, требующее себе напряженного питания и всегда готовое сорваться и сгореть.
В тот же вечер он уже сидел и деловито составлял программу тренировки, «…дымососы загрузились полностью, разрежение перед дымососами максимальное, а разрежение в топке упало до одного миллиметра водяного столба. Котел начал газить. Из-за нагревания газоходов загорелись кабели управления вспомогательным оборудованием…» Развивал он эту драматическую повесть, высоко ценя свою голову, испещренную техническими терминами, как инструкция по эксплуатации оборудования. Юрка любил технический язык, который дисциплинировал ум и заставлял его подтянуться, как военная команда «Смир-рна!».
Ничего, что вышла эта накладка с Насирией, ничего, что здесь ГЭС, а не ТЭЦ («ГЭС отличается от ТЭЦ примерно как американские джинсы от ватника», на что вечнозеленый Валид, козыряющий своим русским, уточнил: «Ватник – это то, что носят деревьяне?» То есть, по его, жители деревни…), ничего Юрка с его головой справится и на ГЭС.
На стенах бара «Эльдорадо» в цветном полумраке – чудеса полиграфии. Вот картинка: пасмурная прерия, стоит на равнине вдали красотка, по-ковбойски расставив ноги, и сурово глядит на зрителя. Другая красотка смотрит той навстречу с переднего плана, она тоже в ковбойской позе – стоит, уперев руки в карманы шинели, спиной к зрителю, но лицо вполоборота видно. Противостояние этих застывших поз, этот сумрачный пейзаж настраивал на мысль о вечности, но в расходящихся фалдах шинели сияют ослепительно прямо в фокус объектива голые ягодицы, ничего не ведающие о значительности лица их хозяйки.
– Отлично! – прицокнула языком Рита.
Другие всякие картинки… Этот неутомимый улыбальщик Валид, с которым познакомились еще на теплоходе (он возвращался из командировки в Союз, «прихожу в магазин, прошу: мне двести граммов праздник! – вместо брынза»), он и здесь их опекает, окутывает улыбкой, видит все насквозь и читает с лица, проклятый шпион. Его внимательный взгляд как бы пытает: ну что, Рита, нравится? Видишь, Рита, тебе здесь не будет ни тесно, ни скучно, ты сможешь получить сколько хочешь удовольствий и потрясений. Хочешь потрясений, Рита? Хочешь запретной и внезапно сбывающейся любви, а?
Не хочу. Ты принимаешь меня немножко за другое. Я приехала сюда не за потрясениями и не затем, чтоб испытывать свои возможности. Я замру. Я сольюсь с почвой этих мест, как ящерица, вы меня нигде не заметите и ни в чем не изобличите. Я умею подчинить свою чувственность разумной цели. Если я бегаю налево, Валид, так с толком. А здесь обойдусь.
Он подносит спичку к ее ароматной сигарете – тонкой, протяженной, золотисто-коричневой, он сожалеет, что Рита исключает себя из игры.
– Рита, ты высоко ходишь и думаешь: я всегда буду ходить высоко. Тебе тяжело будет упадать. Громко.
(Образец арабского мышления на русском языке.)
– Почему ж обязательно «упадать»?
– Ты пользу вещей ценишь больше, чем потрясение.
– Наоборот, это залог прочного будущего.
С сомнением качает головой местный мудрец. Про Юрку сказал:
– Юра – он такой человек: что дадут на тарелке, то и ест, не говорит, что соленое.
– Это хорошо или плохо? – спрашивает Рита.
Валид смеется, лоснясь. Не отвечает.
А про Колю Кузовлева:
– Он никогда не скажет на черное, что оно белое. Он силен и верит себе. Поэтому ему трудно жить. Он думает: я не уступлю. Он глотает воздух не от земли, а от неба, он пьет воду только из родника. Но пройдет время, он нагнется – радикулит. Он не захочет это показать и станет как хамелеон.
– Никогда! – обиделась за мужа Мила Кузовлева.
Валид невредимо улыбается, улыбка – ванька-встанька, не опрокинешь.
– Валид, лучше скажи, почему станция не охраняется? Взорвут ведь, – опасается Коля Кузовлев.
– Не взорвут – лень.
– А что, Валид, – интересуется Юра, – дать тебе миллион – не поленился бы ты взорвать станцию, а?
– Кто мне его даст? Миллиона ни у кого нет. Да нам интереснее так, из пистолетов перестреливаться. А взорвать – это скучно. Вы не понимаете нашей жизни. Нам не надо взрывать станцию.
У каждого под мышкой, под пиджаком пистолет на сложной системе ремней. Любят игру. Взрослые мальчишки. Стоило в Ливане начаться религиозным конфликтам, тотчас здешние христиане солидарно выпростали наружу свои нательные кресты: дескать, а ну вдарь!
Лаковоглазый бармен, купаясь в волнах дразнящей музыки из магнитофона, приносит коктейли. Глаза долу: делает вид, что его здесь нет, одни только его услужливые руки. Врет, все врет! В горячем ночном пространстве, пропитанном музыкой и цветными огнями, натянулись напряженные нити желания. Восточный воздух ночи заряжен – заражен любовью, и дрожат опущенные веки бармена, скрывая лихорадку, а женщина в этих местах стоит дорого в буквальном смысле, и бедный этот бармен нарочно каждый день в сонливые послеобеденные часы, когда жизнь замирает, прогуливается по краю большого, вогнутого внутрь земли пустыря, который засадили деревьями, назвали парком и поливали, так что деревья не погибли, и даже трава росла кое-где. Он стал прогуливаться здесь, потому что по этому «парку» с редкими торчками растительности совершали иногда пробежки две русские, женщины – Рита Хижняк и Мила Кузовлева в спортивных костюмах. Мечтал, наверное, втайне о какой-нибудь сладострастной иностранке – надеяться приходилось лишь на иностранку: только они были в любви не товаром, а свободными партнерами. А свои девушки – о, за самую плохонькую отец получит, продав ее замуж, тысяч десять – и уж задаром ни одна себя не отдаст. Копи деньги.
В парке паслось множество разнокалиберных детей. Завидев в первый раз этих бегущих иностранок, они всполошились, одна участливая девочка даже бросилась вдогонку, тревожно вопрошая: «Шу? Шу?» – что, то есть, что случилось, от какой опасности вы бежите и не помочь ли вам? – ах ты, душа-человек, спасительница, спасибо! Мила уже знала по-арабски слово «спорт» – «рияда», и девочка тогда успокоилась и радостно закивала, ведь во время праздников и шествий школьники хором выкрикивали: «Мир, спорт, труд, радость, свобода!» – и было ясно, что «спорт» – это что-то в высшей степени прогрессивное и с надеждой ожидаемое.
Потом дети привыкли и, похоже, нарочно поджидали их, чтобы, молчаливо сопя, пробежаться рядом, преданно поглядывая, оценили ли эти русские женщины их способность так прогрессивно бегать.
Хорошо! И никакого прошлого. Одно голимое будущее. Ни одного лица из прежней жизни. И не будет. Вернется теперь Рита уже только в Москву. Скажет Прокопию: обещал? – исполняй. Пусть старикашка создаст ей новую жизнь.
Это она еще на теплоходе поняла: все, прошлое кончилось. Плыла в заморские страны на комфортабельном теплоходе, семь дней в бездумном блаженстве; в ресторане подают невиданные блюда, по вечерам в музыкальном салоне оркестр демонстрирует новейшие достижения, а ты сидишь глубоко в мягком кресле и из цветного сумрака созерцаешь… И Валид: «Смотри, Юра, твою жену арабы своровут!» Не своровут. Ночью в двухместной каюте Рита любит своего мужа – за то благополучие, которое она любит больше всего.
Юрка, правда, боится: едет работать на ГЭС – не имея никакого опыта. Ему снились банкротские сны. Будто он прибегает, на вокзал с билетом на поезд, а вагона, указанного в билете, нет. Он пытается влезть в другой – не пускают. Поезд сейчас уйдет, и Юра опоздает за границу! Он в вокзальную контору к начальнику, сует билет, возмущается таким безобразием, а равнодушный начальник ему: «Да отстань ты!» И Юра понимал, что другого отношения к себе и не заслужил. Поезд ушел, а Юра смирнехонько устроился на какое-то попутное грузовое судно из милости: наврал, что он сварщик. Чтобы хоть как-то плыть в заграничную страну. Судно болталось на волнах, устройством таз, размером плот, матросы дали ему сварить какие-то железки, и он прикидывался умельцем, но руки ошибались, пламя гасло или горелка падала на дно судна, прожигая его. Матросы ходили и смотрели на все это с презрительным равнодушием. Наконец приплыли в вожделенную заграницу, Юра сошел на берег и навсегда с облегчением расстался с матросами – и вдруг вспомнил, к ужасу своему, что варил-то он совсем без припоя, голым пламенем. И никто ему не указал на это, потому что все давно поняли: он профан, чего с него взять, и просто решили молча перетерпеть. А теперь, наверное, разглядывают те его железки и смеются над ним. И невозможно вернуться и уничтожить свидетельство его позора. Эти сваренные железки остались там, на судне, вне досягаемости, и через них теперь грозила Юре опасность издалека, как если бы его печень, теплая и беззащитная, оказалась в отдельности от него где-то валяться и кто угодно мог наступить и насмерть раздавить ее.
Он доверился новому другу Коле Кузовлеву – признался, что на ГЭС не работал.
– А, ерунда, – невозмутимо отнесся Коля. – Закон Ома знаешь?
Юра испуганно кивнул.
– Будешь работать, – гарантировал Коля.
И Юра немедленно и надежно ему поверил, и теперь, если ему снился банкротский сон, он просыпался в жалобном испуге, озирался в темной каюте, за иллюминатором плескалось море колыбельной ночи, и как заклинание бормотал закон Ома: «и» равняется «у», деленному на «эр», успокаивался и засыпал.
А Рите было спокойно. Как бы там ни вышло у Юрки, у нее-то есть свое отдельное будущее. Колыбельные моря, колыбельные веяли ветры, чайки преследовали теплоход, ища легкой добычи в кильватере, красивые птицы, где их дом? – берегов не видать. Потом показалась земля: Греция. Репатрианты – те, чья это была родина, долго ждали ее, выстроившись на палубе у борта, и когда наконец она открылась им, заплакали. Они обнимали друг друга и плакали от долгой разлуки, которую они перетерпели, крепясь без слез (так ребенок плачет своей матери об уже миновавшей беде), и, не стесняясь, обращали друг к другу мокрые лица, побратавшись на этот краткий миг времени, а Рита смотрела на них со стороны с любопытством и не находила в себе даже предчувствия какой-нибудь там тоски по прошлому…
В зимнем Средиземном море вода оказалась ярко-зеленого цвета. «О маре, о маре верте!..»
А у Евфрата вода оказалась… Это было так неожиданно… Они ехали на пикник по дороге, какую в отечестве можно было бы назвать проселком. Но в отечестве проселок – это мозаика утрамбованной земли в окружении сплошного травостоя, а здесь дорога ничем не отличалась от прочей земной поверхности. Организм живой земли в этих местах пустыни не имел того избытка, чтобы родить из себя произвольно, без помощи человека, какое-нибудь дерево, куст или холм. Не было ни дерева, ни куста, ни холма – пустая даль до горизонта, засоренная камнями, с чахлыми торчками бесцветной травы. А если и были неровности – то от ущерба, а не от излишества природы. Холмы России вьются плавно, как музыка, здешние же негладкие места болезненны, как язвы и каверны на теле природы, как закаменевшие судороги. Бедные овцы! – они паслись по этим неживым поверхностям земной коры – и что-то ведь они там находили.
Евфратом можно было любоваться сколько угодно и из окон квартиры в городке, но надо было именно долго ехать по бесцветной пустыне, долго трястись на неровностях почвы, под блеклым выжженным небом, чтобы с той внезапностью вдруг открылась взгляду посреди скудной природы ничем не подготовленная яркая картина – животворная, лазурная, издевательски цветная влага – Евфрат, царственный поток, Эль-фурат, – и стало очевидно могущество здешней земли, все отданное, приведенное, сосредоточенное у одного этого потока. Зачем-то это нужно было природе: из средств своей бедности составить эту странную роскошь реки, вода которой, синяя, невредимо жила среди пекла. Она лилась, ненарушимо свежа; как породистая кобылица, она пересекала горячую пустыню даже без спешки, с достоинством бессмертной богини, которая не может никуда опоздать. Для чего-то это нужно было природе – сосредоточить всю себя в одной этой цветной воде.
Пришло время раскулачивать это могущество, разделить его силы поровну по всей площади пустыни, раздробить воду каналами, направить повсюду – пусть поделится бессмертием с мертвыми местами – и вот поглядим тогда, что станется с твоей синевой, Эль-фурат, нежное слово: сладкий. Неужто человек – ум природы?
Что сделается с синевой Евфрата потом, если даже сейчас она уцелевает только до станции. Там, с усилием нажав на лопасти турбин, отдав им избыток сил, вода истощается, становится серой, тусклой, и немощную эту водицу станция сплевывает вниз, подальше: иди, иди отсюда, бог подаст!
Мила Кузовлева прошлась по берегу колесом, осторожно ставя руки на колючую землю. Яркие рисунки ее купальника прочерчивали в воздухе молниеносные линии. За ней с визгом бежали ее сын Валера и приблудная арабская собачонка – пес Хаешка. Этого пса арабчата окликали «Хае!» – что значит «эй», и он недоверчиво приближался, зная, впрочем, что скорее дадут пинка, чем еды, но от чувства собственного достоинства ему пришлось отказаться, как отказывается от ценного груза корабль, терпя бедствие. Младший Кузовлев приручил собачонку себе в товарищи, и у бывшего бродяги и побирушки теперь отросла новая гордость, как отрастает у ящерицы хвост взамен отдавленного. И это, конечно, баловство, которого Рита не может одобрить, потому что ведь пса этого приходится кормить – кормить продуктом, купленным на самую что ни на есть валюту. Скармливать валюту псу – это был просто вызов всему командировочному населению, но Мила Кузовлева была подругой Риты, а Валера – сыном Милы, и приходилось все это терпеть.
Со всех окрестных холмов потянулись молчаливые пастушата, неразлучные со своими овцами. Смотреть. Они родились среди этой пустой корявой почвы в глиняных аль-избу, сросшихся с телом земли заодно, как бородавки, видели они только черных бедуинов, свои стада, синь Евфрата и звезды неба и жили издревле так же просто, как их овцы.
– Хае! Аглен! – приветствовала завороженных пастушат Мила и помахала рукой. – Агленус аглен! – и засмеялась, а они отпрянули, как от огня, и лица их исказились испугом – не таковы они простаки, чтоб пойти на контакт с миражем.
Простодушный пес Хаешка, охваченный интернациональным порывом, бегал от своих иностранных хозяев к своим соотечественникам на холмы и назад, осуществляя собой связь народов, и радостно лаял.
На закате небесного света гибкий Юрин силуэт маячил на фоне вспыхивающей воды, вот он прыгнул с одного камня на другой, потом на третий – от избытка сил, а Рита следила издалека и обнаружила, что никак не может взять его взглядом в свою собственность. Он не давался в родные, близкие глазу люди, так и ускользал все время в чужие, неудержимые существа, не знающие привязанности и приручения. Наверное, как узник и конвоир: они уже стали приятели за этап и вместе курят самокрутку на привалах, но конвоир отвернется – и узник сбежит, подведет своего приятеля под монастырь.
Свет неба иссякал, вода посерела, будто у нее отняли силу цвести (или у глаза отняли силу так чудесно обманываться), и Рита пошла на берег.
– Юр, – осторожно сказала она, – а если ты не получишь продление на второй год, тогда, значит, машина у нас никак не выйдет?
Половину своей зарплаты в здешних фунтах Юра перечислял в банк «Внешторга», обращая их в сертификаты, которые можно будет потом отоваривать в магазинах «Березка» – хочешь вещами, хочешь машиной. Половина месячной зарплаты составляла один большой сертификат. Машина стоила их четырнадцать, этих сертификатов. Стало быть, одного года работы не хватало на машину.
– Никак, – подтвердил Юра. Подумав, он добавил: – В принципе, ведь машину можно купить и не на сертификаты, а на обыкновенные деньги. Надо только, чтоб они БЫЛИ. Вот и все.
Это был у них очень важный разговор. Перед тем они тут многое поняли и много встретили неожиданного для себя. Оказалось, от географического перемещения из одной страны в другую стоимость некоторых вещей сильно возрастает. И можно таким образом увеличить свои деньги в двадцать, в тридцать и хоть в пятьдесят раз – исключительно переменой мест. Метр парчи стоит здесь два фунта – в переводе на рубли сорок копеек. А в родном государственном комиссионном магазине дают за метр двадцать рублей. То есть деньги увеличиваются в пятьдесят раз ни много ни мало. Моток мохера – два фунта, дома – двенадцать рублей. «Коэффициент» тридцать. Ну и еще кое-какие товары, коэффициент у них уже поменьше, но что делать, нельзя провозить парчу и мохер тоннами: существует таможенная норма провоза: сорок метров ткани на душу, десять мотков мохера. Если едешь один, имеешь право провезти норму на всю паспортную семью. Прямой смысл ездить в отпуск по одному: сперва едет жена с детьми и везет норму на семью, а потом едет муж – и тоже на семью. Для этого достаточно, например, телеграммы для жены: срочно приезжай, умерла твоя любимая тетка. Муж остается работать, жена едет…
«Представляешь, как на нас смотрят?» – печально говорил, просветившись, Коля Кузовлев. «Да-а-а… – осваивал Юра. – Несколько тысяч получается с одного рейса, так? Чистыми!» А Коля все горевал: «До нас тут, рассказывают, работали румыны и японцы. В ресторанах обедали. Не жались за каждый фунт, чтобы обратить его в товар. Не становились купцами. Теперь рестораны пустые стоят. Стыд-то какой». – «Ну и нечего мучиться, – решил Юра. – Все так делают?» – «Все, да не все. Тошно». – «А, ерунда. Сам видишь, узаконено даже: нормы есть». – «Нет, ты чего-то не понимаешь», – огорчался Коля Кузовлев, но дружбе это не вредило, ведь выбирать здесь не приходилось. Они работали в сложной обстановке, при становлении и пуске станции, и еще при этом они обучали здешний национальный персонал – и было не до того, чтобы чиниться в отношениях между собой.
После того как половина зарплаты отложена на сертификаты, из оставшегося (если экономно жить, а живут экономно, стараются) еще половина остается в свободном обороте.
– Тогда, значит, – заключила Рита в тот вечер на берегу посеревшего от сумерек Евфрата, – тогда надо сделать ставку на вывоз товара.
– Вот если бы устроить тебе какой-нибудь внезапный вызов. Тогда бы и вывезли две нормы…
Юрка натягивал после купания спортивные штаны. Становилось прохладно.
– Юр, – совсем смирно, задумчиво проговорила Рита. – У тебя ведь есть знакомый врач?
– Да где, нет! – сказал Юра с огорчением.
– Юр, ну как же, – усердно напоминала Рита, добавляя глазами и молчанием. – Есть у тебя знакомый врач! Ну, врачиха…
Юрка дико взглянул:
– Ну. И что?
– Ну и попроси ее, пусть сделает мне телеграмму, заверенную по форме, как там это делается, врачи должны знать… Телеграмму, что, мол, так и так, умерла… – Рита запнулась перед тем, как произнести вслед за этим имя своей матери.
– Да? – поразился Юра.
Они помолчали. Тихо было над арабской пустыней. У палатки Коля Кузовлев варил на походной газовой плитке уху. О костре здесь мечтать не приходилось: нечего сжигать, вся древесина обратилась в глубинах земли в нефть. Над пустыней зажигались в опустившейся тьме вангоговские огненные шары – это бедуины освещали свой вечер китайскими фонарями – хитроумными такими устройствами, в которых пары керосина сгорали по шаровой поверхности и свет давали изобильный и яркий.
– Только письмо для нее – ну, в котором ты ее попросишь об этом, надо будет с кем-нибудь передать в руки, кто едет в отпуск, – надежнее, чтоб бросили в ящик там. Чтоб не думать об этом… М?
Юра быстро кивнул. Рита сразу отвернулась и с облегчением выполненного долга пошла к палатке, помогать Миле в приготовлениях к ужину.
– Вот, – сказала она Миле, как бы ставя точку своим мыслям. – А душу начнем воспитывать, когда вернемся домой. На сытый желудок оно пойдет лучше, воспитание души. Так и Маркс, по-моему, учил?
Это у них накануне разговор был – для чего человек живет. Они как раз делали вдвоем покупки для пикника. (Мясные консервы, голландский сыр, овощи и фрукты, коробку шоколада, большую коробку печенья, масло. У каждого торговца на полках громоздятся этажи баночек, коробочек, пакетов – не разобраться в пестроте этикеток: зубная паста, масло, хна, жевательная резинка, макароны, на полу мешок с орехами и кастрюля с лябаном – овечьей простоквашей. Торговец наливает тягучий ацидофильный лябан поварешкой в полиэтиленовый пакет, взвешивает и завязывает тугим узлом. Готово.) Рита рассказала, как в Москве она спросила у одной старушки дорогу в магазин, а та хвастливо объявила, что дороги в магазин не знает, а только знает дорогу в музей. Такая вот прогрессивная. Я, говорит, как ушла на пенсию, так стала питать исключительно свои впечатления: хожу на выставки, в театры, читаю книги и вообще. А Рита глядит на нее и с ужасом думает: ну и куда же ты эти впечатления копишь? Помрешь не сегодня завтра, и все они пропадут. Это ведь не деньги, их в наследство не передашь – так на кой леший их набирать, на смерть глядя?
А Мила Кузовлева с ней не согласилась. А если, говорит, представить, что смерть – это роды в другой мир? Как рождается человек из матери в этот мир, так потом из его материального тела вылупляется следующая стадия существования – душа, в иной мир, в следующий. Девять месяцев тебя вынашивала мать, пока ты развивался из зародыша, а вся последующая жизнь дается для того, чтоб ты выносил в себе и развил душу. И вот настает такой момент, душа созрела и проклевывается наружу, как цыпленок, а ненужное тело, как скорлупа, отпадает.
Однако, сказала Рита, большинство людей живут как придется, никто эту душу не вынашивает и не беспокоится о ней – Рита, по крайней мере, таких не встречала, – а ничего, все благополучно умирают, и скорлупа их бренного тела отваливается так же успешно, как с поспевшей души.
– Это выкидыш! – убежденно сказала Мила.
Тут же на базаре пекарня: пресные лепешки и батоны продают прямо из печи. Толкутся в очереди вертучие ребятишки, покупают для семьи на день тридцать – сорок лепешек и раскладывают их студиться на затоптанном асфальте. Чтобы не обжигать руки.
– Пустяки, – говорит на это Мила. – Иммунитет надежный.
…Нет, ну а что, ну получит Рита телеграмму, что умерла ее мать. Ну, и что тут такого опасного? На самом деле ведь она от этого не умрет, ведь так? Это ведь сплошное суеверие, когда говорят: «накаркаешь». А раз суеверие, значит, никакого вреда никому не будет. Ну кому вред? Никому. В школе же учили: материя первична, сознание вторично. Значит, наоборот не может быть. И телеграмма о смерти не может вызвать эту смерть. Ну кто пострадает? Никто. Одна только польза всем!
Нет, все нормально… Все будет хорошо. Юрка должен написать письмо своей этой. Рита только чуть-чуть поежилась от какого-то внутреннего неудобства. Ничего, терпимо. Все нормально.
Юра глядел на пламя горелки в темноте и красив же был в этом синем фантастическом освещении. Его красота была вся на поверхности, как сливки, – не нужно была нырять за ней в глубину, она доставалась каждому, кто ни взглянет. Красота его создавалась не чертами, не росчерком линий, а цветом: черные волосы, брови, синие глаза. В цветовом этом шуме черты уже ничего не могли значить, а они у Юры были слабые, размытые.
Выпьешь – хорошо становится, мир потек цветами побежалости, как бензин по воде, радужный, расслоился. Рита с Юркой тут за границей открыли для себя эту благодать напитков («А ты заметил? – когда пьешь, есть уже не хочется». – «Ну дак! Севка Пшеничников мне это научно открыл! Спиртное – чистая энергия, еда уже не нужна». – «Слушай, так это же выгодно! Здесь такой дешевый коньяк». – «Ну, выгодно, не выгодно, а совмещать есть смысл: немного вина, немного продуктов». – «Надо закупить сразу побольше. Оптом у них дешевле». – «Давай-давай постигай!» – одобрял Юра.)
Жевать латук, глядеть на огни пустыни, обсуждать работу на станции, добродушно посмеиваясь над религиозностью арабов, над их слабостью к чаю и кофе, и что на станции есть специальный шибаб, который только и делает, что без конца заваривает и разносит всем чай. А на уборщика нет ставки…
– Вот такие люди! – сделали заключение Юра с Колей Кузовлевым.
– Люди все хорошие! – округлила Рита эту сумму и сама таким образом очутилась в ней.
– Скажем так: все люди способны быть хорошими, – уточнил Коля.
– Ик, – сделал Юра.
– Иди отсюда! – погнала его Рита.
Рассуждая дальше, окончательно установили: у плохого человека просто шире диапазон поведения, чем у хорошего. Плохой человек всеяден, тогда как благородный избирателен: есть вещи, которые он отвергает решительно. А плохой человек приемистый, как трактор: нет ничего недопустимого. Хоть в хорошем своем проявлении он может сравниться с лучшими людьми.
– «Братья Карамазовы», – пояснила Мила. – «Широк человек, я бы его сузил».
Это было Рите непонятно, «Братьев Карамазовых» она видела в кино, но что касается философских выводов, то она приходила к ним самостоятельно – к тем выводам, которые годились для обслуживания ее потребностей.
Рита подумала – и решила, что звание плохого человека в таком случае не так уж и обидно. Сойдет, решила она. Ничего. Главное, плохой человек полностью включает в себя хорошего и еще при этом кое-что сверх того.







