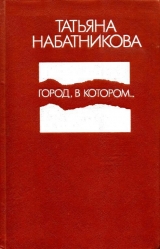
Текст книги "Город, в котором..."
Автор книги: Татьяна Набатникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
– А, – махнула рукой и подмигнула неумелым оком. – Кто не рискует, тот не пьет шампанское.
Мигун-то у нас, чемпион по подмигиванию, – Семенков. Его, стало быть, заело… Дескать, чем я хуже Агнессы? Сидел бы, прижавши зад, затих бы, помалкивал. А теперь как старуха с рыбаком и рыбкой. Разбитое корыто.
Так что же, что же авитаминоз-то, отчего? Чего не хватает? Не распознал, вот что. Критерий подвел. Хижняк-то, а? Не распознал… Путилин чувствовал какую-то муть на душе – как изжогу. Хотя он старался со своими чувствами по возможности не считаться, потому что стоящее на свете – не чувства, а дело, которым ты занимаешься. А чувства – это так, неразбериха одна. Подводят. Особенно когда ты полководец целого коллектива и должен подавлять свою приязнь и неприязнь, как неустанно учит его Агнесса, – чтобы коллектив был действенным. Уж это точно: каждое сообщество – хоть самое маленькое – всегда некий генератор, который производит отличную от других частоту и мощность. Это еще в школе было явственно: каждый класс – как отдельное, отличное от других существо. И излучает свой неповторимый свет. Цвет. Серый, сиреневый, черный. Первый класс купил колбас, второй резал, третий ел, четвертый… И все это черт его знает от чего зависит.
Должно зависеть от тебя.
…После института он попал на завод, в отдел главного энергетика. Там организм с его неповторимым излучением был такой. Верхушка, элита, человек десять – главные специалисты и пр. – обедали в столовой в отдельном зальчике, и заведующая столовой самолично, пава, покачиваясь, несла им на подносе, как официантка, отдельные их борщи через общий зал. Так было заведено, и все остальное из этого вытекало. Путилин со своего юношеского места не смог бы это свернуть (свергнуть), да и не был уверен, что это надо, он ведь еще не знал, как должно-то быть? Противно, правда, это было, чувствовал. Сидел раз в кабинете предзавкома, юный профорг (в колхоз посылают и профоргами выбирают всегда молодых специалистов – пусть отдуваются!), дожидались кого-то еще, а у преда на столе то и дело звонит телефон. Снимет он трубку, на Глеба покосится и потихоньку у трубки спрашивает: «Тебе какой размер?» – и в сторонку откладывает талончик. Нововведение такое было: распределяли дефициты всякие по справедливости: на каждый цех, отдел давали несколько талончиков (сапоги, ковры, платья…), и люди тянули жребий. А у предзавкома, оказывается, сверх справедливости еще оставалась на столе такая кучка талончиков. А Путилин сидит – молодой, глупый еще (не разрешивший себе пока быть умным – это ведь дело волевое) – и не знает, как ДОЛЖНО БЫТЬ, хотя чувствует: гадость-то, господи, мужик сидит здоровый, сильный, тряпки исподтишка распределяет. (Еще с той поры запомнил это гадостное чувство, и сам никогда, и жене строго наказал: я тебе погоняюсь за дефицитом! Зашла в магазин – что есть, то купила и носи. Сапог нет – ходи в валенках. Но чтоб этих страстей доставальных я не видел.) И тут влетела в кабинет Белкина, начальница планово-экономического отдела, на лице – скорбная озабоченность: только что через сложные связи «достали» аж в Вильнюсе врача, ужасно крупного специалиста, – надо Каюмова, захворавшего начальника производства, срочно везти!
– Двести хватит? – понятливо осведомился предзавкома и опять покосился на лишнего Глеба.
– Хватит! – скорбно кивала Белкина. Она-то Глеба не замечала: не та величина у него, чтоб замечать. Он был настолько малосуществующ для нее, что она могла, пожалуй, сесть на стул, на котором он уже сидел. Глеб даже машинально выставил ладони на коленях: защититься в случае чего..
– Но ты же имей в виду, Коле Заступину скоро в отпуск, ему-то рублей хоть двести останется? – тревожилась Белкина.
Коля Заступин – это был главный технолог, тоже из ихних «своих». Управленческая элита держалась дружной кучкой, и Белкина была там хозяйка, боевая подруга и знаменосец – трогательно преданная «своим» и презрительная ко всему остальному миру.
– Останется, – заверил предзавкома.
И то рассудить: фонд материальной помощи завкома стоит ли дробить на бессильные десятки – ведь в положении нормального человека десятка ничего не изменит, а заводчане все были нормальные люди, нищих не водилось – и куда разумнее было разделить этот фонд между «своими» по более ощутимому кусочку – к отпуску…
Нет, они не считали, что поступают несправедливо. Была даже своя жертвенность: «А Коле Заступину?..», священные узы братства. Ради которых та же Белкина стопчет весь мир, не поколебавшись.
Как-то потом Глеб видел ее в аэропорту: она вдвоем с директором направлялась в Москву, – видимо, везла отчет в главк, и они совместили свои командировки, чтобы вдали от свидетелей гульнуть в метрополии за казенный счет. Они ждали посадки и чувствовали себя уже в безопасности – как человек, удирающий от погони, всходит на судно под флагом своего отечества – и уже недосягаем для чужеземной полиции. Белкина держалась обеими руками за локоть возлюбленного, наморщив лоб и с немой мольбой заглядывая в его лицо. Директору было проще, мужская роль в этом спектакле легче: только лишь снисходить и сдержанно принимать нежные муки женщины… Уж они старались, бедные, – а что делать, приходилось участвовать в обязательных играх, приличествующих их кругу.
И понял Глеб, что надо бежать оттуда, бежать куда подальше из этого монастыря в какой-нибудь другой, ибо в каждом, как известно, свой устав. Он не мог поменять устав, но он мог выбрать подходящий монастырь.
Судьба, спасибо, свечку ей поставить, занесла на ТЭЦ. Здесь царил иной дух. Служили не себе – станции.
А она, кормилица, домашняя животина, что-то вроде коровы: доят ее, но уж жалеют и холят! Да она и есть корова – цельный организм, и в утробе ее все устроено как в живом теле: теплокровные, работающие согласно и дышащие запарно органы. Тут бьется влажная печень, наполняя сосуды пульсирующей жидкостью. Тут есть сердце, есть мозг и есть все, что надо для вывода шлаков. Не корова, но все же некое животное, хотя и самодельное, – станция. И люди радуются на нее – как на все, что им более или менее подходяще удалось создать, и эта общая радость соединяет их совсем по-другому, чем ту заводскую верхушку, ибо те сплотились вокруг пирога, которого мало, а станции хватит на всех.
Здесь, правда, тоже своя элита: вахтенный персонал – но лишь постольку, поскольку они есть существа, посвященные в самую тайную природу этой животины. Они как жрецы, как посредники, способные угадывать, чего хочет божество, они сообщают людям его волю – а люди, семьсот человек, бросаются исполнять ее. И он, Глеб Путилин, здесь верховный жрец: ближе и доверчивее, чем его, станция никого не подпускала к себе.
Кому ведомо это профессиональное могущество, этот полководческий мужской труд, тот поймет, как много было в обладании Путилина. Какие там еще «блага»! Иногда он сам себе завидовал: ему нравилось, что он русский, что ему сорок лет, что он мужчина и главный инженер. Ему казалось тогда, что все лучшее, что бывает на свете, досталось именно ему: лучшая страна, лучший возраст, лучший пол и лучшая работа.
Он все это перечислил себе, чтоб напомнить: оснований для авитаминоза нет, Семенков уйдет, Егудин ушел, зато есть такие ребята, как Ким; Горынцев вот еще появился, бесценный парень, за него десяток не жалко отдать, и вообще…
Он включил телевизор и посмотрел программу новостей. Обозреватели отчего-то резко поумнели и перестали поносить других, превознося себя, и уж одно это исторически обнадеживало. Глеб и эту надежду присовокупил к плюсам своего положения. Поглядел – и оказалось ничего, вроде достаточно для мало-мальски полного счастья. С тем и уснул.
А снабженца грамотного действительно надо найти, надо…
Глава 4
ПРОТУБЕРАНЕЦ
Сева их провожал. Не разговаривали. Сидели на скамье, ждали поезд, стерегли детей.
Вокзал был заполнен демобилизованными солдатами среднеазиатской наружности. Они, видимо, уже давно терпели в анабиозе ожидания, потягивались затекшими конечностями, равнодушными взглядами пробегали людное пространство как пустое, вяло перешучивались, приносили из буфета лимонад и булочки, трезвые юноши мусульманских краев.
Нина всматривается в лица: ей плохо, и она хочет в чужих лицах подсмотреть тайну счастья. Чтобы перенять. Вот они, целый полк ровесников, – два года они вели одинаковую жизнь, они свыклись, как братья, им кажется, что это родство всегда их выручит, но со стороны-то видно: у каждого на лице написана отдельная судьба, и каждый неумолимо обречен своей. И лишь немногие предназначены счастью…
Когда объявили посадку на поезд, конечной целью имеющий Ташкент, солдаты, услышав имя родины, невольно вскочили и приветствовали этот звук – грянуло ура, которое само себя не ожидало, но, явившись, так понравилось себе, что давай возвращаться, повторяясь волнами: ура! – ура! – ура!..
Нина засмеялась их радости и заплакала.
Она уезжала с детьми к своим родителям. Сейчас соприкосновение с Севой было погибельно. Нельзя ставить в одну вазу розы и гвоздики, им это взаимно невыносимо.
Свои комнатные цветы она отдала соседке: у Севы засохнут.
Кота отдала другой соседке: у Севы подохнет.
У Руслана отдельное место в купе – верхнее, и он рад, как бывает только в детстве. Сева подсадил его наверх, и он там бурно осваивается: лампочка – включается-выключается; окно – нет, не открывается; до потолка – нет еще, не достает головой.
Сева спрятался в детях, как в окопе. На Нину боится взглянуть. Ну да, ведь у нее взгляд как крючок: запустит его внутрь и тянет, тянет душу… н-н-н – как зубы сверлят. Все хочет выудить из него какую-то золотую рыбку – «чего тебе надобно, старче?» – стал он кликать… – тянут-потянут, вытянуть не могут… О чем он думает? Примерно так: тянуть сеть из воды, репку из земли, сила трения, сила тяготения… Почему велосипедист преодолевает путь легче, чем пешеход? Работа равна произведению пути на силу. За счет чего велосипедист тратит меньше силы, чем пешеход на тот же самый путь, ведь вместе с велосипедом они весят больше, чем один пешеход без велосипеда, и все перемещение осуществляется исключительно за счет личной энергии…
Ничего не стоит Нине представить Севины мысли. Весь он известен ей до осатанения.
Уже до отправления минуты три. Никто больше не входил, два места в купе остались свободными.
Хорошо ему будет одному. Думай себе бесплодные свои мысли без помех и вторжений. И может, наконец разрешит загадку велосипедиста.
Руслан изучал мир верхней полки. Еще один исследователь на ее голову. Однажды он сидел рядом с ней на диване и «светил» ей в книжку, чтобы легче было читать. Делалось это очень просто: сперва он смотрел на лампочку, в глазах копился свет, потом переводил взгляд на страницу – и переливал на нее накопленный свет, пока не чувствовал, что глаза опростались. Тогда он снова обращался к лампочке и наполнял их. Время накопления и выливания было одинаковое. Когда свет выливался весь – в глазах становилось темно…
Может, ради того, чтоб произошел этот мальчик, природа и ухищрялась сводить его родителей? Несводимых. Может. Ну что ж, о себе жалеть не приходится. Лечь перегноем в грядку, на которой произрастает этот плод. Что ж. Не обидно.
Нина взглянула на него на верхней полке, потом на его отца, поезд сейчас отправится, два места в купе свободны… Нина сглотнула, впадая в решимость, и в тот момент, когда, возможно, соображалось: сила, прилагаемая пешеходом для движения вперед, равна его весу, который он должен сперва оторвать от земли и переместить на шаг, а велосипедист не затрачивает усилий на отрыв от земли и подъем веса… – вот на это самое место, видимо, пришлось вторжение ее слов, перекрывших ей дыхание:
– Поедем с нами… А? – сказала и замерла.
Услышав слова, он поднял бровь, овладевая их смыслом.
А Нина уже привыкла и полюбила эту свою мысль – уже она казалась ей находчивой и красивой, как собственный ребенок, на которого долго глядела.
– Ведь ты теперь не на вахтенной работе… Дадим телеграмму…
Сева смотрел в ответ трусливо. Он отказывал ей.
– Не крутись, свалишься! – крикнула Нина на Руслана и покраснела пятнами.
Сева вздохнул.
Скажи он ей сейчас: «Останься!» – и она порвет билеты и выпрыгнет из вагона, схватив детей в охапку, – опять в тот же тесный сосуд – гвоздики и розы – снова и снова, не веря, повторять опыт: а может, совместятся?
И снова хотеть того, не знаю чего, а он, бедный, будет во всем виноват. И смотрит на нее жалким взглядом, и нет внутри него того чувства, при помощи которого исполняется то, не знаю что.
– Куплю себе там новый купальник… Буду загорать в саду. Красивая стану, – беззаботно заливает Нина предыдущее, как глазурью заливают торт. Слой беззаботности получился тонкий, прозрачный, предыдущее не скрылось под ним.
– А по вечерам на танцы! – подсказал Сева.
Нина глядит на него, глядит – и потом произносит – уважительно, ненавистно и страшно:
– Ты уче-о-ный!
Это уже истерика. Нина западает в нее легко и мгновенно – ртуть, а не психика – привычно, как дождевая вода находит ложе оврага; уже пробуровила в Севе глубокий-преглубокий овраг, до самых корней его нервов, уже и их подтачивает. И немудрено, что он торопит ее исчезновение.
Да что же это, ведь у нее есть в достатке все, что люди учитывают в жизни как необходимое: пища, одежда, кров, работа, семья. Однако непрерывно Нина ощущала некий ущерб своего существования, причем ущерб не тот, что «недодали», а тот, что «некуда отдать». Да и не знает сама, что именно отдать.
И во всем виноват Сева – кто же еще? Никого, кроме него, нет поблизости.
А Сева не знает, в чем состоит его вина, но, чувствуя беспрестанное «ты виноват», он без протеста соглашается с этим – не тратит сил на протест. И виноват становится еще больше.
Объявили отправление.
– Ну ладно, – он примирительно коснулся ее плеча.
Еще стоял минуту под окном, пока поезд не поплыл. Смотрел, кивал, скрестив руки на груди, уступал дорогу пробегающим.
Наконец.
На те два пустых места подсадили в купе молодых супругов с занеженной дочкой. Дочке было года три, она говорила о себе в третьем лице: «Ика хочет папе», – не трудясь, лишь слегка зацепляя верхушки слов пунктирным, прерывистым голоском, чередующим звуки и беззвучия, но чуткая мама улавливала и угадывала, она передавала дочку папе, дочка умащивалась на его коленях, запрокидывала вверх назад свои пухлые ручки и цеплялась за папину шею. Никогда ты, девочка, ни над кем не будешь иметь такой полноты власти, как над ним, – вот он, крепыш в кожане, из мотоциклистов, замер от объятия и стал совершенно беззащитный.
Руслан – шепотом:
– Мам, чего она такая? – И чуть не заплакал от неизвестной обиды, что она – такая.
А Икина мама, тоже пухлая, как дочка, но уже выросшая в большую женщину, мирно глядит в окно, не тревожится и не оглядывается на мужа, чтобы убедиться в своем покое и счастье. Она знает тайну гармонии.
Невыносимо завидно. Уложить Лерочку, огородить подушками, сумками – и вон, вон из купе.
В коридоре у окна безалаберный парень, рубашка на пупе завязана узлом, веселый вызов в лице и осанке – вызов вообще к жизни: ну что, а?
– Я из Ферганы – знаешь такой город? – говорит. Сам ласковый, весь так и тонет в соку своей нежности.
– Знаю. Была там. Лет десять назад.
Он смеется ни от чего, лукаво говорит:
– Совсем молодая, наверно, была?
– Молодая…
И опять он смеется – теперь грустно: тоскуя по ее недостижимой молодости.
– Ты и сейчас нестарая, – сказал себе же в утешение. И любовь над ним так и клубится облаком, как запах над цветком, так и окутывает…
А другие – в поиске, рыщут, ищут, ждут… Шел недавно по улице и издалека улыбался человек. Неизвестный, молодой. Остановился, глядит на Руслана и улыбается. Нина сразу в долгу перед ним за его хорошее отношение.
– Что вы так улыбаетесь? – спросила по принуждению этого долга.
– Ничего, просто я очень люблю детей.
Шофероватый такой, крепко сколоченный, дубленый парень. Это племя – шоферов – Нина привыкла чтить со своего деревенского детства. С тех еще пор, когда в их краю не было шоссейных дорог и непогода превращала каждый рейс в неизбежный подвиг.
– А я смотрю – идет человек, улыбается, – сказала Нина с дружбой. – Уже растерялась, думала: знакомый, а я не помню.
– Нет, – продолжал улыбаться. – Просто я очень люблю детей.
По правде так долго держать улыбку нельзя. Танцоры в ансамблях могут – но то ведь уже и не улыбка, а положение лицевых мышц.
– Ну и где же тогда ваши дети? – уже начиная злиться.
– Если честно, – прохожий принял скорбное выражение, но теперь и оно показалось Нине всего лишь отрепетированным положением лицевых мышц, – жена от меня уехала и увезла сына.
– А… Но вам еще не поздно.
Парень прекратил скорбь и деловито, не откладывая, произвел разведку:
– Ваш муж, наверное, счастливый?
– Да, – подумав, согласилась Нина.
– Ну вот видите, – упрекнул он. Как будто она была виновата, что он тут зря целых пять минут утруждал свои лицевые мышцы разными выражениями. Не теряя больше времени, он отбросил улыбку, как окурок, и пошел дальше ловить свою жар-птицу. Не она.
Не Он.
Наверное, он правильно рассердился на нее. Наверно, на ней написано: жду. А вслух говорит: муж. Нет, он правильно рассердился.
Но ведь она не ж д е т, нет. Она лишь с надеждой всматривается в лица, чтобы научиться у кого-нибудь счастью.
Она как астероид: долго-долго вертелась вокруг одной планеты, в плену ее неодолимой тяжести – вокруг Севы. Но вот удалось вырваться, и она летит стремглав, с каждым мигом легчая, все более освобождаясь от тяги, от порабощения прежнему светилу, она задевает, пролетая, иные миры, разноцветные планеты, она глядит на них, постепенно отвлекаясь от боли своего плена, глядит с любопытством и неудержимо проносится мимо, мимо, дальше. Целительный путь.
Может, правда не надо было рожать лишних?
Когда покупала билеты, Лера у нее на руках заныла, запищала – в духоте переполненного зальчика, и кассирша крикнула из окошечка: «С ребенком, подойдите без очереди!» Нина протискивалась и услышала: «И так ступить некуда, а они еще размножаются!..»
Нина оглянулась – посмотреть в глаза, чтобы принять этот удар прямо, но глаза не дождались ее, увильнули, только остаточное движение лица Нина застала на месте голоса.
Кассирша выписала ей билеты, Лера крутилась и выгибалась в своей упаковке, не желая терпеть долгую неподвижность. Нина сгребла билеты, сдачу, кучей сунула в карман, пошла к двери. Ей хотелось еще раз глянуть на ту, сердитую, но не хватило правоты, чтоб отважиться на это единоборство взглядов.
Сколько действительно людей – тесно! А каждого мать тяжело носила в себе, потом больно рожала ни один не вышел без муки; потом мать – целая взрослая женщина – отдавала все свои дорогие трудоспособные дни двух-трех лет на мелкую возню стирок, пеленаний, варения каш, гуления, игр в догоняшки и прятки и говорения сказок. Она, целая здоровая женщина, только и делала эти годы, что говорила «ку-ку», выглядывая из-за двери, и мелко семенила за смеющимся ребенком, притворяясь, что не в силах догнать, и терпеливо поправляла «катля» на «котлета» – а ведь в каждый из этих лет она могла бы произвести совокупного общественного продукта по статистике на 8000 рублей и вот, вместо совокупного общественного продукта вышел человек, вместо двадцати четырех тысяч рублей – право, да стоит ли он сам того, со всеми потрохами, такой глупый, грубый, необузданный; он поедает пищу, занимает место в трамвае и без очереди протирается к окошечку кассы.
Да стоит ли?!
Нина заглянула в глазки своей ноше – и ноша открыла голые десны в улыбке и радостно трепыхнулась, ничего не ведая о совокупном общественном продукте и эгоистично захватив в свое распоряжение целые рабочие руки.
Целые руки…
– Что, опять? – уничтожительно сказал начальник и чуть не плюнул с досады. – А я-то думал, из тебя толк выйдет.
Стояла перед ним, из крайних сил удерживая достоинство: голова прямо, живот вперед.
– На ноябрь мне не планируйте, – сказала высоким голосом.
– А интересно, кто же будет работать? Вот пока до ноября – спроектируешь разводку кабеля по цехам.
– Я одна? Да вы что! За два месяца?
– Тут работы на три дня.
Это он всегда так говорил.
– Но у меня еще прежней работы – едва успею!
– Ничего, будешь делать параллельно.
И это он тоже всегда говорил.
Она уже отошла к своему столу, а он ворчал свое дежурное «ни черта не делают!», глядел в чертежи, подписанные «Пшенич.» – остальное не входило в графу «подпись», – и язвительно добавлял: «А как же, Пшеничниковых у нас маловато, понадобился еще один!»
Но это было не обидно, он имел право любви ворчать на нее, ведь это он подходил иногда к ней и над ухом нежно гудел: «Ну что, Пшенич., как дела со схемой?» – ведь он хотел сделать из нее человека, инженера, да и она с самого первого дня, придя на работу, с того момента, как он вертел в руках ее диплом и изучал вкладыш с оценками, всегда слабела от нежности, глядя на роговые панцири ногтей на его рабочих руках, – и какая там разница, что он кричал на нее вслух, зверея от одной мысли о том, что теперь она будет с каждым днем все неповоротливее лавировать между кульманами, а потом уйдет совсем и, может быть, на нестерпимо долгое время.
Вышел Руслан к ней в коридор вагона, прижался головой на минуточку – наверно, Антей так к Земле приникал набраться сил, – и Нина погладила его макушку Вот он уже отстранился и смотрит в окно. Рожаем их из греха и своего наслаждения, а им потом живи за наше удовольствие, мучайся в мире, полном непонятного и угрожающего. И вот, зная свою вину перед детьми за их будущие страдания, мы жалеем их и ласкаем, чтоб оправдаться, мы задариваем их вперед, мы даем им счастливое детство – в расплату за будущее.
За то будущее, где они будут мучиться и мучить друг друга, мужчины и женщины, – требуя один от другого расплаты за несовершенство мира. За несбыточность полного отзыва одного человека другому.
Сколько раз ночами Нина, уложив детей, выходила в темную кухню и глядела в окно (глядеть можно было только в небо, остальное пространство было загорожено домами) – как заключенный. Луна расчистит в облаках проталину себе и пульсирует из ее черноты, заливая все вокруг мертвенной бледностью. Эта странная городская жизнь – не одна Нина, все мучаются каким-то несоответствием. В чем же оно? Ведь все хорошо!
Родила вот дочку. В час зимнего утра, когда электричество в жаркой родильной становится желтым и насильственным, лежать на спине, свет в лицо, кататься головой со взмокшими – хоть выжми – волосами. Утомившаяся акушерка покрикивает, на соседний стол взбирается еще одна молодуха рожать – перекрестилась, попросила «Господи, помоги опростаться!» – и смирнехонько расположилась исполнять судьбу.
Бедные акушерки, поле боя, кровавый фронт, крики, стоны, страх. Иногда смерть. И без конца и края, и нет затишья, какое все-таки бывает на войне, когда можно присесть, свернуть самокрутку и посчитать дело сделанным. Везут и везут новых мучениц, и чем держатся эти акушерки? Наверное, душевный этот прибыток первой встретить нового, никому еще не известного человека, и от тебя зависит огласить приговор – после тягучей паузы, когда родившая мать замерла и мысленно подсказывает тебе заветное слово: «Мальчик, ну же, мальчик?» Нет, неспроста повивальное ремесло считалось всегда не вполне человеческим – ведьминским.
И родила Нина девочку, мечтала сразу же заснуть, но вместо этого проплакала целый день: жалко было ее, такую маленькую, родившуюся среди зимы. Только закроет глаза уснуть – сочатся из-под ресниц слезы. «На него она взглянула, тяжелешенько вздохнула, восхищенья не снесла и к обедне умерла». Вполне можно было и не снести.
А исполнения нет как нет. Или так: наполнения нет. Как будто Нина – некий пневмоаппарат, а жизнь не обеспечивает ей необходимого давления, чтоб сработать.
Вот, вот! Из открытого окна вагона донесло с нолей дух горячей полыни – и по этому сигналу целину памяти как плугом вывернуло – ожила, заработала. К тому мгновению, которое сейчас, в поезде, добавилось в одну колонну множество других – из детства, из деревни, из того лета и из другого, и могучий марш этой колонны вот наконец-то отдался в сердце, содрогая все существо. Вот почему надо жить на родине: постоянно включено и работает (через запахи, места и лица встречных) все прошлое, прибавляясь к настоящему.
«Мам, – рассказывал Руслан сказку, – один человек по имени Ахмет поехал через пустыню на верблюде. У него был арбуз. Он разрезал арбуз, но съесть смог только половину, а остальное бросил. Но в пустыне жарко, хочется пить, и он вспомнил про арбуз, вернулся и доел. Поехал снова, но снова жарко, и он вернулся и обглодал как следует все, что еще оставалось. А корки доел верблюд». Такая вот печальная история. Очень похожая. Не надо отъезжать от арбуза далеко. Сожалеть в пустыне о корках, беспечно брошенных где-то в прошлом. Сожалеть и возвращаться к ним, а их все меньше, они усыхают и теряют силы в преодолении времени. Особенно быстро расходуются запахи – они исчезают первыми. Потом краски и линии. Дольше всего держатся звуки – ведь они прочно организованы в музыку и доступны для возобновления.
Вот и музыка, пожалуйста (отлично сохранилась), – это поет Лили Иванова их молодости, «ты-ты-ты, ты-ты-ты…» – дальше сплошь по-болгарски, и это к лучшему, ибо звуки слов, избавленных от смысла, становятся добавочной музыкой.
Магнитофон стоит в углу на тумбочке, рядом с задушенной полотенцем настольной лампой, магнитофон «Комета» – тяжелый, со скругленными боками и вскрытым нутром: чтобы без промедления залезть отверткой, когда понадобится, а это часто.
Хозяин магнитофона сидит на койке и разговаривает с Севкой Пшеничниковым о волновой функции состояния: кроется ли за нею какой-то реальный смысл или только так, математическая уловка – а сам при этом неотлучно чувствует свой трудящийся аппарат, как мать больного ребенка, чтобы мигом прийти на помощь. В комнате еще много народу. Тьма и праздник. Объеденный стол пиршества нечист. В сумеречном углу двое целуются – а, решили, чего там, все свои. Они уже оглохли и ослепли – в густоте мрака и музыки, в их укрытии. А Пшеничников бубнит с магнитофонным хозяином о волновой функции и уравнении Шредингера… Они не танцуют. Они материально обеспечивают танцы. У каждого своя функция. У них – волновая.
А она, Нина, танцует, воздев руки. С нею вертится Юра Хижняк – крепкий, как булыжник, с улыбкой, просторной, как авианосец. А ей все равно с кем, она не видит, она бы и одна танцевала – все больше западая в гипнотизм ритмических телодвижений, вот-вот сорвется с оси, не удержит ритма и забьется в непоправимых конвульсиях. Хижняк следит с некоторой опаской, но ухмыляется, ухмыляется… Не видеть бы вовсе его лица, лиц. Ах, эта несбываемость чего-то необходимого – она и тогда мучила так, что хотелось иногда даже войны, всенародного бедствия и плача, в котором все люди соединились бы и тогда общими усилиями проникли бы наконец всю глубину чувства, донырнули бы до самого дна его. А в одиночку Нине не справиться: ее выталкивает – не хватает дыхания и слез. И все остальные люди – тоже плавают поверху, никогда не сближаясь в едином чувстве, как могли бы сблизиться, например, в пении одного гимна. И жизнь из-за своего разъединяющего благополучия мелка, лишенная лучшего своего содержания – трагедии. Как у Гегеля: «Периоды счастья пусты для человечества». И где взять той одинаковости, чтобы соединиться со всеми? И танец не помогает, каждый танцует сам в себе, недоступный другому – даже одному-единственному другому.
Вдруг Пшеничников оставил свои волновые функции, встал, выловил Нину за руку и вытянул из гущи танца. Извлеченная, она озиралась – как разбудили.
– Пойдем, я отведу тебя.
– Почему? – спросила как спросонок.
– Что-то скажу.
– Говори тут!
– Нет!
Окончательно пробудилась. Коридор общежития, зеленые панели стен. Нет, в праздник это не просто протяженность пути, которую в будни такая досада преодолевать. В праздник это тотализатор: внезапность, риск, выигрыш, захоронение надежд – кому что выпадет. В любой миг может сбыться: распахнется дверь, вырвется музыка, тебя возьмут за руку и введут… Тысяча вероятностей. И те, что не пристроены, слоняются по коридору, ищут приложения своей неприкаянной любви.
Проходят коридором Нина и Севка Пшеничников – что-то будет? Вот сейчас он скажет. Весть. Но от кого? (Не от себя же!..)
Но весть откладывалась, Сева удерживал ее, как плотина, и вместо слов, готовых прорваться, одни вздохи.
– Ну?
(От кого же, от кого он вестник!)
– Сейчас, подожди…
Опять идут, он дышит. От чужого так не волнуются.
– Ну! Выдохнул:
– Он что, тебе нравится?
(Неужели от себя?)
– Кто?
– Хижняк.
– А, вон оно что… Нет.
– А кто?
– Что?
– Ну нравится?
– Ну уж не такие, как Хижняк.
– А какие? – замер.
– Ну… Я сумрачных ценю, замкнутых. Чего пристал?
– Да? А почему?
– По кочану.
– Нет, правда!
– Почему-почему! Не знаю почему… Эта вечная улыбка – как дырка в бочке, все вытекает, внутри ничего не накапливается.
– А я, – перестал дышать, – я сумрачный?
Коридор поворачивал, тут было темно, и Пшеничников не дал Нине обогнуть угол. Она остановилась, с недоумением взглянула. В полутьме приближалось его лицо, глаза в отчаянном страхе блестели. Без освещения и в такой близости нарушилась в лице соразмерность – как отражение в самоварном боке.
Он глядел с надеждой и жалким счастьем.
Он страшно рисковал. И, может, не понимал этого.
Тем более бесчеловечно было этот его риск провалить.
Тут либо бей по морде за нахальство (но какое уж тут нахальство – у Пшеничникова-то!), чтоб сильным жестом засветить негатив этой жалкой и неоправданной надежды. Либо обнимай, чтоб не обмануть это беспомощное доверие, и прячься скорее за его плечо, чтобы не видеть больше такое немужское, такое невластное его лицо.
Он приближается – смятение – она столкнула его с дороги и бросилась наутек.
Хорошо бы ей было сейчас умереть ему в одолжение: чтобы не осталось свидетеля у этого жалкого мига.
Запершись, боялась, что он постучит – и что тогда делать? Рука не поднимется обидеть, но ведь и не обидеть немыслимо.
Ах, и зачем он это сделал! – такой беззащитный взгляд можно обнажить только перед взаимно-любимой, но лучше не обнажать и перед ней. А полюбить его… Мыслимо ли? И лучше бы ему не показываться в ближайшие дни, чтобы дать этому случаю зарасти травой забвения.
Ничего в Севке не было от мужества, ни одной черты, ни в осанке, ни в повадке. Он был весь стертый, блеклый, как будто его нарисовали – не понравился – стерли резинкой – да и тоне до конца, бросили – так и остался. Глаза умные, но уж такие тихие – глядят тускло, как пеплом присыпанные, совсем без огня.







