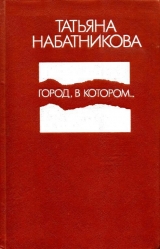
Текст книги "Город, в котором..."
Автор книги: Татьяна Набатникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)
Глава 3
АВИТАМИНОЗ
– Пора, Глеб Михайлович, – напомнила секретарша, и Путилин отправился.
Суд будет в красном уголке. Суд будет. Хотя серьезные выражались сомнения, выносить ли сор из избы и открыто позорить вахтенного (значит, избранного) инженера, ну, техника, перед рабочими. И не довольно ли «офицерского» суда чести, говорил Ким и еще говорил Горынцев. А Хижняк помалкивал. Пришлось его спросить. Он уклончиво: «Я не знаю, но, по-моему, рабочих тоже презирать нельзя. Не такие уж мы дворяне». Попробуй опровергни… Есть такие понятия, которыми действовать – как рычагом. Или как кастетом в драке. Или как там еще: против лома нет приема. Себе Путилин не разрешал этими рычагами пользоваться. Хотя соблазн бывал. Демагогия обладает силой тарана – так иногда необходимого для продвижения дела!.. Черт, Хижняк настораживал.
Красный уголок был заполнен. Исключая, разумеется, первый ряд. Путилин усмехнулся, прошел через все помещение и сел впереди один (по этому бесстрашию садиться в первом ряду, не обеспечив себе прикрытия хотя бы чьей-нибудь спиной, он с юности догадывался, кем родился быть на этом свете).
Агнесса решительно отказалась восседать судьей. «Это я не могу». Ну ясно, как же, виноватых нет, каждый принужден обстоятельствами. Знаем. Слыхали. Поэтому пригласили из химцеха женщину – общественного заседателя суда. Можно сказать, профессионал.
Общественным обвинителем выступал начальник охраны – пенсионер с орденскими планками на пиджаке. Защитником поставили восточного человека Кима: ради беспристрастности.
Когда зачитывали содержание обвинения, в зале то тут, то там пробивались смешки. Все забавлялись. Казалось бы, ну что можно вынести со станции – электроэнергию? Семенков вынес моток кабеля РК-75. Кабель копеечный, из такого делают вывод для телевизионной антенны – и куда его много? Возможно, для гаражного кооператива. А то и просто оттого, что плохо лежало. Смену сдал в шестнадцать, а сам остался на станции. И через часок попер эту катушку к проходной. Вахтер был новый – вахтеры вообще часто меняются. Подходит Семенков к проходной – время вечернее, пусто, тихо – и говорит вахтеру: подержи конец, я буду катушку разматывать – наружную проводку тянуть для сигнализации. Вахтер и рад: для дела пригодился. А Семенков за угол завернул, конец отрезал – и был таков. Вахтер держал-держал – пошел посмотреть, как там дела идут с проводкой. Ну, оконфузился – другой бы молчал, постыдился свой позор на люди выносить. На это Семенков, видимо, и рассчитывал. Но старикан, оказалось, делом дорожил больше, чем собой, – наутро остался вылавливать Семенкова. В лицо запомнил. А у Семенкова выходной. И вообще на станции работает семьсот человек народу. Но вахтер оказался упорный, старой закалки человек (демидовские рельсы, говорят, закаливали в говяжьем сале – до сих пор стоят). И выловил.
– Признаете ли вы себя виновным? – строго спросила судья.
– Нет, – нахально ответил Семенков, и в зале засмеялись.
(Агнесса, святая душа, не верила. «Не может быть. Я помню тот день. Он мне смену сдал, а сам задержался: с женой по телефону доругивались». Они развелись и каждый день по телефону доругивались, благо она тоже работает в городской энергосистеме и сидит на диспетчерском пульте – чего не поговорить, казенного времени не жалко. Агнесса не могла поверить: «Как это – отругался с женой – и попер кабель?» – «А чего?» – «Ну душа-то есть? До кабеля ли человеку?» Агнесса, бедная, не понимает. Не знает, что такое семейная жизнь, все ей видится в возвышенном свете…)
– Товарищи, это не смешно! – сказала судья процессуальным тоном, и народ исправно притих, потому что одно дело: она с тобой рядом работает и зовут ее Тася, а совсем другое – она восседает в центре президиума, и лучше с этим не шутить. На всякий случай.
Слово дали свидетелю – вахтеру, который задержал преступника.
Тот страстно поведал, как было дело. И даже показал, как он нагибался, держа этот кабель.
– Да это же анекдот, старый к тому же! – вскричал Семенков. – Кто-то над дяденькой подшутил. Проверял анекдот. А дяденька и обиделся.
Судья постучала авторучкой по графину:
– Прошу соблюдать порядок! Вы подтверждаете, что человек, который выносил катушку кабеля РК-75, был действительно этот? – обратилась она к вахтеру.
Вахтер для точности еще раз поглядел на Семенкова и решительно подтвердил:
– Этот. У него еще говорок такой быстрый был, дробный.
– Обвиняемый, я еще раз спрашиваю вас: признаете ли вы обвинение справедливым? – заклинило судью. Общественным заседателем ее выбрали совсем недавно, и опыта ведения процесса у нее было маловато.
– Ни в коем случае! – весело отозвался Семенков, вставая с места.
Народу тоже было пока весело, смех у каждого наготове: тут и там просачивались улыбки.
Вахтер растерялся:
– Как так? – Напомнил: – Ты ж сказал: подержи, мол, конец, я проводку тянуть буду. И я держал. А ты за углом отрезал и утек.
– Я вам не «ты»! – с апломбом оборвал Семенков. – И советую обзавестись очками, чтобы не путать божий дар с яичницей!
Ким, защитник, поднял голову и с удивлением всматривался в Семенкова. В зале смутились. Переглянулись, сверяя по лицу соседа правильность своего отношения к происходящему. Веселость прошла.
– Со смены мы всегда выходим вместе с Хижняком, – забеспокоился Семенков. – Хижняк, подтверди!
Хижняк молчал, показывая, что подчиняется здесь официальному порядку. Судья ему кивнула: дескать, ну же, говори Хижняк встал. Чего-то тянул время, как школьник, не знающий ответа и надеющийся на звонок.
– Я не помню в точности. Со смены мы действительно часто уходим вместе. В основном всегда. Но конкретно про этот день я не помню.
«Неужели, – удивился Путилин, – не знает? Они ладили с Семенковым. Они в одной вахте, а вахты складываются естественно-исторически: кто с кем ладит, это закон, одна Агнесса имеет универсальную сходимость и поэтому работала даже с ненормальным Пшеничниковым».
Ким встал со своего места, невозмутимый восточный человек (ходит, ласковый, изящного роста, вознеся лицо, и равномерно улыбается вокруг себя, но не призывая этой улыбкой, а отстраняя: лучше держись подальше, а то ведь я перестану улыбаться, и тогда кабы не было нам худа) – он встал и молчком пересел в зал. Там понятливо подвинулись, давая ему место.
– Простите, я не поняла вашего поступка, – растерялась судья.
– Я отказываюсь защищать, – разъяснил Ким свой поступок.
– Да, но как же так? Это нельзя!
– Я не буду, – твердо повторил Ким и сел.
Уж это у него есть – твердо ответить. Нужно было под восьмое марта съездить в горэнерго с поздравлениями женщинам – ну, традиция такая, докучный долг, Путилин ненавидел эти праздники и дома у себя давно их отменил – кажется, к тихой обиде жены, ничего, стерпит, в старину и в ум не приходило праздновать в свою честь, даже день рождения – и тот: день ангела-хранителя, вот как, а мы вон какие почтенные, мало нам праздников по профессиям, так еще и по полу. И вот – ехать в горэнерго с поздравлениями, нет уж, увольте, но он ведь не просто Глеб Путилин, он должностное лицо и обязан считаться с ритуалом – короче, он вызвал (кто там у нас сейчас со смены?) Кима: поезжай. Не на того напал. Ким: нет, и все. Глядит своими чистыми азиатскими глазами, лишенными прозрачности и оттого еще более таинственными, и – нет. Не поехал! (И молодец.) Ладно Хижняк поехал, надежный и безотказный Хижняк! Таким человеком располагать в коллективе – просто удача. (Когда Хижняк пришел с ночным обходом, Агнесса заподозрила, что это он, Путилин, его послал, и явилась поучить. Это, говорит, растление человека. А Путилин не имел к этому обходу никакого касательства, но уж коли зашел разговор, он сказал ей, что в любом социальном организме есть всякие роли, и на все роли необходимо иметь исполнителя. «Врешь, любой социальный организм только выиграет, если все роли будут играть герои и благородные люди». – «Ты ошибаешься, Агнесса. Это красиво, но неправда. Знаешь поговорку: «Без тебя – как без поганого ведра». Это когда хотят сказать человеку, как он необходим. Если из твоего цветущего организма выкинуть кишки, тогда, боюсь, твоя цветущая наружность перестанет благоухать». – «Не трогай мою цветущую наружность», – печально сказала Агнесса; никогда, и в молодости, не было у нее цветущей наружности. Но ее вмешательства уже раздражали. Конечно, когда он пришел на станцию новичком и она его учила – это было одно, но теперь он, черт возьми, уже вырос, не надо его больше опекать! «Агнесса! И вообще ты мудрая женщина, наверное, ты умнее меня, но главный инженер все-таки я, и станцией руковожу я – такой, какой уж я есть!» А она продолжала печалиться и бормотать «…покалечите парня», хотя ведь объяснил же ей русским языком, что это не он, не он послал Хижняка, а, по всей видимости, Егудин, и даже понятно зачем: чтобы отвратить от Хижняка весь коллектив. А Хижняк, кажется, так и не понял, что с ним сделали…)
Ким пересел в зал, Семенков повернулся к нему и посмотрел с долгим укором. Ким не отвел глаз.
– Товарищи, без защитника нельзя, – взмолилась судья.
Встал Горынцев:
– Я буду.
Ага, еще один сюрприз. Становится интересно. Горынцев – защищать Семенкова? После того как отказывался с ним работать. Я, говорил, тебя кожей не выношу, у меня от тебя экзема начнется. А Семенков огрызался: «Да хоть сифилис!»
Судья не знала, бывает так или нет. И вообще, законно ли все это? Она оглянулась на Путилина, прося подсказки.
– Пусть, – кивнул Путилин. Не терпелось узнать, что из всего этого выйдет.
Горынцев занял место защитника.
– Продолжим заседание, – с облегчением сказала судья. – Еще вопрос к свидетелю Хижняку: Юрий Васильевич, попытайтесь все-таки вспомнить, как в тот день вы закончили смену?
– Надо вспомнить, – бормотал Юра, дотрагиваясь рукой до лба. – Обычно мы выходим вместе и идем на трамвай. Если ему никуда не надо ехать по его делам. Часто ему куда-нибудь надо, и он тогда заранее на машине. А про этот день я не помню. Дни все так похожи.
Нет, ну чисто ученик. Время тянет, а звонка все нет.
– Садитесь, Юрий Васильевич.
Вызвали свидетеля – мастера ремстройцеха.
– Этот кабель, – сказал он, – мы получили по ошибке снабженца. Как и многое другое! – и немедленно завелся. Об этом он не мог говорить спокойно: наболело. – Заказываешь одно, а достают другое. Она один раз достала нам трансформаторное железо – ненарубленное, вы представляете? Что с ним делать-то, крышу крыть, что ли? – он хохотнул, его частично поддержали. – Пришлось потом списать. – Он покашлял. – Ну так вот, этот кабель. Он нам совершенно ни за чем не нужен. Нам нужен был обыкновенный бытовой электропровод, а ей там сказали: берите, это тоже бытовой. Ну, она и взяла, я уже сколько раз говорил, Глеб Михайлович, нам нужен грамотный снабженец, вы меня извините, Варвара Павловна, но мы через вас вылетим в трубу! Вы берете что попало! Заказывали для лаборатории радиодетали, конкретно были указаны номиналы, так вы достали все совершенно другое!
– Да к все совпадало, как заказывали, только запятая не там стояла! – обиженно оправдывалась из зала снабженец Варвара Павловна. – Но я не спорю, ищите мне замену, я лучше табельщицей вернусь, мне это сто лет не нужно! А для лаборатории вон Илья Никитич все что хочешь может достать – он и достает, что ему нужно, вот и пусть идет снабженцем, грамотным, а я табельщицей вернусь, мне это сто лет…
– Товарищи, не отвлекайтесь – призвала судья. – Вопрос к свидетелю: как у вас хранился этот кабель?
– А никак. Стояли пять катушек в углу – вы представляете, какие количества, пять катушек! – опять сорвался мастер, приглашая всех возмутиться. – Стояли невесть сколько, ждали судьбы..
– Да что же это! – ахнул вахтер. – А на что я шум поднимал? На что я тогда стою, стерегу, если никому не нужно?
– Вы подтверждаете, – снова обратилась судья к мастеру, – что теперь стоит на одну катушку меньше?
– Что ж, подтверждаю, отчего не подтвердить. Стоит на одну катушку меньше, – согласился мастер.
– Когда исчезла эта катушка?
– Не заметил. Мне когда сказали посмотреть – я посмотрел.
– Вас бы тоже надо судить за халатность! – увлеклась судья.
– Нет уж, если кого судить, так нашу снабженца! – заволновался мастер.
Обиженный вахтер выкрикнул:
– Я уволюсь! Караулить то, что никому не нужно!..
– Нет, вы не правы, – пришлось Путилину утешать вахтера. – Вы охраняете энергетический объект. Если хотите, не от расхищения… Это ж вам не фабрика мягкой игрушки! – потрафил бедному уязвленному самолюбию.
– Вы подтверждаете, – заладила судья, – что ничего не стоило после смены зайти в цех и взять катушку?
– Цех, конечно, запирается, но после уборки. Видимо, уборщица еще не подошла и цех стоял открытый.
Пожалели, что не вызвали уборщицу в свидетели. Вот уж как раскатятся по рельсам – и забудут, зачем едут. Не люди – трамваи: тук-тук, тук-тук, рельсы тянутся, едут-спят. Эта женская мелочность, эта их дотошность и педантизм – они хороши при починке белья, но вот они, бабы эти, пришли в гущу общественной жизни и притащили с собой эту свою кухонную мелочность и сделали жизнь невыносимой, «ничего не знаю, сказано вам: этот штампик должен быть квадратный, а не треугольный, вот поставьте квадратный, тогда и приходите, прием у меня теперь в следующую пятницу с восьми тридцати до девяти». И вот сидит эта судья Тася, она уже забыла, для чего мы тут собрались, ей важно букву за буквой исполнить весь процессуальный порядок. «Не вызвали уборщицу в свидетели»… Да какие вам еще нужны свидетели! И мужиков они подмяли под себя, обезоружили их своей формальной, буквальной правотой, мужики только воздух ртом половили, как рыбы, да и заткнулись, и махнули рукой. Сами стали как трамваи. Тук-тук… Отвыкли и забыли, как это – без рельс.
Слово для защиты взял Горынцев.
– На кабель плевать. Тут все смеялись сперва. И правильно. Беды никакой не случилось. Даже наоборот: хоть кабель в дело пошел. Спасибо вору, не дал пропасть. И охраннику надо сказать спасибо, что ради справедливости дела он не посчитался с собой, не скрыл свой промах. А мастеру ремстройцеха объявить выговор за получение ненужного кабеля и обязать…
– Позвольте! – с улыбкой перебила судья. – Вы берете на себя мои функции!
– М-м-м! – простонал внутренне Путилин. Какая жалость, боже мой, какая жалость, у Горынцева нет даже высшего образования, вот из кого вышел бы человек!
Горынцев угрюмо посмотрел на судью, не, слыша, и неуклонно продолжал без всякого внимания к ее словам:
– …обязать выменять этот кабель на что-нибудь нужное. И всем бы после этого разойтись: повеселились, и будет. Но мы не разойдемся, – Горынцев вздохнул в знак того, что вот теперь только начнет он говорить, и тон его набрал высоту: – Теперь мы не разойдемся, потому что, когда мы тут веселились, преступление как раз и совершилось у всех на глазах. И теперь его так не оставишь. Преступление Семенкова было не тогда, когда он попер кабель, а сейчас вот, на этом суде, – и за то, что он сделал сейчас, надо судить страшно. Я даже не знаю, как с ним обойтись за ту подлянку, какую он нам сейчас тут показал. Глядя в глаза человеку, он его предает. За это расстрелять!.. Но и нас вместе с ним! Его вероломство все вышло из нашего. Потому что, когда это воровство раскрылось, мы все смеялись, цокали языками и удивлялись его изобретательности. А потом вдруг получили указание осудить его товарищеским судом – и вот мы моментально перестроились, поменяли выражение лица и пришли сюда его осуждать. Глядя на такое наше, лицемерие, он и себе разрешил подлянку. Раз мы так – и он так! И мы тут не лучше его, – Горынцев махнул рукой и перевел дух. Семенков смотрел внимательно и удивленно. – Что моток спер он, знали все. Он и сам не скрывал. Смеялся, что влип. Не ожидал, говорит, от вахтера такой идейности. Слышите? Он ни от кого из нас ничего хорошего не ожидал, какой же ему смысл одному оставаться хорошим! Ведь мы – в частном-то порядке – ни один, и я тоже, – его не осудили. А теперь собрались, чтоб официально заклеймить! Так кто мы такие после этого? Правильно Агнесса Сергеевна отказалась быть судьей. Я считаю, мы должны сейчас молчком на цыпочках разойтись отсюда – поодиночке и не глядя друг на друга. А то когда мы вместе – так вроде бы и правда с нами. Какая, к черту, правда!
Так закончил свою речь Горынцев.
«Да-а-а. – прикидывал Путилин. – Заставить его поступить в институт, вот что. Хотя бы заочно. Я из него человека сделаю. Мы с ним еще покажем вам, трамвайные ваши души!»
– Позвольте! – возмутилась судья. – Вы говорите, ВСЕ ЗНАЛИ. Этого не может быть! Юрий Васильевич! – А, не понравилось, что выдергивают из-под нее правду, как трон, на котором она, не колеблясь, восседала! – Скажите, вы разве знали, что Семенков сделал это?
Хижняк встал, покраснел и обидчиво заявил:
– Вот что я скажу… Может, я что-нибудь не так понимаю, но за ябедничество у нас в школе били. Сознаваться или отпираться – дело самого Семенкова. Лично.
– А сейчас не обо мне речь, а о тебе! – ехидно ввернул Семенков, проникшись после речи Горынцева полным к себе сочувствием. Он закинул локти за спинку своего стула. – За себя-то ты можешь ответить: знал ты или не знал?
Хижняк вспотел.
«Ну-ка, ну-ка, – вглядывался Путилин, – покажись, я внимательно смотрю».
– Ты, Володя, извини, но ведь и магнитофон у Глеба Михайловича, как мы все поняли, тоже ты, хотя Глеб Михайлович запретил вообще на этот счет все разговоры, а помнишь, ты сам рассказывал, вы с каким-то Пашкой украли серебряные ложки?
– Давайте кончать! – не выдержал Путилин.
– Так! – подобралась судья. – Суд удаляется на совещание.
Народ сидел понурившись, запутавшись в чувствах, и теперь боялся опрометчиво выдать их: вдруг чувство окажется не такое, как надо.
Семенков оказался один на один с залом, раньше хоть суд смягчал буфером это противостояние, теперь оно осталось голое, холодное, бесприютное. Вот они вышли против него – а каждого из них он знал в лицо, по имени и за руку. И теперь, он один должен, как плотина, выдерживать напор их общего взгляда и не прорваться. Он поерзал, вздохнул и сказал:
– Ох, скорей бы утро – да на работу.
Это была у них такая шутка для конца смены. Семенков, сидя против зала своих товарищей, пошутил. Залу стало жутковато, никто не улыбнулся.
– Где работать-то будешь? – спросил вахтер – без зла, наоборот, чтоб не бросать Семенкова действительно уж совсем одного в молчании стольких против него людей.
– Что значит «где работать»? – ощетинился Семенков.
– А не уволят разве? – удивился вахтер, обращаясь в зал.
– Интересно, по какой это статье? – ядовито осведомился Семенков.
– По статье недоверия, – сказал Ким.
– Попробуйте, я на вас погляжу.
Тут встал директор Василий Петрович, он появился в зале только под конец, раньше занят был. Он взволнованно откашлялся и сказал.
– Да. У нас мало прав. Нам доверено отапливать и освещать целый город, а нашему слову не доверяют. Любое решение дирекции, не подкрепленное самыми увесистыми фактами и документами, подвергается сомнению и проверке всяких комиссий. Это вот донос – он не требует подкрепления фактами: комиссии безоговорочно снимаются с места и едут расследовать этот донос. И если я не смогу документально доказать, что я не верблюд, то побеждает донос! Вот такого вот Семенкова. Сегодня я уже имел счастье приветствовать комиссию, которая прибыла по его жалобе: дескать, мы несправедливо и незаконно назначили дисом без экзамена… впрочем, это не здесь… (Зал медленно зашевелился). Да! Семенков прав! – повысил голос Василий Петрович, чтобы перекрыть возникший шум, – Я не могу его уволить, но пусть, он попробует остаться! – выкрикнул, скорее даже взвизгнул Василий Петрович, пренебрегая своим инфарктом. – Пусть он попробует остаться! – Лицо его, в котором когда-то в молодости преобладали вертикальные линии, теперь осело, как старый дом, и сплющилось поперек себя. Василий Петрович ждал из последних сил своего срока уйти на пенсию, а по улице за окнами шли люди, весело катились троллейбусы, и горя никому не было, что скоро Василия Петровича уже не будет.
Агнесса сжалась и покраснела, потому что действительно ее назначили дисом без экзамена противу правил – когда уволился Егудин, – и вот теперь из-за нее…
Зал как-то угрожающе набычился. Больше никто не оглядывался на соседа для проверки правильности чувства. Трогать Агнессу – уж этого никто здесь никому не позволит.
– Да гос-по-ди-и! – брезгливо протянул Семенков. – Да я сию же минуту подам заявление! Прямо вот сейчас! За кого вы меня держите? Я не фрайер! – вконец разобиделся он.
Путилин бесстрастно протянул ему из первого ряда лист бумаги и папку для опоры.
Семенков быстро писал. Рука его дрожала. Потом и голос дрожал, когда он сказал:
– Вы все тут подлизы и трусы! – И, не дождавшись возвращения высокого суда, вышел из красного уголка, гордо воткнув руки в карманы.
Приговор был: высчитать с Семенкова стоимость кабеля.
Путилин оставался дольше других сидеть в своем одиноком первом ряду, приводя в порядок смутные чувства.
Подошла к нему Тася-судья, горделиво рдея и поправляя волосы девичьим застенчивым жестом:
– Ну как? Я ведь была пока всего на двух процессах. И оба были бракоразводные…
Похвалы попросила. Боже мой, господи! Бедный человек, он все о себе. Конечно, мы тут только для того и собирались, чтобы поглядеть, каково Тася покрасуется перед нами в роли судьи.
Смотрел на нее, выкатив глаза, и даже слова не подобрал, не кивнул даже. Прочь пошел.
Стояла весна во всем своем безобразии: пасмурный вечер, грязь под ногами безысходная, брюки зацементировались понизу, и теперь, пока не скинешь их, будет держаться на лице невольная гримаса отвращения.
Похож человек на шаровую молнию? Устойчивость ее настолько зыбка, что почти невероятна; равновесие шипящей плазмы в соприкосновении с потухшим веществом воздуха кажется недостижимым – и легко нарушается. Взрыв – и все. А то, бывает, стекут незаметно заряды – пш-ш-ш-ш.
Куда утекает заряд человека? Если он не взрывается в пых и пух от соприкосновения с остужающей средой прочего равнодушного вещества?
Со временем находишь себя пылью, рассеянной повсеместно, либо куском льда. Обнаруживаешь себя почти отсутствующим в жизни, хотя продолжающим жить. «Иль надо оказать сопротивленье?»
И вдруг встречаешь такой уцелевший сосуд, вроде Горынцева, – силами какого расчета уцелевший? Как учесть все неведомые утечки и влияния, ведь живем наугад?
Живем наугад, не потому ли жизнь истощилась, кровь ее высохла или вытекла, и ей, жизни, приходится притворяться живой, она продолжает сочинять песни – красивые, но поддельные, как зубные протезы стариков; она продолжает родить народ, но люди стали как трамваи и действуют однообразно и с одинаковой выгодой.
Как сохранить Горынцева, этот чистый сосуд огня, к которому время от времени можно прикладываться – причащаться, честное слово. У взрослых есть дети, которых они то и дело берут на руки, обнимают – может, именно для этого? – и прикасаются губами к макушке. И это спасает даже во времена государственной подлости.
Сидели как-то у друга на кухне – в Москве. Сосредоточенно поглощала свой ужин Анечка лет четырех, не слушая разговора. Уже наступило время усталости, и Глеб, после долгого командировочного дня, разговоров и дел, сидел молча и смотрел рассеянно на девочку. Она подняла глаза, а он продолжал смотреть – но как бы не на нее, а через ее глаза – в самую глубь природы (видимо, там она и находится, на дне глаз, куда даже не пробиться), – смотрел печально, устало и долго и погружался все глубже и глубже – как водолаз. И девочка отвечала ему таким же точно взглядом – тоже все глубже утопая в темной его ответной глубине. И долго они так смотрели, проникнув друг в друга и мудро все понимая. И потом, вдруг застав себя на этой точке полного погружения в природу другого человека, они разом очнулись и рассмеялись, и девочка застенчиво нырнула в ладошки. А потом вынырнула и стала снова искать его взгляда, чтобы повторить то, что они только что пережили, – это проникновенное понимание человека человеком, это чтение глубин. Со взрослым взрослому это бы не удалось. Это нужна уступчивая, еще не закаменевшая природа детского духа. Вот и причастился…
А своих детей у Путилина не было, и бог знает что он при этом терял.
Может быть, ребенок человеку – чтобы удлинить руку, которую он простирает во тьму будущего, чтобы ближе дотянуться до конечной цели творенья?
В другую командировку та же Анечка, уже постарше, лет пяти, ночью возникла на пороге комнаты, где опять они с другом – ее отцом – долго разговаривали за полночь, Путилин на раскладушке, друг на диване, а девочка проснулась отчего-то, вышла и стояла, склонив голову и глядя куда-то даже поверх лиц, куда-то в зеницы пространства, и задумалась про себя, руками по-взрослому упершись в косяки двери, и нежное ее прелестное лицо как будто светилось на пороге темноты – и этот ореол был даже не свет, а как бы сама вечность… И оба мужика замолчали и смотрели на девочку, а девочка смотрела мимо них, вышедшая из сна, как из другого мира. И все, что они говорили между собой, все важное и дорогое в их дружбе, померкло рядом со значительностью этого маленького существа. «Причастный к тайнам, плакал ребенок…»
Если действительно гибельно отъединение от природы, от земли, от растений и человек утрачивает часть соков, получаемых от соприкосновения с ними, то понятно, почему женщины разводят растения, приносят их в свои городские жилища, поливают, кормят и ухаживают, – чтобы приручить добавочные силы природы себе в помощь – как палку берешь в руку, чтобы удлинить ее действие.
Наверное, гибельно и замыкание в себе и в своем возрасте, в своем поколении. Заземляться надо, Путилин, надо устраивать себе время от времени короткое замыкание, чтобы очистительный ток пронесся ураганом по сосудам твоего духа, чтобы ветром продуло, и сотрясло тебя, и напомнило род твой и племя.
Горынцева – не отдам. Не упущу. Самому нужен.
Вступаешь в контакт с другими – и вроде бы и ток пошел, и аппаратура взаимодействия вся работает, и привыкаешь к этой работе как к нормальной, пока не встретится тебе человек вообще без сопротивления, и ты заземляешься на него, к. з., и тебя трясет, содрогает и треплет могучим об него разрядом. Вот это и был Горынцев. А Хижняк что же, оказался твоим промахом?
Или нет?
Как же так? Вспомнить все по порядку. Сидели на щите управления; должна была начаться тренировка; Путилин разозлен был очередной комиссией. Заели: то технадзор, то рыбнадзор, то санэпидстанция, но ведь, кроме указаний и директив, они ничего не давали ему – ни средств, ни прав, и он, как козел отпущения, был номинально виноватым. Входило, что называется, в круг его обязанностей: быть виноватым. А они, комиссии, – акт написали, директиву подкинули – и умыли руки, все, они безвинны, это он, Путилин, один истребляет биосферу. Они пришли домой, дернули ручку унитаза, включили электричество, сели греться у батареи, а отвечает за загрязнение среды один Путилин.
Пшеничников тут же взялся подсчитать, как обстояли бы дела с энергетическим балансом, если бы город жил по-старинному, без технической цивилизации. Вышло: ТЭЦ за год тратит чуть больше топлива, чем жители истратили бы на одно только отопление. Правда, ТЭЦ в городе не одна, а три, но все равно с учетом всех энергозатрат цивилизация получалась выгоднее, экономичнее и все-таки, что бы ни кричали санэпидстанции, чище, чем патриархальный способ жизни.
Агнесса начала бормотать, что, дескать, сбросы в реку в тридцать восемь раз грязнее нормы.
А нормы надо пересматривать, они составлены еще в эпоху красивых жестов, а пока нормы не пересмотрены – виноват во всем Путилин. Горячие ванны принимают все, а за последствия отвечает он один. Но он с согласием идет на это, раз уж он выбрал себе такое дело – извлечение энергии. Самое важное, ибо извлечение энергии – единственный способ поддержания жизни, которая есть цепь энергетических взаимодействий.
Пшеничников сказал: «Но ведь это только цивилизованный человек вынес этот процесс – добычу энергии – наружу от себя. Возьмите, например, эскимосов: они вообще не нуждаются во внешней энергии. У них вся электростанция – желудок. Всю энергию берут из пищи. Замерз – съел рыбину – подогрелся. Ни тебе печек, только одежда, чтоб не рассеивать тепло. Вот идеал, к которому нужно стремиться». – «Эскимос съедает за один присест три килограмма мяса, – ответил ему Путилин. – Ни одна страна в цивилизованном мире не может обеспечить своему среднестатистическому гражданину такую кормежку. Нам приходится добирать из угля, нефти – из несъедобного материала. Эти идеальные, на наш взгляд, электростанции – желудки – они ведь работают только на нежном и дорогом топливе». Кстати, сказал Пшеничников, к нам на станцию просится один мой сокурсник. «Какой-нибудь малахольный радиолюбитель? Он, по крайней мере, хоть знает, что у нас энергетическое предприятие, а не фабрика мягкой игрушки?» Мастер спорта, сказал Пшеничников. И даже слегка обиделся. Они от института отошли только на три года расстояния. Еще любой однокурсник считается чуть не братом. Это позже они станут посторонними, не отвечающими друг за друга людьми. А институт, окажется, был чем-то вроде вагона, в котором случайно сопутствовали.
«Мастер спорта! – сразу зауважал Путилин, и с этой минуты вошедший для проведения тренировки Егудин и возненавидел Хижняка. – Надеюсь, не действующий? А то будет у нас числиться, а сам но соревнованиям!» – «А при чем тут вообще спорт?» – усмехнулся Егудин. «Это гарантия, что человек умеет работать», – сухо объяснил Путилин.
Потом провели тренировку, «ликвидировали аварию», и Агнесса давай расспрашивать Пшеничникова про его друга. «Люблю новых людей!» – сказала мечтательно, а Егудин насмешливо сверкнул очками. Все-то он насмехается, все-то он сверкает…
– Ваши очки придают вам такую импозантность и загадочность, – тут же заметила Агнесса, – как будто вы иностранный кинорежиссер.
– А вы, Агнесса Сергеевна, знавали иностранных кинорежиссеров? – ядовито спросил Егудин.
– Но я же смотрю «Кинопанораму»! – с простодушием, какое можно встретить только у старых дев.
Ох уж эта Агнесса! Совершенно без самолюбия! Когда она пришла на станцию, она действительно была просто Агнесса, но с тех пор минуло много лет, люди приходили и уходили, а она пребывала неизменно, вновь приходившие наследовали ее от прежних ее товарищей как Агнессу, и она по привычке так и оставалась Агнессой для всех, хотя последние вновь прибывшие были уже лет на двадцать моложе ее. Можно было назвать ее Агнессой Сергеевной, можно было переврать ее имя – она не замечала. Она обладала многими ценными качествами, но поистине бесценным было то, что она позволяла преобладать над собой любому новичку. «Ой, правда? – доверчиво изумлялась. – А я этого никогда не слышала». Около нее любой чувствовал себя значительным человеком. И мог невозбранно насмехаться над нею, она не обижалась. Она, может, даже и не понимала. И следовало бы убивать на месте всякого, кто прельщался легкостью этой добычи.







