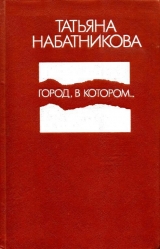
Текст книги "Город, в котором..."
Автор книги: Татьяна Набатникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Мужики – Юра и Коля – пустились затем обсуждать особенности местной жизни. Это, говорят, какая-то загадка: пустынная страна, не имеющая почти никакой промышленности, кишмя кишит торговцами, перекупщиками и прочими непроизводителями, в каждой семье на одного работника по десять дармоедов – и все сыты. Ходят, веселые, блестят глазами; страна не имеет своей древесины, а шагу не ступят, чтобы не использовать бумажную салфетку из красивой коробки; страна не имеет своей химической промышленности, а каждый килограмм картошки торговец насыпает тебе в свежий полиэтиленовый пакет. Это поразительно – видимо, у природы есть какой-то свой механизм налогов и поддержек, который позволяет выжить даже таким странам.
А Рита слушала их рассеянно, а сама берегла в себе и лелеяла ту прекрасную мысль, что плохой человек больше хорошего по своему суммарному содержанию. И еще она старалась произвести в своем организме как можно больше доброты и любви – этого теплого влажного вещества, чтобы утопить в нем острое, колючее, неприятное воспоминание о будущей телеграмме, которую попросит Юра у своей врачихи. Утопить это колючее и окутать весь мир добрым своим отношением. ВСЕХ ЛЮБИТЬ, вот в этом она видела свое искупление. Полюбить пса Хаешку, которому Кузовлевы скармливают валюту, полюбить этих Кузовлевых вместе с их сыном, полюбить Юрку, полюбить арабов и их станцию, полюбить чистую синюю воду Евфрата. На станции она лениво перекатывалась, гладкая, лоснящаяся, как грива у коня, переваливалась через бетонную кровлю машзала – и вот уж белопенная стена воды клонится, кренится, валится и обрушивается, рассыпаясь, и завораживающему этому падению нет исхода: опять во всякий миг оно возобновляется, и если долго смотреть, вестибулярный аппарат приходит в замешательство: будто сам ты клонишься и летишь в бездну.
В пультовой иллюминатор метра в три поперечником. Одна стена сплошь люминесцентная. Чисто космический корабль.
Юра водил ее по станции, показывал.
В машзале в аристократическом безмолвии блистали полированные макушки агрегатов. Звук их тяжкого труда скрыт глубоко, и там, в глубине, за дебрями патерн и спиральных камер (ах, как сильно Коля Кузовлев упрощал насчет закона Ома!), – там несется со зловещим свистом по кругу, по кругу гигантский волчок ротора вокруг своей немыслимо сбалансированной оси, как на привязи – и того и гляди нечаянно сорвется и сметет, срежет, слижет, как корова языком, все, возникшее на пути, сделанное все равно из камня ли, из железа или из загадочной живой материи.
Полюбить! – внушает себе Рита.
Станция достраивалась, в строй ввели пять агрегатов, остальные три были на разных этапах сборки и монтажа. На дне трех шахт – заглянешь сверху – копошатся арабы-рабочие в беззвучных вспышках электрического огня сварки. Звук из глубины не долетает доверху: падает обратно, не преодолев высоты. Рабочие на торопятся: пока идет монтаж, у них есть работа и твердое пропитание. Ведь, в сущности, они не рабочие, а крестьяне-феллахи, но земля нынче кормилица ненадежная, и эти люди переметнулись к индустрии, покуда сияют на каждом готовом агрегате улыбчивые портреты президента.
Полюбить! «Кто много любил, тому много простится» – кажется, так?
А земля, оставленная этими феллахами, – что ж, она как старая жена мусульманина – ничего, стерпит безропотно его новое счастье. Когда-то давно она была юная, плодородная, орошенная и повсюду цвела. И никто бы не изменил ей. От войн порвались жилки ее оросительных каналов, тело покрылось сетью морщин и трещин, полопалась кожа от жары. Ломать не строить. И феллахи отвернулись от нее. Простодушные, они думают, что ГЭС их к о р м и т. Кормить может только земля. А ГЭС дает чужеродную материю – электричество – ее нельзя забрать в свое тело и использовать для поддержания жизни. И если эти перебежчики, что копошатся в глубине шахт в своих пестрых головных платках, и сыты пока – то вовсе не благодаря улыбке президента и мощи сооружаемой станции. А только благодаря тому, что не все оказались такие умные, нашлись и разини: остались на бедной земле и возобновляют ее. Аллах им в помощь!
Полюбить!
В углу машзала плиточник мостил незавершенный пол. Плитки ложились, притертые одна к другой намертво. Каждый народ что-нибудь умеет делать лучше других. Два мальчика помогали отцу: подтаскивали плитки. Их школьные сумки брошены в стороне – школа здесь занятие побочное. Юра с Ритой смотрели на работу плиточника и его сыновей, а мальчики блестящими глазами поглядывали на русского инженера. Он казался им великим существом. Они надеялись все же когда-нибудь достичь равновеликости с ним. У мальчиков для этого был большой запас возраста впереди – при помощи этой форы, этого капитала лишнего времени они надеялись нагнать прогресс, от которого безнадежно отстал, например, их отец.
Нет, он хороший отец, они любят своего отца – здесь вообще многообразно любят: родителей, братьев, товарищей, детей (научиться у арабов любить!) – их отец квалифицированный плиточник, он хорошо зарабатывает – но тайна электроэнергии ему недоступна! Суть ее невидима глазу, она поддается только догадке ума. Сколь же развили свой ум эти русские, если без труда проникают в тайну невидимого и свободно управляют им как понадобится. До той точки великого умения, в какой сейчас свободно пребывают русские, их отец уже никогда не допрыгнет, он пропустил свой шанс, но они, мальчики, его сыновья, не прозевают, они будут во все глаза глядеть, во все уши слушать, ничего не упустят. Их старший брат Икрам – он уже сумел, он самоучкой, без специального образования догнал русских и теперь работает с ними, на равных владея тайной электричества. Он – как почтальон Абебе Бикила, босоногий марафонец, обогнавший всех, культурно тренированных, специально обутых остальных… А они, младшие братья Икрама-самоучки, – они, воспользовавшись ступенькой его усилий, смогут подняться еще выше – взобравшись на готовые плечи предыдущего, как в пирамиде. Они кончат школу, они поедут в Алеппо и будут учиться там в электротехническом колледже, и им не придется до всего додумываться самим – придет преподаватель и расскажет все в готовом, уже добытом виде.
И так они стояли по разные стороны взаимного сознания и завистливо любовались друг другом. Юра – плиточником, сыновья плиточника – Юрой. Но знает ли Юра толком тайну электроэнергии?
Любое знание открывается каждому поодиночке – и кто осмелится подумать, что ему оно открылось все? Вдвоем его никто не видел, невозможно сопоставить хотя бы два свидетельства.
Но ничего, главное полюбить. Остальное дастся само.
Юра дежурит в паре с арабским инженером Рашидом – он учился в Союзе, и жена у него русская, и по-русски он говорит вполне, но предпочитает молчать и улыбаться, ибо как белый свет вмещает в себя все цвета спектра, так одно лишь молчание вмещает в себя всю полноту мысли, тогда как выделение из молчания одной какой-то его части – высказывание – неизбежно приводит к ущербу правды. Рашид как в первый раз дружелюбно улыбнулся Юре и сказал: «Как дела?» – так с тех нор не нашел нужным добавить к этому что-нибудь еще. Все разговоры заменяла улыбка и «как дела?» – вопрос, не требующий ответа. Что делает здесь его русская жена? То же, что все женщины повсюду: готовит, покупает, стирает, моет, шьет. У нее двое детей, красивых и умненьких метисов, которые все-таки скорее арабы. Слишком сильна эта кровь, все одолеет. Ей пришлось принять мусульманство, иначе их брак был бы невозможен по закону страны Рашида. Она приняла. Это нетрудно: трижды надо произнести формулу-клятву: «Ля илляха илля Алла, Мухаммад – расул Алла». Нет бога, кроме Аллаха, Мухаммад – пророк его. Вот и мусульманка. Еще в Москве. Да, есть. В Москве все есть, даже мечеть. Это здесь нет ничего, кроме киношки, и Наталья рада всякому появлению русских у себя дома. Приходят к ней Рита с Милой, Наталья наряжается, вдевает в уши серьги, варит кофе, они курят и беседуют. Ее муж вежлив, улыбчив и добр с ней. «Как дела?» – приветствует он ее, приходя с работы. Она кормит его обедом. Говорить нечего. Время от времени Рашид поднимает глаза от тарелки, натыкается на взгляд Натальи и засылает туда, в зеницы, вглубь, импульс молчаливой нежности. Что еще говорить? Вот женщина – это данное тебе в единоличное пользование средство сообщения с вечностью. Твой колодец в бездну жизни. Через этот колодец ты можешь удить, выуживать, добывать из запасов вечности себе людей. Своих людей, особенных: детей. Можешь наудить сколько захочешь. И когда устанешь, сам можешь, как в убежище, укрыться в ней. В плоти ее – как в тени оливы. Что тут еще нужно говорить?
Но Наталья – европеянка, она этого не понимает. Ей этого мало. Каждый год Рашид пишет ей бумажку: разрешение на выезд из страны (это здесь единственный документ для выезда – разрешение мужа). И она едет в Москву – через Германию. Германия ей ностальгически напоминает утраченные времена юности, когда она училась в институте иностранных языков. Немецкий пригодился ей в этой стране только раз: пригласили настройщика роялей из Алеппо, тот приехал и оказался немцем. «Шпрехен зи дойч?» – спросил он Наталью, увидев европеянку. «Бисхен», – печально ответила она. С любовью и тоской они поглядели друг на друга, два чужеземца, и дальше сообщались уже по-арабски. Узнала, что к Валиду Улыбычу приезжает из Австрии друг со своей девушкой, напросилась «хоть по-немецки поговорить».
Оказалось, австрийка только девушка, а друг Валида – полноценный, красивый, густокровный, жгучий араб Мухаммад. Просто он учится в Вене, изучает вместе с Ингрид медицину, уже год они вместе снимают квартиру и даже собираются пожениться… Ингрид беспородная, блеклая, как бы вылинявшая от многих стирок, но это не мешало ей держаться вполне небрежно: оттанцует, упадет в кресло – и раскидает во все стороны плети конечностей. А Мухаммад перед нею раболепствовал, нисколько не ценя национальной своей красоты – а может, даже и стыдясь ее, – перед этой выцветшей, разбавленной кровью Европы. А равнодушная Европа принимала поклонение свысока, и ни разу не взглянула ни на русских подруг Валида, ни на стройного, чудной красоты гостя – Икрама. Светятся из смуглой худобы лица ореховые глаза, обшлага куртки отвернуты, и белоснежной рубашки обшлага тоже отвернуты поверх куртки – такое вот обрамление для смуглых его кистей, и сигарета в сухих сильных пальцах, а голова покоится, слегка запрокинутая, как у отдыхающего орла.
Австрийка Ингрид (на лице полная индифферентность) набалтывает по-немецки что-то пустое, а бедная наша космополитка Наталья с трепетом ловит каждое слово и переводит для Риты и Милы.
– Добавь вина. Я не хочу много танцевать, а то вспотею и потом замерзну. У вас тут холодно. Я ожидала, что будет теплее. Вам, арабам, хорошо, вы вообще не потеете. Расовые свойства кожи. Только благодаря этому жители пустынь не бывают грязными. А который час? Мухаммад, дай зажигалку. Моя, как всегда, сломалась. Эти зажигалки – просто мой рок. У меня сумка забита зажигалками, посмотрите. Ломаются.
– А ты купи «ронсон», Ингрид.
– Покупала, то же самое. Мне говорили, что это от человека зависит: один имеет поле, губительное для вещей, другой – наоборот, сохраняющее.
– А ты носи с собой спички.
– Спички я теряю.
– Ну тогда води с собой Мухаммада, а у него будет зажигалка.
– Она меня не берет с собой почти никуда, – пожаловался Мухаммад. – У нее там свои какие-то знакомые, друзья…
– О, Мухаммад, не будь таким занудой. Это сказывается твой национальный феодализм в сознании. Мы так не договаривались.
– Молчу! – пристыженно сдался Мухаммад.
Тряпка!
Остролистые веера пальм-подростков уперлись в стекло из темноты сада и похожи на растопыренные ладошки, когда ребенок глядит через окно, приплюснув нос. Из гостиной дверь в сад. Южные вечера темны, в саду есть калитка. Ну, кто хочет незаметно прийти к Валиду поздним вечером на свидание? Никто не хочет. И почему я такой несчастный? И тщетно благоухает французскими умащениями.
– Ингрид, неужели наша страна такая уж феодальная? – задело.
– Да, у вас много детей. И многоженство. И женщину покупают.
Это не понравилось красивому гостю Икраму. Оказалось, он жених, скоро у него свадьба. Отец Икрама заплатит за невесту пятнадцать тысяч. (Теперь Наталья переводит с арабского). Нет, почему вы так низко думаете. Конечно, если мы любим друг друга, мы можем пожениться и так, без калыма. Но это будет вечный позор моим родителям. Эти деньги – какая-то помощь моей жене и детям на случай несчастья. Но мы, например, купим на них квартиру и мебель.
Э, а с Милой, похоже, плохи дела. Теперь ей не сойти с этого места. Парализовало. Будет тут сидеть и любоваться этой варварской смуглотой, сверканием белых зубов и ореховым свечением из-под сумрака бровей. Австрийцам это не любопытно. Они сидят, разбросав повсюду свои ноги, и грызут морковку.
Зато Мила всем очень интересуется. Она ничего не спрашивает, только смотрит пристально, завороженно. «Если мы любим друг друга», – сказал Икрам. Ерунда – «любим». Любовь – это вот такой мгновенный паралич. Или прозрение. Это одно и то же. Ты вдруг останавливаешься и больше не можешь сделать ни шагу. Больше не можешь идти по тем делам, по каким шел. И вернуться не можешь. Ты превращаешься в соляной столб. Вот что такое любовь. Бедная Мила.
– Икрам, у твоего отца одна жена? – спросила Рита.
Он смотрит загнанными глазами и вдруг молчит – но видно, что ответит, все равно ответит, не таков этот народ, чтобы посметь пренебречь любым вопросом.
– Две, – тихо произносит он.
– Ой, как интересно! А ты – от первой или от второй?
– Рита! Оставь его в покое!
– Но почему, мне же интересно!
Икрам ответит, он не так воспитан, чтобы считаться со своими личными удобствами больше, чем с чужим любопытством. Спрашивают – говори. Сглотни и говори, что было с твоей матерью, когда отец, плиточник, решил взять себе еще одну жену. Отца нельзя винить, ведь ей тогда уже исполнилось тридцать пять, она уже родила пятерых, Икрам старший, и в углах ее глаз даже без улыбки лежали морщины. Сабах, но ведь это обычай, он уже не одну тысячу лет, и никто не обижается; разве это может быть таким горем? Может, Али, может, ты же видишь. Но и ты должна понять меня, Сабах, что мне делать, ведь это жизнь.
Ему пришлось построить отдельный дом, плиточнику Али, для своей новой жены – он сжалился над Сабах и не стал водворять новую жену в старое гнездо подруги.
– Это удивительно, Икрам, – бережно говорит Мила. – Я ведь видела, гуляют по улицам такие сложные семьи: муж, две жены и куча детей, и обе женщины между собой как подруги.
– Моя мать – необыкновенная женщина, – ответил Икрам.
– Икрам, и ты тоже! – объявила Мила, с ума совершенно сошла.
Валид сразу залоснился, как от жирной добычи, Рита закрыла ладонью рот, и только двое австрийцев хранили свои чувства где-то в их швейцарских банках, а сами путешествовали без чувств, с одними банкнотами.
– Сабах – значит утро, – объяснил Икрам имя своей матери.
Мила встала перед ним, чтобы продекламировать стихи:
– Выше стропила, плотники! Вот входит жених, подобный Арею, выше самых высоких мужей!
Ой, бог ты мой, ой скорее надо уводить товарку, кабы не было беды. Коля Кузовлев, слава богу, в смене, а то эта сумасшедшая может прийти и объявить ему, что она влюбилась в чужого арабского жениха, – и делай с ней что хочешь. С нее станется.
Пойдем-пойдем, пора!
Провожатые ночью в этой добродушной стране не нужны: здесь рожают по многу людей и потом не обижают друг друга, пьяных здесь не бывает, и чужую женщину не возьмут задаром, а будут десятилетиями копить на честное приобретение. Провожатые здесь не нужны, но Икрам проводил их через темный садик. Он подал Миле руку, чтобы она не споткнулась. Его ладонь – сухая, горячая, сильная – почтительнейше исполняла свой долг и ничего не посмела добавить к этому долгу от имени своего чувства.
– А чувство есть, я не могла обмануться! – сказала Рите эта отчаянная баба.
Ой, что будет, что будет!
– Ты это дело брось! – предостерегла Рита.
Сама-то она себе во всяких таких чувствах отказала. Зачем зря рисковать? Здесь, говорят, бывали такие случаи и очень плохо кончались. Рита оставила себе лишь одно невинное развлечение – «проход». Проснуться позже всех в этом городе, часов в десять, умыться, нарядиться – и совершать выход на базар для хозяйственных покупок. Жизнь здесь начинается рано, часов с семи, и ко времени появления Риты хозяйки уже не толпятся у лавок. Рита шествует, каждое свое движение совершая с чувством, с толком. Ее появления ждут. Из разных углов базара, из его причудливых галерей, двориков и закоулков в ее сторону, как по сигналу, оборачиваются лица праздных и уже постоянных ее ожидателей. Они только делают вид, что болтают между собой, курят сигареты и пьют кофе за стойкой кофейни.
Они выступают из тени на пол ленивых шага. Солнце к полудню, тени жесткие, по линеечке. Зрители зрят. Рита это знает. Глаза ее испускают сериями поиско-заманчивые лучи. Для этих лучей у всякого мужчины есть локаторы, как у летучих мышей. Вот они слетелись на сигналы – на поживу. Сочась соками неженатой своей зрелости.
Но поживы вам не будет, летучие мыши. «Проход» – это все, что вам перепадет. Пусть только посмеет кто-нибудь подойти близко! В конце концов, что такое эти дразнящие зеленые лучи из ее глаз? Кто их запеленговал и материально зафиксировал? А что это еще за локаторы у мужчин, что еще за анатомические новшества? Вот то-то! И попробуйте пришить мне дело!
Плохой человек полностью включает в себя хорошего. Разве не может он позволить себе еще что-то сверх того, что лежит в рамках «хорошего человека»?
Рабочее время кончается здесь часа в два. Городок засыпает. Второй этап жизни начнется часа в четыре. И опять эти праздные наблюдатели сойдутся в тенистых галереях базара. Вдруг пронесся слух: русские женщины купаются в Евфрате – все скорее на берег!
А они действительно плавают в купоросной прозрачной воде, и на высоком обрывистом берегу чинно расселись бедуины, расположась смотреть долго и основательно. Лица их выражают терпеливость.
С обрыва замысловато спускались к воде рискованные тропки, пробитые в крутизне мальчишками-рыбачатами. Рыбачата толклись внизу, у воды, на крошечном пятачке плоской почвы. У мальчишек был переполох: никогда им не случалось видеть, чтобы люди так плавали: долго и стилем. Они побросали наземь свои удочки и с безудержной тоской зависти кидались в воду. Там они по-собачьи барахтались вблизи береговых камней, не сводя глаз с тех, плывущих.
Маленький Валера Кузовлев проходил по берегу со своим псом Хаешкой. Он увидел распластанных в воде своих родителей и их друзей Хижняков, увидел рыбачат, барахтающихся у берега, и закричал сверху:
– Мама! Папа!
Пусть эти рыбачата знают!
Из воды весело отозвались, замахали руками; и бедуины с берега, и рыбачата снизу, как и было рассчитано, все обернулись к Валере и завистливо на него посмотрели, как смотрят люди из тоскливой очереди на счастливчика, которому машет призывной рукой продавец.
– Спускайся! – кричит Коля Кузовлев сыну.
– Не спускайся, упадешь, тропинка крутая! – кричит Мила.
Они резко поплыли к берегу, и рыбачата боготворяще отступили, давая им на пятачке место одеться. (Теснота сближала, и потом на улице, случайно попавшись навстречу, рыбачонок взахлеб приветствовал: «Здорово, мистер!», изнемогая от счастья личного знакомства, и обегал квартал, чтобы продлить счастье еще на миг! «Здорово, мистер!»)
А со стороны базара поспешали вразнобой Ритины вздыхатели, получившие счастливую весть. Они изо всех сил держались, чтобы не побежать, и делали вид, что они просто так все разом тут гуляют по направлению к Евфрату.
Опоздали, бедняги: вот уже выкарабкались наверх одевшиеся пловцы, остановились около Валеры маленького, Хаешка радостно подпрыгивал, Мила наклонилась к сыну, а Рита зорко огляделась по сторонам. Обожателям ее только и перепало увидеть то же, что обычно: выпуклые губы, наполненные кровью, острое лезвие переносицы: нос лепили из податливого материала, и позади тонкого хребта остались как бы вмятины от пальцев. И никто из них не мог рассчитывать на везенье.
Плевать на вас, на все ваши радости. Затихнуть, замереть, переждать этот год, или эти два года, ничем себя не выдать, не подвести ни себя, ни Юрку – разбогатеть и запрыгнуть в новую жизнь.
Когда человек еще совсем маленький и не хищный, силы неба благосклонны к нему и дают питаться из своих источников. И он беззвучно улыбается во сне, гость заоблачных пиров, и ему даруется иногда как угощение свобода от пут земного тяготения. Он летит, он летает, носится по воздуху, не чувствуя тяжести и труда преодоления, и видит под собою реки, земли и леса. Этот полет – блаженное открепощение, превращение тела в летучий эфир, весь из колючих вспышек и лопающихся пузырьков. Потом он подрастает, и его или отлучают от этой груди, или нет. Если нет, то он все тверже убеждается в превосходстве этой пищи над любой другой и все дороже ценит мгновения, когда удается воспарить и присоединиться к источнику сил, заключенных в музыке ли, в мысли, в одухотворенном слове. И снова и снова ищет этого возобновления. Но те, кого отлучили, добропорядочные граждане, не мучимые снами, – вот избранники, создатели и хранители вещного мира. Им даются осязательные радости. И Рите пришлось очутиться среди них, постепенно она полюбила вещный мир дороже бесплотного и больше к нему питала доверия. Что лучше: синица в руке или журавль в небе? Для Риты из органов обладания рука стала дороже глаза. Она теперь соглашалась перетерпеть все душевные неудобства как неощутимые и даже вовсе считать их несуществующими, если не бьют кулаком и не отнимают добычу.
Это предпочтение было отдано не сразу (все-таки Рита была одарена и другим счастьем) – но отдано было.
Конечно же, Рита наотрез отказалась от риска, когда арабская жена Наталья пригласила двух своих подруг поездить по стране на ее автомобиле. А Мила не отказалась.
Маленький Валера Кузовлев оставался на Риту.
– А Хаешка? – напомнила Рита. – Хаешку тоже надо кормить?
Мила ужасно смутилась и вынула из сумки еще одну четвертную. Обеим стало неловко.
Нет, а что? Конечно, эти Кузовлевы относятся к деньгам, да и вообще ко всему, по-другому, чем Рита. Мила вообще не думала о деньгах, да и чего о них думать, если они не переводятся. И если нет таких целей на будущее, как у Хижняков. Живут себе и живут. А Рите что же, отрывать от себя для приблудного пса? И вообще, тут стараешься сэкономить на чем возможно, а этот Кузовлев покупает лакомства и раздает бесчисленным голодранцам арабчатам, которые весело попрошайничают и которых все одно не прокормишь. Да еще и публично пса подобрали. Дескать, вот мы какие.
Рита поглядела на протянутую четвертную, пожала плечами:
– Да я ведь просто так спросила, надо ли его кормить. Может, он по старой памяти сам как-нибудь кормится.
Но Мила настойчиво протягивала, и Рита взяла деньги.
Пусть едут. «Мерседес-бенц», две европейки… Желтая даль, оцепеневшая от зноя, селения залиты расплавленным горячим светом. Беззащитные кубики домов под солнцем, сонно плетется в глубине улицы женщина под черным покрывалом, ее одинокая фигура в ущелье вымершей улицы колеблется. Время завязло в чем-то тягучем, как паучок в смоле.
Пятикратно в течение суток от мечетей разносится заунывное пение муэдзинов, призыв к молитве. Мусульмане, застигнутые этим призывом в любом месте природы или города или хоть машинного зала станции, оставляют дела, расстилают карманный коврик, устраивают себе таким образом чистое место, снимают обувь и, опустившись на колени, лицом к Мекке, складывают покорные ладони и сосредоточиваются в смирном чувстве. Пять раз в сутки они поправляют ход своей жизни и чувства этой смиренной позой, сверяя себя по ней, как настройщик музыки сверяет звук по камертону. И если гнев или уныние владели ими в этот час, сама поза делает свое дело и вносит поправки в состояние.
Это помогает им жить в равновесии. Что-то они нашептывают своему аллаху, время от времени низко кланяясь лбом до земли, и нет среди них злых или гневливых.
А скоро начнется месяц рамадан, и в течение светового дня нельзя будет ни есть, ни пить, и русская женщина Наталья в послеполуденный час, когда заснет все ее черноглазое семейство, будет красться на кухню и бесшумно открывать холодильник. Там свежий прохладный арбуз. Отрезать ломоть и… Аллах простит ее, какое ему дело, Аллаху, до нее, выросшей под другим богом, во влажных лесах России.
А пока они едут, путешественницы, останавливаются у кофеен перекусить, бродят по пустым залам музеев, изображают из себя этаких европеек… Прекрасно знает Мила Кузовлева, что без разрешения (а не разрешили бы) нельзя пускаться в частные поездки по стране, и если это нарушение обнаружится, плохо будет этим Кузовлевым с их замашками.
В эти утра Рита делает исключения из своих привычек и встает рано. Надо.
– Тетя Рита, можно, я пойду поиграю с Хаешкой во дворе? – просит маленький Валера Кузовлев.
А она ему:
– Нет, пойдешь со мной на базар. Мало ли что! Пока мать не вернется, я должна за тобой неотлучно присматривать.
На дворе восемь, самый бойкий час, все хозяйки тут как тут, рыщут по базару. Они оглядываются на Риту и удивляются: во-первых, чего это она так рано, а во-вторых, почему с нею третий день маленький Кузовлев?
– Что, его мать заболела? – спросит каждая.
– Да нет, просто так, идет со мной, и все. – Рита пожмет плечами, потупит глаза.
А Валера угрюмо плетется за нею следом, исподлобья поглядывая на враждебных теток, а за ним Хаешка, тоже понурившись. Оба чувствуют своим неиспорченным детским и собачьим чутьем, что совершается предательство.
Бабоньки перешептываются между собой, хищно вращают глазами. Специальные рейды уже прогуливаются у кузовлевского дома, не видать ли на балконе хозяйки. Нет, мертв балкон. Вот уже поднялась по лестнице делегация, позвонили у двери. Никого. Пропала Мила.
Сидит в отделе кадров такой специальный мужчина, миловидный, розовощекий, очень улыбчивый. Вызвал к себе Колю Кузовлева, интернационалиста нашего:
– Где ваша жена?
Коле легче умереть, чем испугаться.
– Путешествует.
– Вы знаете порядок, самовольные поездки запрещены.
Ну и Коля выразил ему полное свое отношение – к его розовым щекам, и к его улыбчивости, и к его занятиям.
К вечеру третьего дня вернулись эти эмансипированные свободные европейки на своем «мерседесе».
Коля ждал жену, уже упаковав багаж. Завтра утром они сядут в автобус – и в порт, на теплоход.
Рита прибежала, подруга:
– Возьми у меня парчу, ты ведь даже, кажется, не запаслась! – жалко ей было Милу.
– Ну что ты! – Мила спокойно. – Я этим заниматься не могу.
– А что такого? Узаконено.
– Мало ли что узаконено… Спасибо. И спасибо за Валерку, что присматривала за ним. Знаешь что… – колебалась Мила. – Если увидишь… да нет.
– Ну? Кого увижу? Что передать? Ну?
– Да нет, ничего, – передумала Мила.
Только от автобуса она все озиралась, все кого-то искала, ждала увидеть напоследок.
Собственно, Рита ведь была не виновата. Она ведь не доносила.
Эти идиоты, уезжая, взяли с собой Хаешку – и на что рассчитывали? Конечно же псу не дали взойти на борт теплохода. Эти Кузовлевы все равно как не в этом мире живут! Как во сне все равно!
Через неделю бедный нес уже снова бегал по улицам городка. Он прибегал к дверям квартиры Хижняков и скулил, собачьей своей памятью взыскуя прежней дружбы. Скулит-скулит – пришлось его пнуть. Глупый пес, не понимает, что все. Дружба вся, дружба вся, дружба кончилася.
Раз отогнала, другой – понял.
Он тогда сунулся к Наталье, арабской жене, уже не рассчитывая на память дружбы. Ему, собственно, надо было только, чтоб кто-нибудь напомнил ему маленького Валеру – каким-нибудь зацепившимся запахом.
Наталья приняла Хаешку насовсем – такого же национального сироту, как она сама, потому что дети ее предпочитали говорить по-арабски, неохотно делая снисхождение для матери – и то очень кратко, экономно роняли слова. У них ведь и гортань была устроена совсем по-другому, чем у нее, их матери…
Наступил рамадан. Зной стоял неимоверный, сонно передвигались по улице арабы, колыхались в неподвижном воздухе их белые гелябийи.
Рита честно старалась все это полюбить. Полюбить, чтобы ей простилось.
Она не виновата, что у нее не получилось. Она не виновата, что содрогалась при виде этих унылых картин. Видеть уже не, могла Рита эти гелябийи.
После отъезда Кузовлевых что-то сильно изменилось. Стало скучно неимоверно. Этого, конечно, она не могла предвидеть. Именно стало скучно. Вот так же, наверное, Иуда без Христа: заскучал-заскучал да и удавился.
Юрка пил араку – здешнюю анисовую водку, закусывал малосольным огурцом. Рита каждый день готовила новые огурцы. Она безучастно глядела, как Юрка напивается и потом крепко спит. Ей больше нравился ликер. Немножко она завидовала Кузовлевым, которые сейчас плывут себе на теплоходе, и им хорошо: они втроем, все вместе и не пропадут. А тут оставайся в этой ненавистной жаре, в одиночку, и эти белые гелябийи, и еще дрожи: дадут продление или не дадут? – продление жизни на этой проклятой земле.
Юра напьется – и жалуется Рите, что шестой агрегат готов к пуску, но эти религиозные фанаты не хотят делать испытательный пуск во время поста рамадана.
Все врет. Притворяется. На самом деле плевать ему и на пуск, и на рамадан. Просто тоска. Кузовлева нет – и некому теперь Юрку поддержать и прикрыть в работе. Его тут презирают как блатного, попавшего сюда нечистым путем…
– Выжила Кузовлевых, подлая баба, – тосковал, напившись. – Теперь и меня выживут…
– А ты письмо написал? – спохватилась Рита.
Юрка не врубался, какое письмо, невнятно печалясь сам не зная о чем.
– Врачихе своей, сучке своей ты написал, чтоб она мне вызов устроила телеграммой?
– А. Нет. Еще не написал.
Рита взбеленилась:
– Ах, он еще не написал! Интересно, чего ты ждешь? Останемся с фигой! Садись сейчас же пиши, я диктовать буду!
Но он потряс головой – отрясаясь от Ритиного крика, как от сора, потом закрыл очистившуюся голову руками, чтобы не впускать новый шум, и весь его вид показывал сейчас, что добиться от него ничего невозможно.
На другой день Рита возобновила разговор – на трезвую голову.
– Да не могу я писать это письмо, не хочу! – морщился, голова болела с похмелья.
– Да почему? – негодовала Рита.
– Не знаю, отстань.
Потом взмолился:
– Может, черт с ней, с машиной, а? Не хочу я уже никакую машину. Не продлят – уедем домой, будем жить, как жили, а? Не буду я писать это письмо!







