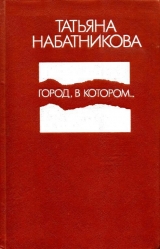
Текст книги "Город, в котором..."
Автор книги: Татьяна Набатникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
И что с ним делать, с таким?
Как стыдно было Нине: что он не может нравиться ей – а рассчитывал на это…
Он не постучал. Понял. Тогда еще стыднее – что понял. За что? – ведь не виноват.
Она понемногу успокоила сердце, посидела в комнате одна. Попробовала заняться курсовым, ну да уж это было какое-то издевательство: отовсюду ломится и просачивается музыка, гул высвобождения счастливых сил носится в воздухе, и посадить себя за курсовой!
Но т у д а возвратиться невозможно.
Она выглянула осторожно в коридор – нет ли его. И отправилась в долбежку – оттуда в такие вечера убирались столы, водворялся магнитофон и вершились танцы для непристроенных, у кого не было компании или пары. Свет не включали – чтоб не видеть лиц и не стыдиться муки наслаждения, которое украдкой получали друг от друга в тесноте томительных блюзов. И Нина там танцевала, щеки пунцовели – лишь бы только перебить чем-нибудь другим то, что было в коридоре, как горькую таблетку запить.
Позже, ночью, когда вся комната собралась, лежали в постелях, перебирая события вечера, чтобы сберечь их для себя: ведь только в пересказе они обретали ту законченность и форму, которая их как бы консервирует для хранения в памяти. Бывшая аморфная и многоликая действительность обрабатывалась на уровне устного народного творчества и только после этого становилась пригодной для долгого существования и повторения.
И кто-то сказал вскользь про Севку, что таким, как он, хорошо бы рождаться сразу старичками, чтоб не обидно было за напрасную молодость.
И стало Нине больно за него – ведь она и сама могла присоединиться к сказанному. Она не могла себе простить того, что все-таки запечатлелось в ней Севкино жалкое лицо, полное просящей надежды, – запечатлелось, а это было безжалостно. Ей-богу, он заслуживал себе хотя бы забвения.
В конце концов этот укор вырос в ощущение непоправимости и вины перед ним. То есть вот эта неистребимая крепость памяти есть предательство и подлость по отношению к нему, и единственным искуплением было бы вот что: перебить эту запись памяти другой, значение которой было бы компенсационным, как бы возмещающим Севке понесенный урон гордости. Другими словами, чтобы покрыть его позор перед нею, ей надо еще ниже унизиться перед ним. Если хочешь что-нибудь прибавить другому, надо отнять от себя, другого способа нет. Закон сохранения.
Себя-то ей было не жалко. Она стерпит.
Шли дни праздника, занятий не было, общежитие язычески разнуздалось, витал в воздухе дурман сладких падений, гром музыки раскатывался по коридорам. Двери зазывно распахивались настежь, и охотились в тесных пространствах глаза. «Эй!.. Ты с какого курса?»
То ли это придало отваги, то ли идея сама по себе была достаточно убедительна, но в шесть часов вечера, во время затишья и упадка, когда, кажется, силы празднества все вышли и уж оно не поднимется – и всем становится тоскливо, как будто общее светило остыло и грозит гибель, – в такой-то час у Нины достало дерзости заявить подругам:
– Девочки, мне сегодня нужна комната. На всю ночь…
Немая сцена. Они – второй курс. У них еще ничего подобного ни у кого..
– Не слабо, – коротко оценила Маша.
Остальные стыдливо молчали.
Но ничего, быстро перестроились. Хотя тоже молча – от целомудрия.
– И вы не хотите знать, для чего мне комната? – с вызовом подняла голову Нина. – Для кого…
– Не хотим, – строго пресекла Маша.
– Ну как хотите…
Все силы Нины ушли на этот поступок, а ведь еще нужно было довести дело до конца. Назвался груздем – полезай в кузов. Она отправилась к Севке на этаж. Он, конечно, оказался дома, потому что больше ему негде было оказываться в праздничный вечер. Нина вызвала его наружу и минимально сообщила самым невзрачным голосом, не глядя в глаза, что сегодня в десять она ждет его у себя в комнате.
Он задрожал от озноба, переспросил:
– Ты будешь одна?
– Да, одна.
Праздник между тем реанимировали, он оживал и снова набирал скорость.
Сева как начал трястись, так, похоже, и не останавливался до самого назначенного срока, и когда она открыла ему, впустила, он бессильно откинулся спиной на закрывшуюся дверь и затылок умостил на ее спасительной тверди, а глаза так и хотели зажмуриться, спрятаться за веки.
Нина, видя такой его полуобморок, с решимостью обняла его для ободрения, прижалась и услышала, как ухает его сердце, обрываясь на каждом ударе. И еще она нечаянно ощутила самовольное проявление его природы, за которое Сева – мог бы – умер со стыда, – наглое ее, требовательное утверждение. Устрашилась было Нина, но исполнение задуманного требовало всех ее душевных сил – на страх просто не осталось топлива. Страхом пришлось пренебречь, как в математике бесконечно малыми величинами.
Она завладела его каменной рукой и потянула внутрь комнаты. А у него не шли ноги. Он сел, окоченелый, на ее койку и боялся. Нина и сама боялась, но когда один уже начал бояться, другому остается только смелость, и эта смелость, что делать, выпадала ей.
– А девочки что, все разъехались? – трясущимся голосом спросил он невинно, презирая себя за приапизм.
Нина кивнула.
– Хочешь кофе?
Кивнул теперь он. Они боялись своих голосов: голоса выдавали с поличным.
Кухня была в коридоре напротив. Газ, пять минут.
– Можно, я сниму пиджак? – спросил он, волнуясь, когда она принесла кофе. – А то жарко. Я весь мокрый.
– Можно! Все можно… – самоотверженно сказала Нина.
– Все снять? – растерянно переспросил Сева.
Нина расширила глаза, не зная, что сама имела в виду – «всё».
Он встал и начал раздеваться. Нина озадаченно склонила голову. Он снял пиджак и смотрел на нее:
– Что еще?
– Что?
– Что снимать?
– Ты дурак? – опомнилась она.
– Ну хорошо, – он сел. – А где кофе?
– Не расплескай.
Он стал пить. Горячий. Не чувствуя.
– Я выключу свет? – спросила Нина.
Он кивнул и замер – не поверил, что выключит.
Нина пошла к двери и выключила. С улицы сочился в окно ядовитый люминесцентный свет.
– Ты что, правда? – шепотом сказал Сева.
– А что? – струсила Нина.
– Так не бывает…
– А как бывает? Ты знаешь?
(Она то трусила, то крепла, вспомнив, что кто-то же должен брать на себя решение, и этот кто-то из них двоих – она.)
– Так не бывает!
– Ну и пошел вон!
– Лучше включи, – жалобно попросил Сева.
– Ну и… – Нина вернулась опять к двери, грубо шлепнула по выключателю. – Баба с возу – коню легче! – И громко бодро осведомилась: – Ну, о чем будем беседовать? На какие темы?
Брякнулась на стул, ногу на ногу, нервно скрестила руки.
– Давай я лучше уйду, а? – попросился Сева наружу.
– Пожалуйста! Я вообще не знаю, зачем ты пришел. Зачем ты пришел, а?
– Ты позвала, – испуганно объяснил Сева.
– Тебе примерещилось! – заявила Нина, презирая.
– Ну, тогда я пошел?
Она безразлично проследовала к окну, чтобы переждать там, пока он уйдет. Она устала. Ее трясло.
Сева надел свой пиджачок, поплелся к двери. Оглянулся, она видела в стекле его отражение. Помедлил. Проверил надежность запора на двери и выключил свет. Нина стремительно обернулась. По коридору близко топали туда и сюда шаги празднества. Иногда шаги пробегали. Но в комнате царила неприкосновенная тишина.
– Ты чего?
Он приблизился. Смелым был теперь он.
И вот он поцеловал ее как умел.
Нина стала как растопленное масло. Им было по девятнадцать.
– Ну-ка, ну-ка? – замер Сева, прислушиваясь к тому, что происходило в этот миг в их обоюдном состоянии, миг послушно приостановился, надежды Севы подтвердились, и пришла бесповоротная решимость. Но когда один становится смел, другому можно начинать бояться – Нина вырвалась, высвободилась, взъерошилась:
– Ты чего?!
Кинулась к двери, включила обезоруживающий свет.
– Успокойся! – потребовала.
– Пожалуйста! – пожал он плечами, щурясь от внезапного света. – Я успокоюсь.
– Вот и успокойся.
– Вот так.
Зубы у нее стучали.
Он вздохнул, скучно поглядел в окно, произнес:
– Ну, я пойду? – как будто зашел сюда нечаянно на минутку.
– Спокойной ночи! – ненавидяще пожелала Нина, открыла дверь и держала ее, как швейцар.
Потом захлопнула за ним.
Он больше не казался ей жалким и недостойным внимания.
Ведь она потратила на него многие силы. Он стал стоить дороже ровно настолько, сколько вложила в него Нина драгоценных своих усилий.
Потом стоимость возросла еще больше: целый семестр они жили врагами, видя, слыша, замечая всюду только друг друга. Тем самым вкладывая один в другого капитал своего чувства. Такой вот банк. Неважно, каким чувством пополнялся этот вклад, – главное, что это была энергия сердца.
Летом они случайно (им так казалось: случайно) очутились во время трудового семестра в пионерском лагере. Нина воспитательницей, Сева в радиоузле. И там – утро, в которое счастливый Севка заявил:
– Давай отпразднуем нашу свадьбу!
И поехал в город за шампанским. И отпраздновали – вдвоем.
А поезд подъезжал к станции…
Отец подмигнул с перрона, сделал бесстрастное ковбойское лицо, ленивый взгляд. Нина так и задохнулась: опять время уплотнилось, понеслись события разных лет, прошитые насквозь, как стопка бумаг, одним вот этим образом: отец, то прежнее Существо всегда с праздником в запасе, неистощимая игра, «мы ворвемся ночью в дом и красотку украдем, если барышня не захочет нас любить…», бес в глазах, бес свободы.
Вот он, погрузневший, осевший, но все же «ковбой» – как старый конь, который не испортит борозды. Принял их из вагона, задержал на мгновение испытующий взгляд на лице Леры: новенькая, еще неведомая девочка. Руслана взял – и перевернул вниз головой. Тот взвизгнул и вцепился в руки. Господи, дома!
Верный, старый, пожелтевший председательский газик – жив еще! – да сколько же ему лет, а сколько дней жизни промоталась Нина с отцом на этом газике – «Пошли!» – нахлобучит он драную шапку на дикие кудри, свалявшиеся от беспризорности, – и Нина впрыгивает в кабину – куда едем? да какая разница! – пальто отец не носил, вместо пальто был этот расшатанный газик с искрошенным в мозаику, но чудом держащимся стеклом. Внутренности машины обнажены, хозяин повыбросил все облицовочные панельки как излишество, но расшатанность машины – это обман, они приработались друг к другу, машина покорилась хозяину раз навсегда и слушалась его машинальной руки безоговорочно. А отец – он не водит машину, нет, он просто передвигается ею – естественно, как ногами, не задумываясь, не замечая этого. Когда-то на заднем сиденье жил неотлучно белый мохнатый Шарик, и когда отец выпрыгивал из машины, исполняя свое председательство, они, бывало, засыпали все трое от усталости: Нина, Шарик и газик – и спали до тех пор, пока он вновь не ворвется внутрь в своих притерпевшихся к любой обстановке штанах и куртке, шлейфом волоча за собой вихрь жизни, тут мигом они просыпались, взбадривались и неслись дальше – куда? за аккумулятором, потом на ферму, потом к черту на кулички, потом в ремонтные мастерские, и отец громко клял ветеринара, главного инженера и Евгения Евтушенко, секретаря райкома и жиклеры в карбюраторе. Папка!
И вот он теперь вдруг:
– Устал… Пятнадцать лет председатель. Все. Износился. Износил председательство – как френч.
(Сорок километров дороги, ветер полей в лицо…)
– Это не возрастное, я никакого такого возраста и не чувствую. И понятия не имею, какой такой возраст. Эта усталость – как аккумулятор садится. Накапливаются шлаки. Власть на человеке с годами нарастает, как годовые кольца на дереве. И человек как бы умощняется. И все больше перед ним притихают. За спиной уже клянут, а на собрании сказать боятся. Еще бы: вдруг не удастся свергнуть? – тогда ведь я мятежников живьем заем! Ну и сидят. Да и лень тоже! Отголосовать скорей – и за бутылку. Никому ничего не надо. А я смотрю на все это – и мне даже интересно: докуда они дотерпят меня, до какого упора? Эксперимент, можно сказать, ставлю на себе. Чуму себе прививаю!
Жутковато засмеялся. Нина сжалась, пальцы к губам.
– Пьют? – спросила шепотом, с предосторожностью: чтобы не дать бесноватым темным силам легального существования, громко называя их по имени. Пусть таятся по углам, вслух мы не признаем их – а неназванные, они не посмеют выползти на свет.
– Запились, – так же тихо ответил отец.
Нина зажмурилась – от гибели мира, на который полагалась, в котором собиралась долго и счастливо жить. Отец увидел в зеркало и не стал успокаивать.
Неподвижно стояли у дороги поля, глядели на людей, как погорельцы с картины Прянишникова, – и даже не протягивали руки.
– Что же делать, а? – спросила Нина – беспомощно, как в детстве, когда отец еще знал, ЧТО ДЕЛАТЬ.
– А, отвернись и живи. Доживай. Что ты можешь сделать!
Нина виновато глянула из окна машины – как совестливый дворянин из кареты на взоры столпившихся крестьян.
– Деда, а волки здесь живут? – теребил Руслан.
Нина смотрела на поля: живут ли здесь волки? Эти лесистые лога дружелюбней домов, тут когда-то колесили на великах, ели весной тюльпаны-«барашки» и сочные стебли «петушков», а летом саранки, мир был одухотворен, как кровный товарищ, – какие волки? Но вот этот мир, он взирает отчужденно, как одичавшая лошадь, не узнавая хозяина; как жестокий монгол, не могущий внять мольбе, – все изменилось, как будто геологические эпохи прошли со времен ее юности, земля постарела, осела, истощилась – и, как на больном человеке заводятся вши, так на этой земле, оставленной без ее, Нининой, любви и присмотра, вполне могли уже завестись и волки!
Неужели ничего нельзя сделать?
– Папа! – придумала. – А ты подай заявление, пусть тебя переизберут!
– Волков у нас нет, – сказал Руслану. – Зато есть цыгане. – И вздох, уже Нине: – Ты думаешь, дело во мне?
– А вдруг?
– Кто такие цыгане? – пытал Руслан.
Лерка проснулась, заворочалась и заплакала. Отец помолчал, потом злорадно сказал:
– Все равно не уйду.
– Но почему? – досадливо, укачивая дочь.
– А не хочу, – с той великой простотой сказал, с той пустотой, которая остается в человеке, из которого до капли вытекла вся вера, любовь вся и надежда.
Давно же Нина дома не была. Она и Лерку плачущую трясти забыла, она вытаращила глаза – так вирусы, наверно, остолбенели при появлении пенициллина, и какое-то время понадобится, чтобы выработать встречное противоядие; она растерялась: как же так, где же ОНО – то, что держало мир на своих плечах, те три кита? В Хабаровске на площади стоял – из старинной, потемневшей и позеленевшей бронзы – усталый русский мужик в казачьей шапке, тулуп овчинный сполз с плеча, обнажив кольчугу; стоял мужик прочно, просто и достойно, иструдавший, но крепкий, и не было в нем позы ни героя, ни властелина. И сколько дней жила там Нина, столько раз ездила к нему на площадь – за верой. Посмотрит – и почувствует, что жизнь прекрасна и проста и что к правде призывать не надо, так надежно она скажет за себя сама. И на подиуме надпись, всего три слова высечено в полированном граните с простотой старинного времени: ЕРОФЕЮ ПАВЛОВИЧУ ХАБАРОВУ.
– …черные такие люди, цыгане, – объяснял отец Руслану. – Поселились у нас в деревне, купили дом. – Обернулся к Нине. Мира искал, заискивал: – Слышишь? Семейство человек двадцать, кто кому кем приходится, сами не знают. Двух человек отдали в жертву: работают от них ото всех на конюшне – для блезиру. А цыганки каждое утро – на городской автобус – и на промысел. На настоящие, так сказать, заработки.
– Гадать умеют? – согласилась Нина на мир, нет, на перемирие.
– Я тебе погадаю! – нежно сказал отец и с облегчением прибавил газ.
Но вот и дом, бог ты мой, мама на крыльце, синие ее глаза, так перед взором и стоит дымка, как будто синева испаряется; а вот бабулька выползает на свет божий, а за нею шарашится дружочек ее, дед Слабей. Ахи, слезы, улыбки…
Все будет хорошо. Вечерами – ночами – будут сидеть на веранде. Обострится к ночи запах земли и ее растений; глядеть из темноты без препятствия в самые зеницы звезд; а голоса будут жить отдельно, в темноте – заметнее, чем днем.
«Вот ты выросла, а мы с отцом стали как прошлогодние картошки. Вырос из нас новый куст – вся наша жизнь в тебя перекачалась». И разубеждать: «Мама, нет! Вы не картошки, вы – дерево, которое цветет каждый год, а я лишь плод, который поспел и отвалился».
Уж дед Слабей, отпивши чаю, удалился, кряхтя, в темноту улицы – к себе домой потопал доживать.
«Бабуля, что за беспринципность!» Улыбается бабуля, отмахивается. Он ее когда-то раскулачивал, Слабей, было время. А теперь родные. Чем меньше их остается, старичков и старушек, ровесников, тем они теснее друг к другу прибиваются. Сужается вокруг них смерть кольцом, никому не видно, только им одним. А молодые живут рядом – и невдомек им, и не слышат, и не подозревают даже, что кто-то в опасности: кругом все спокойно, войны нет. В войну-то не обидно помирать: все поровну. Обидно одному уходить – среди общего лета. Спасите, помогите! Никто не услышит. И тогда жмутся, как ягнята в буран, и все друг другу простили.
«Бабуля, как же так, а?» – забавляется Нина. Бабуля машет рукой, топит улыбку в чем-то таком, что уже и лицом не назвать – одна идея. Уж это у стариков и младенцев одинаково: у них есть только суть, идея, а внешности почти нет – за ненадобностью. Внешность нужна промежуточному возрасту, чтоб служить паролем, отличительным знаком, по которому один выбирает другого для продолжения рода – так растение в свою пору выпускает наружу цветок – чтоб его опознали – а после вновь сливается с общим зеленым покровом.
…И остаться тут. Роскошная мысль.
«Руслан, останемся тут?» – «А папа?» – «У нас будет дедушка вместо папы». – «А папа?» – «Да видишь же, с папой совсем невозможно стало жить!» Подумал недоверчиво своей головой и упрямо опроверг: «Нет, с папой можно жить». – «Можно?» – «Можно», – с твердостью.
Можно?! Влезши на стул, он стоит, этот его папа, у форточки зимой и принюхивается к воздуху. В руке у него комнатный термометр, приготовленный, чтоб высунуть наружу.
– Завтракать!..
– Сейчас-сейчас, – бормочет.
Хорошо же ему. А она закончила уборку, подняла пылесос с ковра, чтоб унести, – защелки с грохотом в который уже раз соскакивают, аппарат распадается в воздухе на части, пыль и ошметки – рух, пух, пых, и чтоб тому конструктору таких же всяческих благ, а этот все торчит в форточке, проверяет свои догадки. Руслан за столом болтает головой и ногами, яичница спрыгивает с вилки, и он ловит ее, сгребая всей горстью, как ускользающую рыбку, и заливается смехом, как в игре с живым товарищем.
– !!! – угроза ему – глазами. Не верит, смеется.
На третьей тарелке яичница стынет, папа Сева измеряет температуру наружного воздуха. А воздух рвется внутрь, как в поисках укрытия. Порабощенный городской воздух – как конь, которого словили и навьючили: вывози выхлоп нашей скученной жизни. Особенно тяжко ему в безветрие: сверху давит, топит вниз – а сбоку никакой помощи. Зато в солнце, когда небо доверху освободится, воздуху просторно, он взмывает на дыбы и блистает морозными искрами. Но ему, Севке, природа, лишенная разума и свободы воли, – лишь полигон, на котором материя подвергается действию физических законов.
Но вот он приступил к завтраку, не замечая его, и мозги у него с шорохом шевелятся – как тараканы по ночам шебаршат в комке бумаги. Выпрастывает, мыслитель, очередной физический закон из руды хаотической действительности. Осточертело. Вскакивает из-за стола и бежит в комнату проверить еще одну догадку. Потом возвращается, озадаченный, а Руслан сопровождает его взглядом, зажмуривая то один глаз, то другой.
– Окривеешь! – громко бросила вилку и встала к раковине мыть посуду, не дожидаясь, когда они наконец наедятся.
Стоя к ним спиной, неотрывно глядеть на струю воды, чтобы не видеть в окно света (хуже нет быть несчастной в ясный день воскресенья: природа бросает тебя и справляет свой праздник одна. То ли дело в слякоть, в хмарь – тогда вы с природой как горькие кореша, познавшие цену всему на свете). А вода расточительно лилась, лилась, зря изводилась, а между тем эту воду, выкачав из реки, долго очищали и отстаивали. Говорят, англичане не пускают воду, на проток, а умываются и моют посуду, заткнув раковину пробкой – как в тазике. Долго будут благоденствовать англичане, способные поступиться благами текущей воды. Вздохнула и завернула кран. Сева поднялся, прихватил термометр: «Поднимусь наверх к соседям: надо померить на разных уровнях…» Хоть бы они спустили тебя с лестницы!
Без него сразу стало лучше – что-то прямо физическое… «Ну, чего ты там все моргаешь?» – сразу добрее и благодушнее обратилась к Руслану и засмеялась вперед: как бы проветривая смехом воздух, чтоб в нем можно стало существовать счастливо. Оказывается: тоже проверяет свое открытие: накануне вечером при электрическом свете он обнаружил, что правый его глаз в одиночестве видит все голубоватым, а левый – желтоватым. Перемаргивался, проверял – но при свете дня открытие не работало.
Мальчик мой… Гуляли по лесу, крался охотником, ловцом – мир ловил – в свой ум, как бабочку в сачок. А мир как ручной – сам шел навстречу и проникал без препятствия в самое сердце. Потом внезапный дождь, обильный, но смирный, весь разом так и упал, а они стояли под черемухой, ветку трогали теплые капли, дождь дышал на них влажно и тепло, как теленок, все в природе было промыто, прогрето и шелестело, и Руслан смотрел поверх мокрых листьев темными глазами – сквозь мать.







