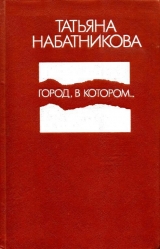
Текст книги "Город, в котором..."
Автор книги: Татьяна Набатникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
Глава 12
ВРЕМЕНИ ХВАТИТ НА ВСЕХ
Вот о н лежит перед нею – беззащитный, спящий, бедный… Проснется, увидит ее – что с ним будет? Что с н и м и будет? (Не ждала, что придется еще когда-нибудь объединять себя с ним общим местоимением.)
Вспомнилась пустячная одна перемолвка из времен любви. «Ты любишь птиц?» (Чисто женский вопрос.) Он ответил: «Кур». (Кажется, он даже сказал «курей».)
Все остальное, собственно, было похоже на этот диалог. И все-таки протянули, продержались на чем-то. Что ж, иногда было и хорошо. Правда, всегда за счет чего-нибудь постороннего – еды, погоды. Лежишь, например, в лесу, на поляне, загораешь – конечно, хорошо! Все стрекочет в траве, солнце звенит, деревья вслушиваются в ток своих животворных соков. Юра ругает медицину, долгие перед заграницей медосмотры. Солнце трогает ножу, шорох листьев баюкает, природа отпускает тебе все грехи, оправдывает тебя каждым своим шевелением, искупление дает, индульгенцию: живи, не мучайся! Но тут же вспомнишь, как забрели недавно в зоопарк (в руках по мороженому, рты разом смеются и едят) и вдруг Полина видит: ее родители с дочкой. Ее дочкой. Воспитательное мероприятие осуществляют (а она, Полина, какое мероприятие осуществляет тут? название есть ему?). Хорошо, не заметили, на зверей смотрели. Полина отпрянула за угол. Мороженое не смогла больше есть – в урну. А Юрке жаль свое выбросить, но и есть вроде не солидарно – поколебался и проглотил целиком…
Бодрый глупый Юра Хижняк. Нет, он не глупый, он вон какой умный: «Представь себе, не какая-нибудь нарошечная тренировка, а реальный случай: вытекло масло из выключателя. Масло, гасящее искру при отключении. Иначе может так ахнуть, что… Пока не поздно, надо обесточить масленник и наполнить. А как его обесточишь, если он питает трансформатор водонасосной; их там два трансформатора, но второй, как назло, на ремонте! Придется, выходит, обесточить водонасосную, а это значит остановить нашу ТЭЦ и еще одну, заводскую, которая висит на нашей водонасосной. Ну, все в панике. Представляешь?» – «И тут выходишь ты и…» – «Нет, а что тут смешного, именно так: выхожу я и говорю: не может быть! Не может быть, товарищи, чтобы нельзя было запитать водонасосную от заводской ТЭЦ! И действительно, Путилин тут же вспоминает, что через наши два размораживающих устройства действительно проложен резервный кабель. Слабый, правда, но один насос питать сможет, хоть не останавливать обе ТЭЦ». – «Браво, – говорит Полина перегретым, утомленным от солнца голосом. – Геройски предотвратил… или как там. Рядовой подвиг скромного труженика». – «Вот напрасно ты недооцениваешь, – обижается. – Во всяком случае, Егудин бы не нашел выхода. Тот Егудин, чье место, ты говоришь, я занял». – «Я этого не говорила». – «Но думала!» И тут в ней поднимается раздражение – как будто они лет десять уже супруги, и все, что каждый из них может сказать, другому известно до отвращения. «От-ку-да ты можешь знать, что я думаю!» Но – замяли… А по дороге из леса они забрели на собачью выставку, Полине непременно захотелось взглянуть на собачников, сумасшедшую эту породу людей. В штанах, облепленных шерстью, замерев, дожидались они своей очереди пройти по кругу под придирчивым оком судей. «Задними косолапит», – уничтожала моську судья дама, и моськина хозяйка покорно отступала назад в круговом шествии, с жалким упорством продолжая претендовать, а беспощадная дама уничтожала следующую: «Лопатки вывернуты!» Все это привело Полину в истерический восторг. Мужики в таком состоянии, наверное, ищут драки. Юрка с опаской косился на нее, и на трусливом лице его было написано: «Надо когти рвать».
За столом среди поляны восседали собачьи судьи – неизрасходованные дамы. Мужчина был среди них один, он величаво стоял с сантиметром на шее, как портной (измерять претендентов), иногда он склонялся к дамам и, улыбаясь в разговоре, обнаруживал мужественные морщины на щеках и металлические зубы.
Полина заявила: «Когда мы окончательно надоедим друг другу, я познакомлюсь вот с ним – буду изучать другую породу. Ты мне был интересен как представитель породы инженеров». – «Любознательная, значит?» – обиделся Юра и, конечно, сразу язвить. Первый рефлекс простейших: ты мне больно, и я тебе. (Был бы поумней, понял бы, откуда идет ее истерика, сделал бы что-нибудь…) Осведомился: «Ну, и какие у тебя остались впечатления от нашей породы?» – «А ничего, бодрячки, ин-же-нер-чи-ки…» – «А сама-то ты какой врач?» – «Какой? Ну, говори, какой?» Он запнулся – видимо, готовилось крутое слово, но в последний момент, как обычно, струсил и подменил: «Ты легкомысленная!.. Наверное, и лечишь так». Тот, с кем ты предаешь, первый же предаст тебя и отвернется. Будешь знать. «Ха-ха-ха!..» – раскатилась она, а сама уже вертела на пальце перстень с синим камнем, подарок Юры, и он ревниво следил, и Полина уверена была: если снять и вручить ему – ведь возьмет. Возьмет, подлец, и положит в карман. Но она не сняла. Она вскинула больно-смеющееся лицо к собачьему кругу и, забыв о своем спутнике, постепенно грустнея, глядела, как ходят чередой прямоногие, как бы без коленок, пудели с упрощенными формами тела – будто выдутые стеклодувом, – черные фигурки, напоминающие персиянок в шароварах. Танцующих персиянок в шароварах. Догадываясь, что происходит тут что-то важное для их хозяев, собачки преисполнились старанием, они волновались и с приподнятым духом служили целям своих хозяев, не ставя эти цели под сомнение и не испытывая их здравым смыслом, – совершенно как люди, доверчиво принимающие из чужих сильных рук уже сформулированную, готовую цель для стремлений.
Хорошо им, домашним, прирученным, дрессированным – собакам и людям. Не то что иным беднягам, которые рыщут в одиночку, на ощупь, – не знают цели и уповают на авось: авось наткнутся на нее – а без нее что за жизнь?
«Ты легкомысленная!»
Ну кто бы сказал Полине: ты чистая, кто бы успокоил: ты чистая, кто бы нежно уверил ее: ты чистая! Кто?
– Ты потеряла понятие о приличиях, – сказал Полине Проскурин. – Тебя знают люди, а ты со своим хахалем шляешься где попало, пальцем на вас показывают!
А есть вещи, которые следует очень охранять от называния вслух, как фотобумагу от света. Все зависит от слова, которое первым запечатлеется – и пригвоздит уже необратимо. Как только Юра был назван хахалем, тотчас Полина стала шлюхой – такова неизбежность обозначения. И именно ею она себя и почувствовала.
– Замужние женщины так себя не ведут! – заключил Проскурин как-то по-детски обиженно – и это было бы смешно – да и было смешно, – Полина засмеялась безалаберным смехом неимущего, которому нечего больше потерять. Но Проскурин метнул в нее такой взгляд, преодолевающий сопротивление любой остальной материи. Почему он делал это так редко! – в промежутках Полина отвыкала уважать его.
Она посерьезнела и спокойно сказала:
– Ты прав. Замужние женщины так себя не ведут. Но положение легко исправить. Я перестану быть замужней женщиной.
– Как тебе будет угодно, – церемонно ответил он.
Вот как интеллигенция среди прочего народа, так п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь среди прочего упрямства: мнит себя элитой и приставляет себе на погоны плюс – положительный знак отличия. Пора уже свергать ее из положительных качеств – вон сколько ее именем наворочено ошибок, нагромождено одна на другую с осознанным губительством – лишь бы не отступиться.
Полина подала на развод – исключительно из последовательности.
Та же последовательность была единственной причиной их свиданий с Юрой. Уже они все исчерпались, свидания, но вызов за границу все не приходил, и накапливалось, нарождалось, как молодой месяц, новое свидание – и потом снова, – и сколько же еще лун пройдет до отъезда?
Жалкая дура, вот она звонит ему на работу. На месте его нет, разыскали по громкоговорящей радиосвязи: «Товарищ Хижняк, позвоните на щит управления!» Он скоро отозвался из какого-то угла станции по телефону – и Полину с ним соединили. Слышен был рев агрегатов, и Юра орал сквозь этот рев:
– Алло! Алло!
– Знаешь, – радостно закричала Полина в трубку, – в честности есть особенное удовольствие…
Ну не дура ли?
– Что? – орал он, преодолевая близкий к нему шум. – Полина? Алло! Что случилось?
– Ничего! – Она прибавила громкости, прохожие оглянулись. Задуманную лирическую ноту криком было не взять. – Давай встретимся!
Вот и опять свидание.
– Когда скрываешь от мужа – ты его как бы щадишь: знаешь про свой грех сама, как про гвоздь в сапоге, и мучаешься одна. Ну, а как только выставишь всю правду наружу, тебе уже легко: не колет. Такая сразу вся из себя чистая, гордая, честная становишься! А мучается теперь пусть он. Пусть с этим гвоздем что хочет, то и делает.
Юрка испугался:
– Призналась?
– Даже и не понадобилось. Не отпираться – вот и вся честность. Но, скажу тебе, даже это потребовало отваги.
– Ну, и что он сказал? – затеребил нетерпеливо: поскорее узнать степень опасности.
– Мирно разводимся.
– Так… Из-за меня? – у него даже дыхание пресеклось.
– Не бойся, не из-за тебя. Из-за меня. – И усмехнулась.
– Но он знает про меня? Ты ему сказала?
– Не бойся, морду тебе бить не придет. – Полина почему-то вдруг страшно устала.
– Что ты заладила: не бойся, не бойся! – разнервничался. – Я и не боюсь. Я ведь и сдачи дать могу…
Сомнительно.
– …Так что мы с ним теперь в свободном союзе. Хочешь – живи, хочешь – нет. Как во Франции. …А убил бы – было б справедливо, – опустевшим голосом.
– Кого? – опять испугался Юра.
– Боже мой, да меня, кого же еще! – сверкнула глазами с презрением, и он вздохнул, посрамленный человек, сам согласившийся на посрамление.
И вроде бы, казалось, все. Нет, опять звонок.
– А, это ты…
– Я. А ты не рада?
Дурацкий вопрос, и Полина молчит.
– Полина.
– Ну.
– Давай хоть встретимся, что ли.
– Какое встретимся, ты в своем уме – еще засекут, и сорвется твоя загранмечта. – Полина откровенно издевается.
– А мы где-нибудь за городом, – не понимает издевки.
– Да ты что! За городом уж если засекут, так и вида не сделаешь! – еще насмешливее.
– Все, ну все против нас! – пылко восклицает Юра. – А я все равно тебя люблю, хоть мне и запрещено тебя любить.
– Да? И кто же это тебе запретил-то? – сердобольно разузнает Полина. Но тщетно расточала яд ума, Юра ускользал от него невредимо – НЕ ПОНИМАЛ. Не хотел понимать.
– Скоро уезжаешь? – Ей стало скучно, она разглядывала ногти и следила по часам: скоро ли четыре, идти домой.
Юра ухватился за ее вопрос, как марионетка за ниточку, и долго на этой ниточке дергался – объяснял, отчего задержка и какую проверку проходят его документы. Полина не вникала.. Она думала: разлука – это часть смерти. И они с Юрой поэтому все не отпускаются, все держатся за эту изжитую связь: чтобы как можно больше оставалось всего в настоящем и как можно меньше уходило в безвозвратное время. Так хранят в доме всякий хлам, бывший когда-то полезным. Юра между тем закончил свои объяснения, и теперь была очередь Полины что-нибудь говорить. Но она пропускала свой ход, пренебрегая порядком. Юра не обиделся.
– Дочку-то еще не забрали у стариков? – по-родственному спросил.
Ишь, родственник. Печется о благополучии семьи Проскуриных. Хочет для полноты его, благополучия, чтобы Проскурины забрали от дедушки и бабушки свою дочку и жили бы в совершенных семейных отношениях, забыв про развод, – а он, Юра, вот уж тогда порадуется за них и будет наконец спокоен…
Можно было съязвить на этот счет, да надоело в пустоту.
– Да нет еще, – мямлит Полина, угнетаясь этим фальшивым разговором. Все хуже относясь к себе за эту способность: вести такие разговоры.
– Что ж так? – простодушно недоумевает Юра Хижняк.
А Полину все еще не стошнило. Это и противно, что все еще НЕ, что такая вот выносливая.
– Да так как-то все… – и малодушно нажимает на рычаг телефона – единственный способ, каким она может прекратить все это.
Исполнилось уже четыре часа, и она немедленно сорвала с себя халат, схватила пальто – и вон из ординаторской, пока Юра не восстановил прервавшуюся связь. Когда телефон зазвонит снова, ее уже никто не успеет окликнуть.
На улице ее прохватило холодом, вжалась в пальто. По бульвару, по белому снегу женщина везла в коляске ребенка. Ребенок пищал новорожденным писком, а женщина тянулась к нему лицом и приговаривала для утешения: «Ты хороший! Ты хороший!» – как будто ребенок плакал оттого, что сознавал себя нехорошим. Вот глупая. Эту женщину Полина вспомнила: мальчик с подозрением на дизентерию, и эта мать, а потом, явился в больницу отец отнять мальчика домой, и то был Саня Горыныч. Тогда она и познакомилась с Юрой. А теперь, значит, у мамаши Горынцевой новый ребенок… Полина оглянулась еще раз посмотреть на нее – совершенно не было в той ни малейшей красоты, но это ее ничуть не заботило, она вся устремлялась на свое дитя, и было ей не до себя.
Позавидовала глупой некрасивой женщине за мудрость.
Под бульварной лавочкой на снегу аккуратно стояли мужские ботинки – как возле постели. Этот сюрреализм жизни действительной ее доконал.
В конце концов, ощущение смысла жизни – это, скорее всего, физиологический продукт организма, выпускаемый в кровь при равновесной работе всех органов. Ощущение здоровья и гармонии. «Ты хороший!» Побольше естественной глупости! Готовить обеды, ужины, стирать. Заниматься ерундой, вот и появится осмысленность жизни.
– Что за хозяйственная прыть вдруг обнаружилась? – изумлялся Проскурин. – Заведи уж тогда фартук, что ли. Слыхала, есть такая деталь костюма: фартук. Поинтересуйся у женщин, они знают.
– Боже мой, какая ирония! – ласково отшучивалась Полина. Сказать, а? Сказать ему, что с Юркой у нее все? И что теперь она готова порвать к чертовой матери ту бумагу о разводе, которая вместе с оплаченной квитанцией хранится впрок под обложкой ее паспорта, чтобы в случае надобности поставить в загсе штамп. «Хочешь – порву?» Но не говорила, а то подумает, что ей все равно с кем жить, и раз с Юркой все, так сгодится и он, Проскурин…
Она торопливо выращивала в себе благородное чувство к нему, взамен любви – ведь это очень близкие чувства. Сколько он вынес унижения, сколько терпения проявил, умница, ожидая, пока она перебесится. Всю жизнь теперь будет признательна ему за эту его мудрость. И никогда больше, никогда! – клялась себе Полина, воображая будущее: смотреть Проскурину в глаза глубоко и спокойно, без окольной мысли.
Она возилась на кухне, когда у двери позвонили. Оказалось, пришли по объявлению о размене их однокомнатной квартиры – мужчина пришел, молодой, счастливый: ему-то съезжаться…
– Извините, нам уже не надо, – сказала Полина радуясь, как удачно дала понять Проскурину, что у нее все изменилось. – Мы передумали.
– Нет, почему же, – спокойно возразил Проскурин. – А у вас что? – обратился он к мужчине.
– Да ничего хорошего, – ответил пришедший, с любопытством разглядывая эти странных супругов. – Хорошее я бы на двухкомнатную сменял. Две комнатешки у меня. Обе на пятых этажах без лифта и телефона. Одна в этом районе, вторая у черта на куличках.
– Я думаю, мы согласимся не глядя, – сказал Проскурин Полине. – Я поеду к черту на кулички.
– А как же ты будешь добираться на работу? – цеплялась Полина за препятствия.
– Уволюсь. Больницы есть везде.
Пришедший подтверждающе кивнул.
– Хорошо бы нам договориться, а то уже надоела эта свистопляска: тому то не подходит, тому это, каждый боится прогадать! – он в сердцах махнул рукой.
Проскурин глядел на него с симпатией.
– Но ведь тебе для категории нужно три года на одном месте, а ты еще не проработал трех! – отчаянно боролась Полина.
– Вот уж что пустяки – так это категория.
Полина посмотрела на него впрок, как будто оглянувшись вслед уходящему, чтобы хорошенько запомнить. Увидела: стройный, крупный, добротный – как бывают дорогие вещи из натуральных материалов.
– Ну вы извините, я пойду, – сказал этот понятливый мужик. – Решайте. Как договоритесь – вот адрес…
За ним закрылась дверь, Полина сразу отвернулась и ушла на кухню. Рассеянно включила плиту, выключила, опять включила… Вскипятила чайник и позвала Проскурина ужинать. Долго копила и наконец составила вопрос:
– Так, значит, ты…
– Да, – опередил.
– А…
Ну что ж, им обоим приходилось это делать: выходить в приемный покой и глаза в глаза сообщать: «Ваш ребенок умер». Такие вещи случалось делать. Это были трудные вещи, но их приходилось делать. Они умели. Навык.
Блистающая целость природы от этих потерь не терпела ущерба, лишь в малом ее уголке тоскливо лопнет невидимая жилка, и лишь для одного-двух всего людей это похоже на сумеречные утра осени, когда нужно встать и идти, а лета не предвидится.
Разменялись быстро. Партнер их оказался мужчина дельный и не выгадывал. Проскурин помог Полине переехать.
Соседка, уютная бабуся, все у Полины выведала. (Конечно, как расскажешь ВСЕ, если и сам всего не знаешь; а из того, что знаешь о себе, выбираешь, что показать: одному то, другому это. Смотря чего хочешь: чтоб тебя пожалели, чтоб удивились на тебя или, может, чтоб осудили твоего врага – пусть ему станет еще хуже от двойного проклятия. Интонации, конечно, тоже ограниченные: не могла же Полина с бабусей-соседкой использовать мучительные многоточия, умолчания, ломанье рук и кусанье губ, подыскивая имена оттенкам, – как она разговаривала бы с подругой, будь она у нее, ах, если бы у Полины была подруга! – напротив, тут уж от всех оттенков приходилось избавляться; самое простое упрощать еще более – как с иностранцем разговаривать, располагая десятком слов.)
Вот что у нее вышло:
– Жили мы, в общем, хорошо. Уважали друг друга. Он хороший специалист. Дочка родилась, мои родители забрали ее, чтоб нам легче было работать. И мы все работали, работали и друг от друга отвыкли. Перестали нуждаться друг в друге.
Бабуся хорошо справилась с этим повествованием, она ведь уже отбыла на свете полный свой женский век и кое-что вынесла оттуда, – и затем свой ответ, который она ощущала внутри себя широко и сложно, тоже перевела для Полины на простые однотонные слова:
– Ничего. Дитя есть – не пропадешь.
И Полина готовно поверила ей. Вот и зажила. Полюбила свою комнату и одиночество вечеров. Ни разу не случилось в ее комнате гостя, не проносила она из кухни к дивану коричневые чашки с кофе, не закуривались тут сигареты – вот и хорошо. Она припасла на будущее горькую фразу, которой когда-нибудь убьет Проскурина: «Все эти годы у меня никого не было. Порог этой комнаты не переступал мужчина…»
Весна, лето, осень. В самый дождливый месяц Полина взяла отпуск и поехала в Прибалтику. Без путевки, просто так. Она сняла в Тракае комнатку у каменно-молчащей хозяйки и скиталась целые дни в плаще с капюшоном, в резиновых сапогах, на тыщу верст кругом не имея ни одной знакомой души, которая бы помнила о ней.
(Следует заметить, что сперва у Полины был развод, а потом Тракай. Сева же Пшеничников, наоборот, воспринял суд после Тракая. Однако никаких достоверных выводов о свойствах времени из этого наблюдения извлечь по-прежнему невозможно…)
Здесь в крестьянском доме клали к завтраку салфетки и к вилке – обязательно нож, а в душу с разговорами не лезли. За сутки Полине и четырех слов сказать не приходилось, кроме доброго утра. Горло, казалось, мхом начало зарастать.
Был охотничий сезон, над тихими озерами взрывались выстрелы, тугими обручами разбегаясь по небу.
Стали случаться пугающие состояния: Полина забывала, кто она. Оттого, что не было вокруг ни одного человека, кто знал бы ее и мог подтвердить (ей) ее личность и роль. И не было дела, которое дожидалось бы ее рук и ума. И существование, ничем не подтвержденное снаружи, самой ей стало казаться нереальным. И еще потому, что вслух ей говорить не приходилось, все функции сознания осуществлялись где-то во тьме молчания (а это непрочно и недоказуемо, почти нереально) – ей стало казаться, что личность ее истощается и исчезает. Скоро она забыла свою внешность. Передвигался по пространству сгусток материи, помещенный в капюшон и резиновые сапоги, этот сгусток функционировал внутри себя, производя некое мерцание духа, но ни к чему не прилагался в виде необходимой действующей части и от этого потерял свойства и определенность черт.
Полина уже начала бояться, что проснется утром – и не вспомнит, откуда она, какой профессии, и имя забудет.
И как лихорадочно и с каким облегчением спасения где-то в Вильнюсе, в какой-то заводской гостинице-общежитии, она выкладывала случайному своему гостю то, что еще помнила о себе, – внедрялась, впечатывала в чужое сознание свои данные – такой вот паспорт заполняла, – пришвартовывалась к этому чужому сознанию, как к пристани, иначе унесет волнами ОТКРЫТОЙ ВЕЧНОСТИ, и она потеряется там без следа. Человеку, оказывается, необходимо заговорить с кем-то и обнаружить свое существование. Убедиться в нем и убедить. Закрепить его в памяти другого существа. Как собака оставляет свой след на каждом околоточном кустике: я есть!
Этот случайный гость постучал в дверь, и Полина не поверила этому стуку: к кому? Ведь тут НИКОГО нет! Она все же открыла, и молодой парень смутился: он перепутал. Ну вот, я же знала: здесь НИКОГО нет, а вы ломитесь, с огорчением подумала Полина. Парень, видимо, заметил эту тень разочарования на ее лице. Через две минуты он вернулся возместить ей огорчение. Его знакомая, к которой он пришел, где-то задерживается, и нельзя ли ему будет немного подождать здесь, у Полины? Боже мой, конечно же, можно! Полина начала бурно осуществляться, каждой фразой возвращая своей личности материальные признаки. Она детский врач, она в отпуске, у нее есть дочь. И муж? Да, и муж…
Да… Молодой человек, европеец, продемонстрировал ей всю европейскую галантность. А не угодно ли того? А этого? Рассердиться не получилось: парень был другого биологического вида, он не мог ее задеть, как задел бы признанный за равного. И он не понял бы ее оскорбленности, как воробей на дороге. Воробей, он простодушно смотрит, склонив голову набок, и не может оценить ваших чувств.
– Спасибо, вы очень любезны, – засмеялась Полина, и он сделал галантный жест, означающий: как будет угодно даме. Воспитанный молодой человек. Европеец. Не то что какой-нибудь там дремучий сибиряк с дикими чувствами.
Где его взять, этого дремучего сибиряка с дикими чувствами? Где они водятся, в каких заповедниках? Или их уже всех отловили?
Европеец распрощался с соблюдением всех приличий, а Полина осталась плакать – женщина с почти потерянной в уединении личностью, с забытой внешностью, а образ этакого заиндевелого полярника или таежного охотника в полушубке, с необъятной улыбкой на лице с широко расставленными могучими ногами в унтах, – этот образ, видимо, взят из какого-нибудь героического фильма ее детства, а в жизни-то она ни разу и не видела ничего похожего. Юра Хижняк был похож – похожеват – чуть-чуть – только внешне…
Что же это за слабое существо – женщина, если она даже теряет признаки личности, не получая ежедневно им подтверждения извне – в виде зеркальных отражений, в виде «Полина Игнатьевна, срочно в пятую палату!», и не может обходиться без того, чтобы кто-нибудь с широкой улыбкой говорил ей: «Ты моя хорошая». Получается, человек – это как на картинках абсурдизма: такая ползучая клякса, растопленный воск, и потеки висят на подпорках и жердочках. Значит, никакой это не абсурдизм, а самый что ни на есть реализм.
Она вернулась домой, в свой город, и, не догуляв отпуска, вышла на работу к вящему счастью заведующей отделением. Она нуждалась в срочном подтверждении своей личности. О, очень скоро она его получила. С благодарностью за возвращение себя, потерянной, она многие часы проводила в палатах, пальпировала детям животы, и те, задрав рубашку, терпеливо дожидались: сейчас пальцы перестанут давить, и тогда нежные ладони лягут на кожу и заструятся, заскользят и вновь и вновь совершат этот ласковый путь, и бормочущие, едва внятные звуки дремучего заговора из уст, а из ладоней прямо в кожу, прямо в кости, прямо в кровь – теплый ток помогающей силы, «еще», молча подсказывает маленький, и руки слушаются, ворожат, колдуют над ним в сопровождении этого нечленораздельного материнского мычания: «Лапушка ты моя, маленький, хороший…» И из палаты Полина выходит совершенно разбитая, ноги идут, а сознания нет. Оно потом возвращается – ведь сгорает во чреве топливо утренней пищи, греется идеально спроектированный котел, и скоро снова пар достигнет необходимого давления работы.
Потом вдруг раздается звонок – в пустыне, где нет ни лишних знакомств, ни надежд на эту зиму, где даже и самого телефона-то нет, и где Полина приготовилась в заточении – на безрыбье – проводить дни своей дальнейшей жизни. В труде и забвении себя. Нет, эта участь не страшила ее, был даже бодрящий такой холодок от сознания выбранного пути. Путь этот отличался от общеупотребительного счастья, как утренний холодный душ отличается от теплой постели. Что лучше?
Но раздался Юрин звонок. Взяли за руку, вывели из-под холодного душа, из насильственной этой бодрости, завернули в нагретую простыню и уложили в теплую постель: понежься еще, ты рано встала, Полина. Убаюкали. И не стала вырываться, переубеждать насчет «если хочешь быть здоров – закаляйся». Подчинилась, сладко расслабилась и дала себя увести из-под жестких отрезвляющих струй.
Впервые она разливала кофе по коричневым чашкам – в этой своей комнате. Юра сказал:
– Там совсем другой кофе, гораздо лучше. И черт его знает, что тут с ним делают. Говорят, вытяжку кофеина, это правда?
– Не знаю! – счастливо отозвалась Полина.
Что ей тот кофе! Все забыла, все свое презрение, все его ничтожество (или, как говорят психиатры, бедность участия), только пламенели в мозгу очаги нежности; Юра перебил ее рассказ о том, как она чуть не лишилась в Тракае личности из-за того, что ее некому и нечему было отражать, Юра перебил, притянул к себе, и она покраснела всем телом. И замолкла. И забыла, что собиралась сказать. Но Юра отпустил ее и спросил, нет ли выпить чего-нибудь покрепче кофе. Она удивилась – ведь он был трезвенник. Но нашлось.
– Почему ты меня ни о чем не расспрашиваешь, как-никак я был в разнообразных странах, видел кое-что.
– Я клуб кинопутешественников смогрю, – улыбнулась Полина.
– Нет, ну все-таки!
– А знаешь, ведь все это время я была совершенно одна.
– Да ну, одна! – не поверил Юра, но не придавая никакого значения и тому, что «не одна». То есть: да брось ты, мы же свои люди, все понимаем…
– Ты что? – обиделась, и оробела, и отрезвела Полина.
– Сколько тебе лет?
– Зачем тебе?
– Лет двадцать восемь, двадцать девять? Вот представь себе, твоя ровесница арабка: у нее пятеро детей, они живут в типовой трехкомнатной квартире, такой же, как у нас с Риткой. К нам повадилась приходить девочка лет восьми, Инет, толковая такая, смышленая, быстро по-русски выучилась, и рассказывает нам про свою семью. Вот в этой, показывает, комнате у нас есть кровать, там папа и мама маленькая. Ну, то есть новая жена папы, понятно? А вот в этой комнате кроватей нет, тут спим мы все с мамой большой. На полу, ясно? Полы там отнюдь не деревянные. А в третьей комнате – там все красиво и нарядно, там принимают гостей. И вот спит эта мама большая на полу со своим выводком, и ничего ей больше уже не светит. Твоя ровесница. Списана со счетов. Вся жизнь в прошлом. Она закупает продукты и готовит еду. Старшие дети ей помогают, они же стирают и убирают. Я и спрашиваю у Инет: а что делает мама маленькая? Инет вот так: «ца!» – бровями и головой вверх, это у них жест отрицания: мама маленькая ничего не делает. Она сидит у окна, или спит, или отдыхает. Она должна быть всегда нарядная, красивая и отдохнувшая. Такое у нее пока что предназначение. Ништяк, как поставлено дело?
– Врешь ты все, – сказала Полина, уставшая оттого, что все не то.
– Я? Вру? Да ты что? Я тебе когда-нибудь врал?
– Да лучше б соврал, – вздохнула. – Взял бы и соврал: Полина, мне было так тяжело без тебя!..
– Ну, это-то само собой, что об этом говорить. Ясное дело, скучал. Соберемся компанией с холостяками – ну, которые там без жен, – и я тоже вроде как холостяк: без тебя-то.
Полина глядела рассеянно – сквозь него. Ей захотелось, чтоб он ушел. Она подумала, что вот и нарушено целомудрие ее жилища, ни за понюшку табаку потеряла сегодня половину козырной фразы, приготовленной в упрек Проскурину: «У меня все эти годы никого не было, и порог этой комнаты не переступал…» Переступил.
Но еще можно было уберечь первую половину.
Полина поднялась с дивана, церемонно выпрямилась:
– Ну, как говорят в таких случаях одинокие гордые женщины, время уже позднее, пойдемте, я вас провожу.
– Что? – не понял Юра.
Полина безоговорочно, хоть и грустно, улыбнулась.
– Вот те на! Чего это ты, а? Может, я не так что сказал?
Все не так, все не то сказал. И сейчас говоришь все не то.
– Я очень устаю на работе. Извини. Действительно уже поздно.
– Можно, я это допью? – попросил Юра. – На посошок.
Вылил из бутылки остатки муската, выпил. Все понятно с ним…
– А я так рвался в отечество! Думал: друзья, привычная еда, все родное… И вот нате, «время позднее».
И в прихожей снова:
– Нет, ну, Полина, ну, как же так, а?
– Все-все-все!
А его жена присылала Полине письмо с просьбой о подложной телеграмме. (Интересно, знал ли об этом Юра?) Полина ответила: «Я рада, что мы так цивилизованы, что можем сохранять между нами приличные отношения». Дальше она отказывала ей. «Понимаете, Рита, я не могу считать эти опасные игры безнаказанными. Это только кажется, что акт невинный: подумаешь, ведь не убиваете же вы свою мать на самом деле. Но я как врач располагаю множеством фактов, которые невозможно материально объяснить, поэтому не могу разделить вашу легкомысленную небрежность. Мир не так примитивен и связи в нем не только очевидные».
Но продление на второй год Юра получил, и, стало быть, обошлись.
И вот он лежит перед нею, беззащитный – спящий. Напрасно Полина надеялась, что обозналась. Щетина пробивалась на подбородке черная, Юрина. Лицо измученное, опавшее.
Вот-вот грянет Новый год, и люди в домах загадают свои сокровенные желания. У каждого свое упованье. Одна только Полина уже не верит в Новый год, в его магическую силу, и на все праздники она берет дежурства, за что ей так благодарны коллеги. Не понимают, что никакой самоотверженности здесь нет. Одна ей сегодня уже звонила в ординаторскую: «Полина, я тебя прошу, в самый момент Нового года, я тебя умоляю, у меня в кармане халата найдешь карты – раскинь на меня, а? Я своим рукам уже не верю: они у меня подтасовывают. Раскинешь?» Раскину. Месяц уже не выпускает карт из рук, все гадает на своего червонного короля… Полина раскинет. Ей нетрудно. У нее нет своего короля и «интереса».







