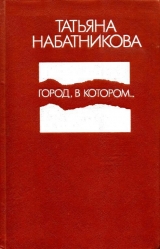
Текст книги "Город, в котором..."
Автор книги: Татьяна Набатникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
Рита с наслаждением ест и пьет, а о н игриво спрашивает:
– Ну как там, Рита, твой муж? Справляется на незнакомой работе? Не подвел своего рекомендателя?.
А Рита пожала плечами, без интереса пробормотала:
– А, муж…
А он одобрительно думает: молодец, Рита, мудрость – врожденное качество. Правильно, Рита, если хочешь пробить мужу дорогу вверх, никогда не хвали его перед начальством. Потому что начальство тоже мужчина, а когда красивая женщина хвалит перед одним мужчиной другого, у того естественно рождается протест: как, зачем еще кому-то быть способным и выдающимся, когда уже есть и способный, и выдающийся! Зачем два? И все, крышка мужниной карьере. Надо наоборот жаловаться. И недотепа-то он, и во всех очередях стоит последним, и нет у него хватки в устройстве быта. И вздохнуть кротко и обреченно. Все дадут твоему мужу – и повышение, и квартиру, и все что хочешь: от жалости к тебе. Поднимется он на одну ступеньку, на другую – глядишь, его жалельщики уже сами от него зависят.
– Работает… – вяло продолжает Рита. – Справляется. Мне бы перетерпеть эту заграницу. А помнишь, – она стала смотреть взыскующе, глаза замерцали в усилии напоминания, – когда-то у нас был план: перебраться мне в Москву…
– Как же, помню, – согласился о н. – Был такой план.
Что я буду с тобой делать, Рита, а? Знаешь ли ты, как быстро движется эскалатор, когда приближается к верхней точке? Сначала на тебя, на верхнего, заглядываются почтительно снизу, потому что у тебя в руках кусок: ты волен дать или не дать. И сам ты преданно глядишь на своих верхних. А эскалатор ползет, ползет – вот уж скоро их скинет, твоих верхних. И ты срочно оборачиваешь взгляд своей преданности назад, вниз – и, пока имея в своей власти кусок, начинаешь подкупать им тех, у кого он окажется после тебя, – прикармливаешь, чтоб обезоружить их будущую силу против тебя. Чтоб не укусили потом, не лягнули, когда ты будешь валяться уже внизу, чтоб сбросили же чего-нибудь.
– Чего-нибудь придумаем, Рита. Езжай пока, докомандировывайся. К возвращению что-нибудь придумаем.
В этом возрасте все меняется быстро. Год назад сам мечтал об этом, а теперь хочешь уже совсем другого… Главное, не отказать сразу. Отказывать надо постепенно: убеждая, что так лучше – без того, чего просят. А может, она и сама сейчас поймет – вот приедут в гостиницу, и она сама увидит, что с мужем ей будет лучше…
Тоскливо было Севе в этом сознании: оно почти целиком было занято слежкой за расшатанным, разбалансированным организмом. Не хватил бы Кондрат! (Не повредит ли это Севе? Ах, Рита Хижняк, Рита Хижняк! – успевал Сева удивиться своим собственным сознанием.)
Но зря он боялся, его смерть не утащила за собой Севу. С о з н а н и е отключилось раньше. Привыкший наблюдать и все обдумывать, Сева уже заметил одну особенность. Он попадал всегда в сознание, работающее в форсированном режиме. Часто это было в любви, и скольким уж Сева сопутствовал в их счастливые минуты, но лишь до определенной черты, а потом как в кино – затемнение. И следующие кадры – это уже п о с л е т о г о. То есть, видимо, в некоторые моменты сознание вообще отключается, как лишний механизм, и Сева выставлялся за дверь.
Ну, а когда дверь открыли, Севе оказалось н е к у д а входить.
Теперь он видел глазами Риты Хижняк: больной и начальственный т о т был мертв.
Рита, опомнившись от испуга, философски раздумывает (а может, Сева?): интересно, что в э т о м находят? Почему э т о считается наслаждением по общепринятой шкале ценностей? (Сева соглашается с этим недоумением.) Рита припоминала, какие есть в жизни наслаждения: вкусная еда, преуспеяние, богатство, поклонение – но ничто это не могло сравниться с тем, как когда-то в детстве, во сне: бежать к воде – и так разогнаться, что сорвешься и взлетишь, небо закачается, падать не больно и не страшно, и собственный смех стоит в ушах, и изнемогаешь от счастья…
Потом поналезло в номер народу – приехали все, кому положено, процедуры расспросов, освидетельствований, стояла в дверях пожилая дама, вдова, пристально глядела на Риту издалека, без слов, разглядывала со страхом, как диковинного зверя в клетке, желая понять, что оно за такое, этот молодой зверь, в чьих-руках умирают беспомощные старые чужие мужья – те, с которыми предполагалось мирно дожить до самого окончательного часа. Что это за зверь такой, который отнимает у смерти ее законную добычу. Который отнимает у старости ее покой – откуда взялся такой зверь и что он кушает за обедом.
Вначале Севе трудно было по собственному произволу вырываться из чужого сознания (если, например, оно было ему неприятно), но потом он научился и этому.
Странно было то, что он оказывался то в зиме, то в лете. Эти скачки времени можно было толковать двояко: либо он попадает то в воспоминания, то в текущие события, а то в мечты, либо… это, конечно, страшно предположить, но уж теперь почему бы и нет?… либо он получил освобождение от времени, на прямой линии которого он был всегда как на привязи – как цепная собака бегает по проволоке…
Иногда он попадал не в событие, а в мысль. То слышал старинную жалостную песню, не видя, кто поет:
Оля цветочек сорвет,
Низко головку наклонит.
Милый, смотри: василек —
Он поплывет, не утонет.
То лежал в темноте, и кто-то спящий, любимый, обнимал во сне нечаянно рукой и ногой сразу – и благодарно сносить эту тяжесть, не дававшую заснуть. Не шевелясь, затекая от неудобной позы, медленно прислушиваться к этой невольной нежности ничего не ведавшей во сне руки и не хотеть освободиться.
Много узнал Сева о жизни людей.
Он видел, как в тихом лесочке среди стрекочущей травы его жена Нина в черном сатиновом халате наливала воду в поилку для пчел и потом не торопясь разводила огонь в дымаре, блаженно вдыхая дым, который так не любили пчелы. Севе показалось, что тот, из кого он в это время смотрел на нее с бесконечной нежностью, был он сам…
Он видел: тихая Оля, бывшая соседка Хижняка, входила в просторную комнату с множеством маленьких детей, садилась на стул – и дети устраивали давку, деловито отталкивая друг друга: каждому хотелось взобраться на ее колени. Взберется один, утвердится и важно успокаивается, зато остальные неутешно беспокоятся и продолжают борьбу, пока не свергнут прежнего победителя.
Однажды он очутился в сне его жены Нины. Им снилось, будто она согласилась выйти за него замуж, но так мало любила его, что постоянно о нем забывала. Ей сказали: твой муж в приюте, всеми покинутый, и Нина, ужаснувшись своей бесчеловечности, бежала в приют, и он, сирота, выходил к ней, а она не могла вспомнить его имени: не то Гоша, не то Гера…
И о н и просыпались и, видимо, уже каждый в одиночку, вспоминали имя: Сева.
Он видел нищего мальчика лет шестнадцати, с больными ногами. Мальчик появлялся утрами во дворе – желтоглиняном, без растительности – не российском – и тоскливо, жалобно вопил: «Батерки!» Это значило «бутылки» – единственное русское слово, необходимое ему для жизни, но и его он не мог одолеть до конца. Он шел от двери к двери и звонил настойчиво до тех пор, пока ему не открывали. Даже в ту дверь, откуда ему месяцами не доставалось ни бутылки, он звонил каждый день. Откроет ему рассвирепевшая хозяйка, а он ей смирнехонько напоминает: «Мадам, батерки!»
Он видел учительницу, которая на первом уроке спрашивала:
– Дети! Какие слова мы говорим первыми?
– Мама! Папа! – дружно шумели дети.
– Нет! – отвергала учительница.
– Баба! Деда! – начали гадать.
– Дай! – предположил кто-то.
Учительница все отметала и уже начинала сердиться на непонятливых, а потом громко отчеканила:
– Наши первые слова: Ленин, Родина, Москва!
Любимая Севина учительница, и первый его, первоклассника, урок.
Он видел Вовку Семенкова во дворе большого дома. Семенков привез новую мебель, у машины с опущенными бортами трудились грузчики. Такса была твердая, но ребятки на всякий случай набивали цену:
– Этажи-то высоченные. Договаривались, дом обыкновенный.
– А он что, необыкновенный, что ли? – не уступал Семенков.
– Ну, бывают потолки два сорок, а бывают и три сорок – разница есть, нет? – тянули ребятки одеяло на себя.
– Ты вот еще этот ящичек прихвати, чем лишний раз порожняком-то мотаться вверх-вниз, – не вступал Семенков в тяжбу, не слыша ничего сверх того, о чем договорились.
Ребятки потащили очередную порцию вверх, а он, хозяин, заплативший деньгами за свою праздность, пользовался ею сполна. Вот он, приняв форму моллюска, полез куда-то за свои костяные створки и бережно вынул из внутреннего кармана пиджака пачку ассигнаций, готовясь рассчитаться. А т о т или та, кем был сейчас Сева, просто проходил мимо, и ему (ей) стало физически тошно при виде мелькающей в глазах Семенкова цифири. О н (о н а) был, видимо, нездоров, страдал от малейшей нехватки – и сейчас е м у не хватало сию же минуту увидеть мужское доблестное лицо – хоть одно, в котором не мелькала бы цифирь расчета и выгоды.
Иногда чужое сознание порабощало его надолго. Вот он снова был женщиной, и по присутствию в е е цамяти Тракайского замка догадался, что это та, которая была в длинном плаще с капюшоном (хотя, возможно, воспоминание о Тракае хранилось не в е е, а в Севином сознании, и теперь уже не отделить…). Судья на бракоразводном процессе был интересный мужчина, ей хотелось произвести на него впечатление – на всякий случай, ведь о н а выйдет отсюда прямо на свободу и в полную новизну судьбы. Процесс был изящный: ни склоки, ни раздора, ни претензий. Судья сказал:
– Как жаль! Такая красивая пара.
Сожаление входило в его обязанности, но подействовало: е й вдруг стало обидно: гибнет такая красивая пара, а номер телефона судьи этого интересного уже занесен в ее записную книжку впрок – какая тоска, боже мой! – снова искать. А зачем, если все проходит, если вчера по телефону знакомый голос Юры Хижняка ответил про себя: «Его нет». И озираться теперь в автобусе, на улице: примерять к себе того, этого, и чем дальше, тем труднее подобрать впору: с годами все больше выбывает из встречного поиска. Выбыли – и ходят с успокоившимися впредь лицами, – решили жить уж так, как есть. Сошло, облезло, как краска с забора, ожидание, вопрос, предчувствие. Одной только ей, Полине (вот имя вскрылось: Полина), рыскать, как ненасытному зверю, искать поживы. А судья окончил дело и отпустил ее на свободу, даже не взглянув на нее, – и зачем тогда остался у нее в записной книжке его телефон? Юрка кончился, «его нет». И если они еще продолжают встречаться – так это от боязни резких обрывов. Каждое свидание как бы предполагает обязательность следующего, и эта обязательность уже вызывает взаимную зевоту, но ни один не отважится взять на себя: сломать эту плавную покатую линию отношений. «Его нет» – вот все, на что мы отваживаемся.
Сева предполагал, что мечта или воспоминание должны отличаться от текущего события: без подробностей и с освещением, как в театре: круг света, а остальное в сумраке. Но так и не смог зафиксировать на «деле» эти различия. Или сознанию все равно, где оно – в прошлом, настоящем или будущем, – или (снова приходится предположить) Сева всегда был при настоящем, свободно передвигаясь по оси времени.
И еще одно наблюдение: Сева мог присутствовать только наблюдателем, а смешать свое сознание с сознанием реципиента – для помощи ему – не мог. Впрочем, он и сам был беспомощен, и нечего было ему подсказать своему альтер эго, когда женщина рядом все больше западает в какое-то необъяснимое отчаяние. Женщина – Полина.
– Я умру – и ты скажешь мне спасибо за такой умный поступок.
– Что за чепуха!
Но она не слушает, не хочет утешаться.
– В выпускные экзамены в школе я готовилась целыми днями, а бабушка все звала меня поесть. Зовет – я не хочу. Она опять. А я как рявкну на нее! Бабуля моя вздрогнула, заплакала и пошла прочь…
(Вот пожалуйста вам – и при чем здесь бабушка-то? Ох надоело!)
– Она меня в лес водила: за цветами. Понимаешь ли ты это или нет – за цветами! Не за грибами, не за ягодами. Не жрать, ты понимаешь ли это? Мне пять лет было, она возьмет меня за руку и ведет в лес, и мы там цветы собираем весь день. Ты понимаешь ли это? Она у меня из крестьян, она неграмотная была, у нее родилось шестнадцать детей, она последние годы все по стеночке ходила, чтоб ее незаметнее было. Мы сволочи, ты понимаешь ли это! – Она вдруг расплакалась и отвернулась к стене, а о н растерялся и стал гладить ее плечо для утешения. – А родители мои у нее иконы выкинули, – всхлипывала, – так она ничего, и так ладно, встанет ночью на колени и на пустой угол молится, а я вот теперь выросла – любовница, стерва, сволочь, – и спрашивается, на кой черт тогда она меня за цветами водила?
И ревела, ревела, даже с подвывами какими-то – по бабушке своей или черт ее знает по ком, а соседи за стеной, пожалуй, не дышали, прилепив ухо к полому резонатору таза или кастрюли, и надо рвать от этой Полины когти, пока не встрял в какую-нибудь историю…
– Ну, ты только тише, тише… – просил он.
– В любви!.. – всхлипывала. – Как свинья в грязи. Как муха в варенье, запурхалась. Стыдно! Ты не чувствуешь, как стыдно, а?
– Ну чего стыдного-то, а? – испуганно бормочет он.
(Сева узнал его: Юрка Хижняк…)
– Любовь эта самая. Ты не замечал, как это стыдно – любовь?
Пожимал плечами, боялся что-нибудь невпопад сказать.
– На морде воровство написано! Заведующая отделением смотрела на меня, смотрела, никак понять не могла, что же ее во мне так возмущает. Потом остановилась на губной помаде: слишком, говорит, цвет устрашающий, дети пугаются, да вам и не к лицу!
Видел Сева и счастливых женщин, Вичку видел. Сидела на склоне холма, стройно сблизив колени, спортивные ее штаны были закатаны, и она счастливым голосом выкрикивала какие-то стихи – не разобрать. Потом вертелось колесо упавшего мотоцикла, какая-то погоня в темноте, потом опять лицо Вички, и растерянность на нем, когда она повернулась от поцелуя с Хижняком, а руки так и остались у него на плечах.
И неизвестно, то ли Севе, то ли тому, кем он был (не понял кем…), являлся иногда во сне чей-то торжественный, ликующий голос, и этот голос с терпеливым упорством, диктовал ему, зовя и напоминая: «Я, пленительная черная Обнори, провела сегодня пленительную ночь среди пленительных».
Конечно, Севу лечили. Его начиняли какими-то снадобьями, чтобы сделать его сознание как у всех – непроницаемым, единоличным.
Сперва Сева все думал, как бы их перехитрить и сохранить свою способность, «выздоровев». Но потом, честно говоря, он сам устал мотаться по белу свету, забыв себя. Кем он только не был! – даже одной из старух на лавочке у подъезда. Девочка из их дома, вечно в обнимку с парнем, почтительнейше приветствовала их гнездовье, а парень при этом на ней так и висел.
А однажды он бежал летней ночью полями в кромешной темноте, извергая семя, позади вспыхивали выстрелы погони, каждое мгновение могло оказаться последним, и после каждого выстрела он проживал отдельное новое счастье: не убит.
Его стала тяготить эта вездесущность, и он сам захотел, чтобы его замкнули в рамочки. Наконец его выписали. Целый день он слонялся по городу, привинчивая себя к постоянному месту, времени и сознанию. Домой пришел вечером. Дети спали. Он поглядел, как темнеют полукружия ресниц на нежном личике дочери, а про Руслана сказал Нине:
– Спит и забыл, кто он. Утром будет вспоминать. А со временем выучит себя наизусть и успокоится.
– Пойдем… – шепотом позвала Нина.
Руслан слышал голоса родителей, но проснуться не сумел. Всю ночь его тревожило предвкушение счастья – что-то случилось, не Новый ли год? Надо было проснуться и посмотреть, но как раз показывали там такие сны, что не оторваться. Потом сны кончились, Руслан еще подождал – нет, стихло, больше ничего не покажут. И открыл глаза. Счастье пребывало неотступно, хотя он понял, что не Новый год, а осень. Он поднял голову от подушки и – вот оно! – папа спал на диване, вернулся папа, вот что. Он вскочил со своей постели, босиком перебежал комнату, остановился у дивана и дотронулся до папиного лица. Папа приподнял веки и увидел, как замер его сын в ожиданий совершенного счастья..
– Тебе уже лучше? – Сын не спросил, а попросил об этом.
Папа отрекся в этот миг от целого знания о мире, от единосущности сознания, его руки подхватили мальчика, вознесли и повлекли в тепло родительской постели, и папа потянулся со сна и застонал, а Руслан, затихнув, угнездился рядом с ним на подушке, обнятый его рукой, и счастливо моргал в потолок.
Глава 11
ЧЕЙ ЭТО ГОЛОС?
Сидела на полу, прислонившись спиной к холодильнику и раскидав ноги на полу, Рита – зыблясь, размазавшись.
– Моего отца предал один доносчик, – произнесла она. – Я нашла его и отомстила.
– Ты? – удивился Горыныч. – Рита, тебе до того ли? Тебе, по-моему, лишь бы у тебя ничего не отбирали.
– Ты, Горыныч, всегда думал обо мне подло, – разобиделась.
Не надо бы ей пить. Женщина все-таки. Мать.
– Хочешь знать, как я отомстила? – задетая недооценкой, она разволновалась. – Хочешь знать? Смертью…
Сурово сощурилась. Значительность сказанного требовала минуты молчания. Саня удержал свое «Все ты врешь, Ритка!», чтобы не дразнить ее, но не усмехнуться не мог:
– Надеюсь, органы правосудия не в претензии к тебе?
– Дело мне пришлось иметь не с правосудием, а с сыном бедняги. Мальчик моих лет, и я лишила его, сам понимаешь, такого снабженца… Папа был большой человек, – Рита взглянула на Горыныча: достаточно ли догадлив, расшифровывать не надо? – Ну, не мне тебе объяснять, что многие блага выражаются не в деньгах, и потеря их, конечно, ощутима… Мальчику мой поступок не понравился. …Я все это тебе рассказываю… Юрка тоже был тогда в Москве… Ну, подробности зачем, – пара вздохов, – короче, к Юрочке я явилась в виде… Ну, в таком виде нельзя на люди. И ты мне скажи, Горыныч, вот приходит домой твоя жена – униженная, несчастная, в слезах… Извини меня, избитая… – (Дорого ей стоило это признание, уж взыщет теперь с Сани полную стоимость, отыграется на чем-нибудь.) – Твои действия? А?
– Не знаю! – рассердился Саня. Похоже, его хотят выставить пугалом в пример другим, недостойным.
– Спросишь ты ее, черт возьми, что с ней случилось?!
– Не знаю!!
– Так вот, – торжественно произнесла Рита. – Он – не спросил! Он поглядел – и глаза отвел, струсил. И не спросил. Я разревелась, а он глаза прячет и меня утешает: «Ну ладно, ладно… Заживет». Ничего себе, да? А вечером собрался идти ужинать в ресторан, представляешь? Есть захотел. «А я как же?» – говорю. А он: «Но ты ведь не можешь!» Резонно, да? И пятится, пятится к двери, юркнул – и нет его тут больше. Глазам стыдно, зато душе радостно. Вот та́к вот. Это мне надо обладать живучестью кошки, которую с какого этажа ни скинь, все на ноги – чтобы жить с ним продолжать!
– А, так вот оно что! – понял Саня. – Это ты у меня покупаешь как бы право себе на предательство, да? С Юркой ты жить не хочешь, и надо, чтобы мы с тобой это коллегиально одобрили, да?
– А что, нет? Он не виноват, да? А хочешь, я тебе одну штуку скажу? Сказать? Нет, я скажу! Я теперь все скажу! Не хочешь ли знать, что эту заграничную командировку сделала ему я?
– Считай, что ты этого не говорила мне.
– Он это знал. Он это принял, съел, как хочешь назови, но мало того, он мне еще потом намекал: дескать, хорошо бы и для Путилина расстараться! И тогда, мол, на всю жизнь гарантия, не даст пропасть.
– Путилин бы не взял! – рассвирепел Саня.
– Речь не о Путилине.
– Но после этого вы благополучно продолжали жить в паре!
– А, жить… Смех один. Договор о ненападении. Явится с работы, поест. Вкусно? – Вкусно. – Ну, что будем делать? – Я пойду лягу. – А мне? – Ну почитай. – Поговорить не с кем. – Ну говори, я послушаю. Он послушает! А что я могу сообщить ему после семи лет совместной жизни! Он-то хоть на работу ходил. Режимы, частоты, переключения… Человек-бутылка: пришел на работу, заполнили его делом – есть внутри содержимое, побалтывается. Рабочее время кончилось – выливает из себя все эти режимы, переключения и частоты, – и пошел домой порожний. А мне каково! Бабы тоже пустые. «Я сегодня стирала, а у меня щи прокисли, а у меня маринад удался!» – на сто рядов. Ходим друг к другу, ищем: кто что скажет – а никто ничего не говорит… Кстати, Юрку на работе презирали: блатной. Вот так и жили. Возьмем бутылку, выпьем с ним молчком – вот и еще день отвели.
Она замолчала и опять размазалась. С наибольшим удовольствием Саня ушел бы сейчас отсюда, не будь она в таком раскисшем состоянии. Такой она прежде не показывалась ему. Такой и не была. И тогда легче легкого было обходиться с нею как попало. С нею, с ее амбициями и ее замашками. Год назад, когда приезжали они с Юркой из своей заграницы в отпуск, она сидела не так – нога на ногу, в богатой замше, из грудного кармана своего военно-охотничьего платья извлекла тонкую длинную коричневую сигарету. Пачка была плотно вставлена в карман, как в футляр. Из другого кармана достала зажигалку, а Юрка ей: «Курить-то, поди, нельзя: ребенок тут». Валя шустро сновала туда и сюда, накрывая на стол, а Рита холодно поблескивала на нее глазами, как на официантку, до которой нет дела. «Кури, ничего», – разрешила Валя. «На кухне!» – поправил Саня. Рита фыркнула и всунула сигарету назад. Как же, гордая. Подарок принесли Валентине, какой-то нейлоновый пеньюар – она, бедная, потом не знала, что с ним делать, как мартышка с очками, – то их понюхает, то их полижет…
Пока Юрка орал в прихожей экзотическое приветствие «Агленус аглен!» и размахивал руками, Рита вальяжно проследовала в комнату, а там Ваня сидел с маленьким братом и показывал ему фотокарточки.
– Вот это мама! – любовно объяснял. – Видишь? Мама.
Рита рассеянно взяла пачку отложенных фотографий, ухмыльнулась: ей попалась свадьба – Валя-невеста на восьмом месяце беременности, в просторном белом платье (это Саня тогда настоял на белом…). Рита хохотнула.
– Да-а-а… Молодцы! – похвалила. – Бесстрашные люди!
– А кого бояться? – разнузданно протрубил Саня в свой сохатый нос.
– Спрячь и никому не показывай! – распорядилась Рита, властно протянув ему фотографии.
Саня отвернулся, воткнул руки в карманы и обратился к Хижняку:
– Ну что, как там, нагрузка здорово скачет?
Властная Ритина рука с протянутой пачкой повисла в воздухе.
– А чего ей скакать? Были бы энергоемкие предприятия, а то основная нагрузка – кондиционеры! Промышленных потребителей пока что нет.
Рита покраснела. Секунду она колебалась: швырнуть на пол… Но потом презрительно процедила: «Го-спо-ди!..» – и фотокарточки веером рассыпались по столу, слегка по нему проехавшись. Юра машинально проследил, доедут ли до края – остановилась. – он продолжил:
– Они сейчас пока что спешно тянут ЛЭП экспортировать энергию в соседние страны. Не пропадать же добру. Да… Испекли мы им такой пирог, что пока что ходят вокруг да примериваются, с какого боку откусить. А рядом поселок строителей не электрифицирован: слишком жирно.
Рита глядела на предательского своего мужа с долгой ненавистью и, наверное, строила планы какой-нибудь мести. Глупая, Юрке невозможно отомстить: он неуязвим. Он ничего не способен почувствовать, кроме удара палкой по башке.
Свадебные фотографии валялись веером на столе, предоставляя глазу Валин живот в нескольких ракурсах. Валя вошла, неся с кухни тарелки, расставила их на столе и как-то незаметно прибрала фотографии, не дрогнув лицом, – как умеет только она одна…
Потом, когда Валя пригласила всех к столу, Рита утомленно спросила, нельзя ли кофе, и Валя немедленно побежала на кухню. Этот кофе варился, пока они за столом рассказывали, какие там громадные летучие тараканы и какие французские духи, на что Саня не удержался от ядовитого замечания: «Да, облиться духами – и сразу проблема: дать себя понюхать. Кому и где?» – «Это как раз не проблема!» – заверила Рита, и тут Валя внесла маленькую кастрюльку, в которой обычно варила кашку для детей. В кастрюльке был кофе, сваренный по столовскому образцу: с молоком. Рита застонала и засмеялась – ну, то есть чуть не заплакала:
– Спаси-ибо!
– Что? – растерялась эта святая с кастрюлькой. – Что-нибудь не так?
– Вообще-то я подразумевала под кофе несколько другое, – покашляла. – Черный такой магический напиток… Ну да ладно, какой есть.
– С молоком же вкуснее! – обезоруживающе рассудила Валя, которую Саня готов был задушить, не понимающую обиды, а, заодно с ней и этих гостей, ее обидчиков.
Спустя часа два Юрку уже рвало в ванной от выпитого. Валя, естественно, отхаживала его там, а Ритка не упустила случая, опоясала Саню сзади руками и притулила к его спине горячую свою головушку. Саня давно уже понял: эта хищница охотится за ним не от голода, она победить его хочет своей женской победой единственно для того, чтоб склонился, сдался на ее милость – а она тогда не взяла бы, пренебрегла им. Да, Саня именно так чувствовал: не мужчина берет женщину, а наоборот. И роль их, мужчин, во всем этом такая жалобная, что иной раз женщина возьмет да и заплачет над ними. Сане все это было стыдно и потому нетрудно сохранять верность своей Вале, лишь перед ней одной оказываясь жалким и беспомощным в своей нужде, – а она простит, она сердобольная. Она НИКОМУ НЕ СКАЖЕТ… Саня резко отдернулся, обернулся – Рита стояла с пьяной улыбкой.
– Что за эксперименты! – гневно бросил.
– Э, Саня, что, твой поезд уже ушел? Извини, я не знала, – блеснула змея чешуей, сверкнула жалом и снова скрылась в дебрях хмеля – наполовину притворного.
– На твоей станции, Рита, мой поезд никогда не стоял! – грубо рассмеялся Саня.
О, они были с Риткой старые кореша, ей уж теперь незачем было казаться перед ним хорошей: он уже знал ее плохой, а это иногда очень ценно, когда есть человек, перед которым тебе уже не стать хуже. Хуже некуда.
И приходится Сане торчать тут, выдерживать ее, тряпичной куклой рассевшуюся на полу у холодильника, и стакан рядом с ней стоит…
Неуверенно заглянет на кухню дочка Хижняков – ей уже шесть лет, – посмотрит на маму и тихонько скроется в комнате. И Рита на нее взглянет чужеватым взглядом, наморщится в усилии – как бы припоминая, кто это? – не находя в своих чувствах того постоянного места, которое было бы занято дочкой, как это бывает у других матерей, неотлучно-матерей. Ритина дочка была в ее чувствах как квартирантка: видит ее Рита – есть она, отвернулась – забыла. Возможно, душа у Риты вообще построена по гостиничному типу и не помнит своих постояльцев.
– Впрочем, – сказала Рита, – я и в самом деле живучая, как кошка. Почитаешь это романы – смех один, какие там чувствительные героини. Наташа Ростова и все такое. Чуть что – горячка и умирать. Я в эти выдумки даже и не верю. У меня от переживаний не то что, а даже аппетит не пропадал. А уж чего только со мной не было, рассказать тебе, Горыныч, волосы дыбом встанут. На три романа хватит… А ничего, цела. Синяки заживут – и опять такая же хожу, прежняя. Только знаешь что – скучнее становится с каждым разом. Только и всего. Глаза меньше видят, слух меньше слышит – скучно потому что. Но ведь скука – это не горячка! Так что книги всё врут.
Она помолчала. Громко сопела – пьянеть, значит, начала.
– Когда мы приехали туда опять, после отпуска-то, и вот я иду как-то в кино. И обогнала меня арабская девчонка лет десяти. Оглянулась на меня и похвасталась: «Фи-с-синама!» Дескать, в кино иду, эля! Ну я чуть не заревела: позавидовала ее такому счастью. А она тогда безо всякого вложила свою руку в мою и пошагала рядом в великом спокойствии завершенного порядка мира. Знакомых каких-то своих увидала – и возликовала, и наши руки сцепленные воздвигла, как рефери в боксе, и выкрикнула что-то горделивое: дескать, смотрите, я и эта русская женщина – друзья! И боже мой, думаю, ну откуда люди берут себе счастье! А главное, куда оно потом девается… Все мне уже противно, скучно и неинтересно. Все кругом вранье… Завела я там себе… извини, Горыныч, ты уж стерпи, выслушай, мне это ж хоть кому-то рассказать! Один офицер тамошнего гарнизона, араб. Думала: хоть скуку развею. А ни черта не развеялось. Он холостой, один жил. Приду к нему – у него какие-то вечно друзья и исчезают с хитрыми такими понятливыми улыбочками. Мне с ним говорить почти не приходилось: я немецкий, а он английский. Объяснялись мычанием, но он и мычанием врал больше, чем любой болтун наврет. Он проявлял ко мне почтение, фальшивое такое, и все врал; я почти уверена была, что этим его дружкам разрешено оставаться где-нибудь в соседней комнате и подслушивать. А то и подсматривать. А я все равно ходила. Мне уже было глубоко плевать… Уезжала, правда, так было облегчение: больше хоть не увижу ухмылок этих его дружков. Мне, конечно, плевать, но все-таки лучше уехать из того места, где незнакомые в толпе ухмыляются тебе в рожу и знают весь твой позор. Летела в самолете – даже в иллюминатор не выглянула, так мне все там опостылело. А говорят еще, преступника тянет вернуться на место преступления. Чепуха. Меня не тянет. Ведь любое место, где жил человек, – это место его преступлений…
Саня терпел. Наверное, это как-нибудь объясняется научно-физически: пока человек не высказал ту гадость, какая в нем сидит, она так в нем и останется. А когда он ее втиснул в слова и эти слова потом изверг из себя – он как будто очистился. Гадость вымывает из человека словами, как ил водой. И он, жаждущий чистоты, должен вылить эти помои, и должен найтись кто-нибудь, согласный все это выслушать (и вместе со словами в его уши и в его сознание не входит ли часть той грязи, от которой освобождается говорящий? – да. Несчастные люди исповедники: они как бункеры для отбросов).
Поток открылся – его уже нельзя было остановить. Его нельзя было останавливать – бесчеловечно. Остается тебе только подвиг: сидеть и слушать. Ритку влечет в темноту. Может, это вообще пристрастие человека? Он ужас любит: подкрасться к краешку, заглянуть и ахнуть – так без удержу и подползает.
Если хорошо в себе разобраться, не только отвращение испытывал сейчас Саня, но и желание длить это отвращение дальше – чтоб оно получало себе новую пищу…
Что ж, человек нуждается в потрясении. А потрясает его ужасное. Добро его лишь убаюкивает. Он в театр идет – ищет трагедии и потрясения. Ему Медею подавай, чтоб он затрепетал. И добро может пробудить и взволновать – но для этого оно должно быть тоже ужасным. Муций Сцевола, например, гордо поднесший руку к огню и смотрящий, как она сгорает. А все эти святые старцы, что, говорят, отрывались от поверхности земли силой своих добродетелей, только скуку наводят.







