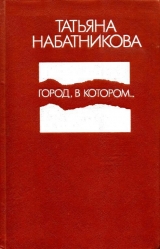
Текст книги "Город, в котором..."
Автор книги: Татьяна Набатникова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
– Ох уж эти острословы! – сказал Путилин, глядя прямо в очки Егудину. – Они напоминают мне ватерполистов. Там для того, чтобы нанести красивый удар, надо утопить своего товарища, столбовика, чтобы от него оттолкнуться. Но если в водном поло это происходит с ведома товарища ради общей цели, то остроумец взбирается людям на голову без спросу и после этого еще предлагает всем полюбоваться, как он замечательно выскочил и блеснул!
– А вы играли в водное поло? – немедленно заинтересовалась Агнесса.
М-м-м-м! – зубы от нее болят, честное слово – ну добрая до глупости! До глупизны! Не понимает подтекстов. Иногда ему казалось, что она нарочно нагоняет на себя глупость – и только при достаточном стечении народа. С ним-то наедине она говорит вполне здраво. И вроде все понимает. Тогда, после ночного обхода Хижняка, как она набросилась на Путилина: «Ты человека растлеваешь!» – и стало ясно, что это Егудин подослал дурачка этого исполнительного; Егудин возненавидел Хижняка еще до знакомства (предчувствуя соперника…), а Путилин тоже, может, именно назло Егудину, полюбил этого Хижняка больше, чем стоило. Вот так попадет человек между шестеренками чужих отношений – и безвинно там погибнет. Или безвинно его вознесет, как вознес Путилин этого спортсмена – в противовес Егудину.
Как трудно найти человека. Раз, два – и обчелся. Ну, Ким, ну, Горынцев… Егудин ушел, сейчас уйдет Семенков. Не жалко, Семенков – вшивота, этот человечек с подмигом, с притопом и прихлопом, с прищелком и с чем там еще. «Неудобно? Неудобно на потолке спать. Остальное терпимо». Пшеничников тоже ушел – тоже не жалко. «Закон сохранения материи неверен, ибо если он верен, то жизнь невозможна вследствие второго начала термодинамики. Приходится допустить, что часть материи безвозвратно переходит в энергию, и за счет этой энергии поддерживается жизнь». Не жалко, но ведь кто-то же должен и работать! Поэтому, может, так хочется человека заранее полюбить, авансом.
Когда появился Хижняк, Егудин признал не без ехидства: «Деятельный. Но действует количеством труда. Он если что и знает, так не потому, что сам дошел, а потому, что хорошо выучил! Настоящий-то ум – он ленив, он действует нехотя, как бы руки в карманах, – поглядел издалека – и безошибочно догадался. Вот признак ума! А не беготня туда-сюда. Ломовая лошадь, брабансон этот ваш Хижняк. Все будут им всегда довольны, он ни в ком не вызовет зависти». Ага, надо понимать, что он, Егудин, – не ломовая лошадь, а высокопородный скакун!
Скакун, тоже…
Агнесса в коридоре – с тревогой: «Знаешь, ты все-таки руководитель, ты обязан быть беспристрастным. Завел тут себе любимчиков-нелюбимчиков! Это тебе не домашний живой уголок, а предприятие и коллектив. И сдерживай свои чувства, и невозможно, чтоб на работе тебя окружали одни только симпатичные тебе люди!»
Не могу, Агнесса! Хочу, стараюсь, но не могу. Очень трудно. Легко лишь тебе одной.
Ее неистребимое добродушие топило в себе, как в масле, любую искру зла. К этому способны только счастливые люди,, со стыдом переносящие перед другими свое счастье, как богатство перед бедными. А я несчастливый, Агнесса!
Счастливая старая дева с основательными, кряжистыми ногами и с лицом очень молодым от непрерывного любопытства ко всему на свете… Свою науку, Агнесса, не втемяшишь в чужой лоб.
Но она права: не живой уголок, а предприятие и коллектив. Такие разные и такие неподходящие друг другу люди, мы все-таки можем ладить между собой, потому что заняты необходимым делом и, как во всяком необходимом деле, служим ему, а не себе, и поэтому, естественно, помогаем друг другу, а не препятствуем. Даже я, Агнесса, даже я, честолюбец, стараюсь не препятствовать. Я борюсь, Агнесса, с собой, когда чувствую себя ощутимее, чем станцию, – свои боли и свои выгоды. Когда предаю ее.
…Стояла на окраине города, дымила вовсю, пыхтела станция, которую они с притворным пренебрежением звали Буренкой. Людям, с нею незнакомым, она казалась со стороны таинственным, зловещим созданием – ее громадное, беспорядочно окутанное паром тело, как туловище ужасного бронтозавра, было упрятано в слепой панцирь, не пропускающий постороннего взгляда. Случалось, среди ночи это чудище издавало жуткий каменный рев, вопль, который, казалось, старался, но бессилен был передать весь ужас происходящего за его глухими стенами – и, поняв тщетность и стыд своих усилий, ослабевал, сдавался и, наконец, совсем умолкал, притворяясь непричастным, как человек, который оконфузился и надеется, что этого не заметили. Этот звук – как будто пар сдавили до твердости камня, а потом отпустили, и его распирает с грохотом раскатывающегося железа – этот страшный гул опасности держится, затухая, минуту, он слышен всему городу, но люди, по своему обыкновению, не обращают внимания на то, чего они не понимают, и тут же забывают его, как несуществующее.
А между тем это звук аварии на ТЭЦ, это тяжелый инсульт мастодонта, это лопается его жила, его кровеносный сосуд – паропровод, и уж что там творится внутри станции при этом – знают только те люди, которые в ней обитают. Обитатели не боятся своего мохнатого от пара зверя, потому что в общем-то он беспомощное и слабое создание, его то и дело приходится спасать, лечить и изо всех сил поддерживать жизнь и бесперебойный ток соков в его жилах – соков огня, пара, воды и электричества. Ибо, в отличие от божьих тварей, маленьких, но совершенных в своей целесообразности, этот зверь был создан человеком и не мог жить сам по себе, без неусыпной помощи своего родителя.
От несовершенства своей природы ТЭЦ натужно гудела и не давала ни на миг отдыха ушам своего творца – совсем как орущий младенец. Но младенец вырастает и перестает плакать, а станция никак не растет и не совершенствуется сама в себе.
Но человек все равно рад и горд своим творением, и с недостатками его легко мирится, зная изъяны и за божьими созданиями. За самим собой.
Потом пришел пообещанный Хижняк. Путилин сам водил его по станции: вахтенный персонал – его личная гвардия, и он должен знать, кого берет. У Хижняка, видно было, голова вздулась с непривычки от изматывающего грохота турбин. Но не подал виду.
Температура в машинном зале была градусов сорок – тропики. В открытые окна вываливался пар прямо в мороз.
– Греете улицу? – крикнул Юра на ухо Путилину.
– А?!
– Греете, говорю, улицу?
– Да! – серьезно ответил Путилин. – Это спрашивают буквально все, кто попадает в машзал.
Юра огорчился: маленький прокол.
– Практику студенческую где проходили?
– На Братской ГЭС.
А…
Слух немного отдыхал, когда сворачивали в пультовые котельного и турбинного цехов. Из-за пульта котельной поднялся им навстречу Андрей Лукич – куртка-спецовка расстегнута до пупа, обнажая поношенное голое тело. Поздоровались все за руку.
– Вот наш старейший мастер котельного цеха, – несоразмерно громко после шумного машзала сказал Путилин. – А это наш новый инженер, будем готовить его в оперативную службу. Скажите-ка ему, Андрей Лукич, сколько времени нужно для того, чтобы освоить оборудование вашего котельного цеха?
– Нужно не меньше, чем месяцев семь-восемь, – с достоинством ответил мастер. И добавил – как бы не от себя, а подневольно: – А чтобы вот так, без приборов, чувствовать состояние машины – это надо лет шесть.
Путилин довольно крякнул, выжав из Андрея Лукича полный парадный текст. Отличный мужик Андрей Лукич, но без юмора. Удручающе серьезен.
– Спасибо, Андрей Лукич!
Тот кивнул и исполнительно сел на свое место.
Ритуал представления повторился в пультовой турбинного цеха. Хижняк узнал, что ему придется работать начальником смены всех цехов по очереди – по месяцу-полтора.
Тогда еще нельзя было предвидеть, что этот Хижняк вцепится в работу с таким остервенением. Он все осваивал потом за полмесяца.
– Бывает, – предупредил Путилин, – устроится человек на работу, а потом раз – авария, и он подает заявление: не выдерживает. Представляете, что здесь творится, когда авария? – печально сказал он. – Собранность требуется, выдержка – как на войне.
И прочитал в глазах Хижняка озноб и готовность к подвигу – и если это не знак, то что же тогда может служить знаком, по которому распознается человек?
В тот же день Путилину пришлось еще раз пройтись по станции в каске – водил корреспондента газеты. И снова бессменное:
– Скажите-ка, Андрей Лукич, сколько времени нужно на то, чтобы…
И Андрей Лукич – опустив глаза, упорствуя в серьезности:
– Потребуется месяцев семь-восемь… А чтобы вот так, без приборов, чувствовать…
Путилин победно взглянул на корреспондента.
Может быть, это детство в нем бесится – то детство, которое он никому не передал. Говорят, колдун не может умереть и мучается до тех пор, пока не передаст кому-нибудь свое колдовство – ему достаточно для этого прикоснуться и дохнуть – и все, он свободен. Может быть, когда рождается ребенок, человек передает ему свое детство и лишь тогда становится вполне взрослый?
А выйдешь со станции – и мир заметно пустеет. И рождается из пустоты эта старая тоска, это ожидание: что-то должно случиться! Потому что нельзя же так – чтобы ничего не было, кроме станции. Этак ведь работа может стать как пьянство – убежищем.
Какой-то авитаминоз, но весна тут ни при чем. Авитаминоз – человека не хватало ему. Может, ребенка. Может, женщины. Может, товарища. Чаял встречи с человеком. Чтобы между ним и тобой возникла, как между разнозарядными точками, разность потенциалов, и чтобы пошел ток, и чтобы жить в этой благотворной напряженности живого поля, как в море купаясь, чуя воскресение каждой клетки.
Чего-то не хватает!
Вспомнил День энергетика в ресторане и бесстрашную жену Хижняка, и как изливался Хижняку за столом: «Как поздно начинаешь понимать, что значит для человека женщина! Все думал: ну жена и жена, какая разница, все одинаковые! А они и в самом деле одинаковые, вот ты погляди на них, сидят, чинно беседуют – все три одинаковые. Они и нужны одна другой для взаимного прикрытия: мол, мы – большинство!» Развезло дурака. Но иногда действительно – такая тоска, боже мой! Вот сейчас – Путилин шел по весеннему сумраку под низким небом, зажигались окна, он глядел на них с завистью, ему казалось: вон за тем окном, с неравномерным пятном настольного света, – вот там, наверное, знают тайну счастья. Иначе откуда такой голубой, такой умиротворенный свет? Или вон красный – от абажура или от штор – там тоже. Там тепло, сухо, уютно, тихо, и там, может быть, и он был бы счастлив.
А включив свет у себя дома и оглядевшись в привычном месте, он нашел все неимоверно тусклым и невыразительным. На стене висело внаклон зеркало, оно отражало комнату в незнакомой перспективе, уходящей под загадочным углом, – эх, вот если бы комната на самом деле была такая, как в зеркале, обратная себе самой, – вот тогда бы стало наконец хорошо! А так – ну что это за жилье? – зайдешь в ванную: ни тебе полочки, на которой благоухали бы перед зеркалом кремы и душистые притирания хозяйки, как в других-то домах, ни тебе… Здесь в мыльнице мок кусок банного мыла, а на батарее грелась рваная коробка стирального порошка. В одной комнате выпучился телевизор – но от этого комната не становилась гостиной! В другой комнате супруги спали – но это не была спальня! И вообще квартира напоминала износившийся выходной костюм, который превратили в домашний. Выходным он быть перестал, но уютным тоже не сделался. И ходишь в нем, мучаешься, ждешь, когда же ночь: раздеться и лечь спать.
Глеб разделся, осмотрелся, с отвращением прибрал кое-что. Жена была на специальном курорте – иногда на нее находил приступами стих лечения от бесплодия, хотя давно уже он выразил ей свое к этому отношение: «А, брось!»
Настроение было авитаминозное. Попытался привести в порядок впечатления сегодняшнего дня – перезапоминая события так, чтобы самому занять в них место попригляднее. Это происходило невольно, особенно если памяти досаждали какие-нибудь неприятности, дела и встречи, в которых он не был на высоте. И он тогда передумывал и перевспоминал все много раз – до тех пор, пока вся сцена не ошкурится, не обстругается, не обкатается в памяти, как галька, пока он, Глеб, не покажется сам себе достаточно правым. Он мысленно добавлял к прошедшим разговорам какие-то новые реплики, запоздавшие ко времени, – и они почти становились принадлежностью тех разговоров. Глеб примирялся с прошедшими событиями только тогда, когда они улеглись, утряслись в памяти, как ягоды в лукошке, больше не мешая друг другу. Так же поступал, быть может, всякий из участников этого события – у всякого было свое лукошко, и бедным событиям приходилось на сто рядов перетрястись, прежде чем найти у каждого в голове свое заслуженное место.
Иногда события не поддавались обработке, мешали, выпирали, кололись острыми углами, и приходилось снова и снова уминать их, повторяя себе с убеждением: да прав же я, прав! И рассуждениями действительно сходилось все к правоте, но почему же из ночи в ночь он не мог заснуть, мучился и твердил себе, как врагу: да прав же я, прав!
Сегодняшний суд над Семенковым не придется уминать и утрясывать. Все было правильно. Утолилось чувство справедливости. И даже чувство авитаминоза утолилось – так утешил его Горынцев, когда говорил свою речь. А еще на новоселье у Хижняка Горынцев тоже вел себя здорово – тоже «поступил», но тогда Путилин был в неприятном весьма положении посреди происходящего, и это помешало ему вполне оценить поведение Горынцева, но теперь, если вспомнить, Саня ведь был просто молодец! Тогда, на новоселье (Агнесса сказала потихоньку за столом: «Все же ты морда, соблазнил человека предать товарища. Пшеничников больше нуждается в квартире, чем он». – «Агнесса, не нагнетай страсти! У меня нет в плане обижать твоего Пшеничникова – будет и у него квартира! Тем более что нуждается он в трехкомнатной, а эта – двух, ты видишь? – она двух! И таких ребят, как Хижняк, надо ценить и поощрять в первую очередь». – «Каких это таких?» – «На преданность которых можно рассчитывать!» – «На преданность или на предательство?» – «Ну хорошо, тогда зачем ты пришла в этот дом и сидишь в нем за столом?» И крыть нечем, и покраснела, как девица, стало стыдно?), – тогда на новоселье в самый разгар явилась жена Семенкова – она, видимо, сидела дома: не сидела, а затравленно металась из угла в угол, как медведица в клетке, и пожар разошедшихся чувств требовал немедленного тушения, иначе спалит изнутри, и потушить это пламя можно, только обрушив все его на голову повинного Семенкова, – как же, ему там хорошо, а ей тут плохо, и надо побежать и разорить все его несправедливое удовольствие. Есть приемы, которые пускаются в ход только один раз в жизни – как жало пчелы. Или как таран камикадзе: сам погибая, разишь врага насмерть. «Глеб Михайлович! – отчаянно окликнула она с порога. – У вас магнитофон украли заграничный – это он украл, он! – и перст карающий – не глядя – в то место, где находился Семенков, еще в объятиях танца (с Ритой Хижняк он танцевал, и она смеялась, не видя ничего, смеялась так, что придешь в смятение, целый вечер, и Путилин видел, как мужики терялись и оглядывались на ее мужа, не осмеливаясь толковать этот игривый смех в его очевидном смысле…).
Вот уж ни к чему была Путилину эта перетряска с магнитофоном, он и от следствия отказался, хотя квартира была на пульте (по дурацкой прихоти жены: боится мышей и воров…), он отказался от следствия, потому что не хотел никого подозревать, а магнитофон – черт с ним, это был подарок друга, поработавшего за границей, но Путилину он был не нужен, и недаром он лишился этой вещи, ведь как они достаются, так с ними и расстаются, но тут стояла на пороге разъяренная жена Семенкова, и опять про этот проклятый магнитофон, и требовался поступок – но его не нашлось под рукой, зато нашелся он у Горынцева – тот шагнул к незнакомой женщине и беспрекословно, хотя и почтительно, сказал:
– На одну минутку со мной. Я должен вам что-то сказать.
Он взял ее за локоть, а она сразу подчинилась, почувствовав ту силу, в которой давно нуждалась, – как двигатель, пошедший вразнос, нуждается в остановке. Они исчезли на кухне этой новосельной квартиры – и что уж там говорил Горынцев – наверно, уж знал, что сказать, да…
– Она врет! – крикнул тогда струсивший Семенков. – Ей лишь бы мне навредить! Она врет.
– Не беспокойтесь, – брезгливо попросил Путилин. – Я не хочу вспоминать эту историю.
И вообще ему было пора уходить, и из прихожей он услышал нечаянно то, что происходило на кухне: «Я сейчас пойду и принесу этот магнитофон сюда!» – Семенкова как бы спрашивала у Горынцева разрешение. А Горынцев не разрешал: «Ни в коем случае! Я сейчас пойду с вами, и по дороге мы все обсудим». – «Я докажу! Он хотел записать на магнитофон, как мы разговариваем с матерью: он меня все хотел застукать, что я матери отдаю деньги, а она их где-то складывает на сберкнижку. Ему кто-то сказал, что японский магнитофон берет шепот – а он не взял! Зато он щелкнул, когда выключился, – и я его обнаружила!» Путилин спешил одеться, Агнесса вышла его проводить и, тоже слыша с кухни, заглушила: «Все равно не могу простить тебе Пшеничникова! Хижняк бы и сам за себя постоял». – «Вот и хорошо, – зло сказал Путилин. – Человек это обязан уметь, постоять за себя. А что твой Пшеничников? Его жена исцарапала». – «Не жена, а сын! Да, сын, нечаянно!» – чуть не заплакала Агнесса. Пригвоздил ее взглядом сильно выраженного презрения – такой взгляд могут позволить между собой свои люди и старые друзья. «Агнесса, – сказал он с великой укоризной. – Иногда я не знаю, то ли ты прикидываешься дурой, то ли на самом деле дура!» – «…сын болел, в температуре, в жару», – лопотала Агнесса, и это уж ее личное дело, чьи поступки выбирать для положительного толкования, а чьи для отрицательного.
Но что такое Хижняк на самом деле?
Неужели он, Путилин, в-нем ошибся? С первого дня он просто понравился – ладный, сильный, и эта бойкость, это желание «прийтись», Путилин сам так начинал. И не устоял, вонзил в этого новичка известную премудрость: «Запомните: первые пять лет вы работаете на свой авторитет, а потом авторитет работает на вас!» – ту премудрость, которую сам получил когда-то в свой разверстый, трепещущий от волнения ум в первый день работы.
А как Хижняк работал! И как потом, спустя год, Путилин отвел его за щит управления, там окна, громадные, разлинованные в клетку переплетами рам, подернутые черной тонкой копотью, а за окнами простирался зимний вид: территория станции, прокопченная, утоптанная ногами и шинами грузовиков; арками нависали, изгибаясь, ряды толстых трубопроводов, рельсы тянулись издали и ныряли в недра размораживающего устройства; было не то чтобы «мороз и солнце, день чудесный» – отнюдь, но тоже доставляло свое умиротворение: ту радость, какую испытывает часовщик, глядя в утробу механизма, где все ладно и согласованно движется, шевелится и живет. «Ну что, Юрий Васильевич, хотите быть старшим дисом?» Быть старшим дисом, правой рукой главного инженера, входить в кабинет без предупреждения, падать в кресло и задумчиво вслух соображать: «Может, сделать так-то и так? Как ты думаешь?» ТЫ. Прежний старший дис болел долго, и операция не помогла ему. Егудин исполнял его обязанности в позе жертвы (ведь не освобождался при этом от сменной своей работы), а уж кому-кому, а Егудину Путилин никак не хотел бы задолжать. (Старшего диса навещала в больнице Агнесса – а кто же еще! – и докладывала: «Сегодня, сказал, стало лучше. Вот-вот выпишут. Хочет скорее на работу, соскучился». А Егудин усмехнулся: «Ну, он-то играет в жмурки – это можно понять, он сейчас во что угодно поверит, в бога и нечистую силу, только не в свою смерть. Но вы-то, Агнесса Сергеевна, перед нами зачем притворитесь? Л у ч ш е… В о т-в о т в ы й д е т… Оттуда не выходят!» «Откуда?» – испугалась Агнесса. – «Из рака, откуда!» – «Вы думаете, у него рак?» – ошеломленно посмотрела она. Егудин только вздохнул с бесконечным терпением. «А я думала, язва…»)
И вскоре после этого, когда Хижняк сдавал экзамен на допуск (Путилин сам сократил ему сроки стажировки: «Что ж, если человек рвется, пропустим его вперед!») и блистал (ну, бывают такие минуты вдохновения, такие прозрачные минуты, когда сам не знаешь, откуда знаешь, берет тебя невидимый ангел за руку и ведет по проволоке, по коньку крыши под луной, и разговариваешь на чужом языке, которого отродясь не учил, – а потом опомнишься, взглянешь на пропасть под проволокой и ахнешь: да не может того быть, чтоб я прошел!), Путилин с некоторой подковыркой шепнул Егудину: «Вот что значит спортсмен!», на что Егудин ревниво признал: «Что ж, я рад новым кадрам. Тем более что это приближает меня к скорейшему назначению. Так сказать, когда же мы узаконим мои отношения с должностью старшего диса?» – «Дайте человеку сперва умереть!» – оборвал Путилин. А когда после экзамена поздравляли новоиспеченного диса и Егудин забеспокоился: «Товарищи, мы же не обговорили, в какой вахте будет работать Хижняк!», Путилин бросил: «У него универсальная сходимость, он может работать с кем угодно. Вы, как старший по должности, могли бы это заметить!» Вот и колол, беднягу, и колол, и не мог остановиться. И из чего только складываются симпатии и антипатии? Наверное, это где-нибудь исследовано. Наши – не наши, вечная битва правых и виноватых. Наши – это, безусловно, правые. Не наши – ясное дело, напротив. «С нами бог!» – убежденно писали на своих знаменах воюющие противники. Очень удобно, когда можно разделить мир на наших и не наших. Наша улица, наш город, наша национальность – а все плохое оставить по ту сторону. Но внутри национальности, внутри города, внутри улицы все еще есть от чего отделиться, чтобы почувствовать свои преимущества. Наша семья лучше вашей. Внутри семьи: мы – мужчины, а вы бабье. Или наоборот: мы – женщины, а вы мужичье. И всегда находится, с кем отождествить силы вины и зла, чтобы остаться вне их. И так мы делимся, делимся, работает этот сепаратор, позволяющий нам лично все время оставаться сливками, и вот наконец произошло окончательное отмежевание от зла ты остался в одиночестве. Но что это, почему такая тоска, почему плохое все же не исчезло, и кто теперь ответит за него – ведь стоишь ты один в чистом поле с мечом – и кого же тебе теперь разить?
Смотрит Путилин на Егудина, думает: ну что-о-о это! Ему бы где-нибудь научным сотрудником щеголять, а инженер-практик – это другое. Инженер-практик – это вот Хижняк. Мы все тут рабочие, как один, мы не интеллигенция, у нас в столовой комплексный обед, который мы съедаем рассеянно и наспех: вытер вилку о рукав, натрескался скорее и побежал. А тебе, Егудин, надо где-нибудь в таком, месте служить, где скатерти, ножи, салфетки, кофе в турке и поблескиванье очков.
И вот умер старший дис, мягкий такой был, нешумный человек, работал – как по голове поглаживал ласково, царство ему небесное, Агнесса собирала на похороны по пятерке, и Семенков хватался за голову: «Сейчас похоронить человека стоит столько, что живому остаться дешевле!» – и тут же снимал трубку – звонила издалека его бывшая жена, спеша выложить все, что накопила за ночь злобы, а он коротко отвечал ей: «Пошла отсюда!» – и бросал трубку, а Юра Хижняк, отозванный Путилиным за щит управления, бойко в ответ на «хотите быть старшим дисом?» чеканил: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом!» – давая понять, что принял предложение за шутку. Неужели непонятно, что тут не до шуток. «Значит, вы согласны?» – уточнил, нахмурясь. «Так точно!» – продолжал тот ваньку валять, как будто боялся сглазить и преждевременно выдернуть удочку. «Пишу приказ!» – бросил уже с раздражением и ушел. А про Егудина Хижняк даже не вспомнил…
Директор Василий Петрович попросил Путилина обосновать такой выбор. Обосновать? Парень хочет и умеет работать. Парень хорошо соображает. Парень ладит с людьми (говорил, а сам хмурился: как колючка где-то в носке засела… стопроцентная сходимость – всеядность – приспособительство – шакальство – так близко все, одно невидимо переходит в другое). Парень физически и психически здоров. (Повысил тон, чтобы отвязаться от колючки в носке). Парень, наконец, красив – вы что, не видите? У него ни одной пломбы во рту.
Василий Петрович пожал плечами и подписал приказ. Он дотягивал полгода до пенсии, дома у него была крохотная внучка, перед матерью которой – своей дочерью – Василий Петрович был виноват: всю жизнь отдал производству, а ей ничего. Хотел искупать долги, повинуясь самым простым семейным нуждам. Он недавно к тому же перенес инфаркт – хоть и небольшенький, но достаточный, чтобы стать сентиментальным и почувствовать любовь к родным.
А на следующий день Егудин подал заявление об уходе. Путилин взглянул на бумагу, усмехнулся:
– Так. Поступок пожелал остаться немотивированным. Ну что ж, подпишем и немотивированный. Желание клиента для нас закон!
– Если вам нужна мотивировка, то…
– Не нужна! – опередил. И корректно осведомился, с отработкой ли подписать или с сегодняшнего дня.
Егудин, конечно, не ожидал. Он опешил, потерялся. Рука невольно потянулась забрать бумагу назад – но удержал ее, призвав на помощь, наверное, все свое самолюбие. Рассчитывал: работать некому, и ТЭЦ не должна так легко согласиться потерять его. Ведь подготовленный специалист стоит станции год времени! Он не ожидал от Путилина.
– С отработкой, – и голову опустил, как собака, признавшая себя побежденной.
– Пожалуйста! – Путилин сделал росчерк. Не было в нем милосердия. – Более того, с завтрашнего дня вы можете не выходить на работу, две недели будут вам оплачены в виде выходного пособия. К директору на подпись я отнесу сам, – и придержал бумагу, к которой потянулся было Егудин.
– Ну спасибо, – вибрирующим голосом.
– Не за что. Вы проработали на станции пять, кажется, лет, да? Вы заслужили к себе самое лучшее отношение.
Путилин в ту минуту сам был противен себе. Растер бедного по земле, как плевок. Но не мог же он, в самом деле, позволить, чтоб его вот так брали на испуг! Они думают: сейчас начальство вскочит, лапки кверху и в ножки бух: не губите, помилосердствуйте! Начальство будто не знает, что все течет и все изменяется ежесекундно, а мир стоит и ничто не в силах его опрокинуть. Даже ваше заявление об уходе. Вы думаете, раз начальство уговаривает вас забрать заявление – значит, оно испугалось остаться без такого ценного специалиста, как вы? Без такого замечательного незаменимого специалиста!
– Благодарю за «хорошее отношение», Глеб Михайлович!.. – хлопок двери.
Эпизод исчерпан. А жжение в мозгу все длится, длится. Сейчас он пойдет по станции, будет всем сообщать с видом гордой жертвы, что уходит. Думает, вот сейчас все возмутятся такой несправедливостью, и начнется всенародное движение сопротивления. Ну, как на войне: встал из окопа, ура и вперед – и все за тобой. Врешь, братец, сейчас не война. Хочешь знать, что будет? Встанешь, закричишь ура, и все с интересом будут глядеть, как ты побежишь. Те же самые люди. Странный эффект, не правда ли, у мирного времени? Это только война на всех поровну, а мир – у каждого свой… Явится такой вот борец за справедливость (ему непременно кажется, что он не за себя, а за самую что ни на есть справедливость!), занесет ногу на красивый шаг, надеясь, что подхватят в воздухе преданные руки товарищей и понесут. Понесут или уж удержат. Ан зависла эта занесенная нога в пустоте, и восставший обречен завершить красивый шаг, проигрывая единоборство, а зрители и болельщики долго будут перешептываться в кулуарах и, качая головами, мудро делать выводы о жизни, в которой не доищешься правды. Ерунда! Правды доищешься, когда она действительно правда! На суде, когда всплыл донос Семенкова о назначении Агнессы дисом, каждый – каждый! – почувствовал себя задетым. СЕБЯ. Потому что действительная, несомненная справедливость – она у всех одна. Как война.
Агнесса не хотела. Ее уговорили. Директор Василий Петрович, когда Путилин принес ему заявление Егудина со своей визой «не возражаю», запротестовал: «Да вы что, Глеб Михайлович, бог с вами, так не делается! Заявление подписывается в тот день, когда кончается его срок! Есть правила, этика, наконец». – «Делается, Василий Петрович, всяко. Как надо – так и делается!» – сказал Путилин внушительно, не давая директору никакого преобладания над собой.
Сила солому ломит, Василий Петрович открыл было рот, но вспомнил, наверное, свою внучку – белоснежку с голубыми глазами, и что до пенсии ерунда, вздохнул и подписал эту бумагу.
– Разбазариваете оперативный персонал! – ворчал. – Кем вы его замените?
– Сами ляжем на амбразуру.
– Лягут они на амбразуру…
Путилин вышел, положил бумагу на стол секретарше:
– В приказ!
И затеребили мирную женщину Агнессу – доколе отсиживаться в электротехниках?
Агнессе сорок восемь лет, и это – с какого боку глядеть – может быть и молодостью, и старостью. В окружении Агнессы все были молодые ребята инженеры, и глядели на нее все оттуда, из молодости, прощальными глазами, как бы преодолевая громадное расстояние, разлучающее ее с ними. Будто телега ее уже так далеко откатилась от того центрального места, где с шумным эгоизмом молодости справлялся пир и праздник жизни, что если кто и оторвет взор от завораживающей кутерьмы, и оглянется наружу, в даль отъезда, то едва разглядит, кто там, в телеге, покинул это ликующее место.
Постоянно ощущая на себе этот сожалеющий взор, Агнесса послушно перестраивалась, переводила стрелки своих внутренних часов на «пора спать», хотя чувствовала себя вполне в силах справиться с пляской молодости. Ведь мы боязливы и чтим посторонний взгляд превыше своего и покорно подвинемся в то место, куда нам укажут, лишь втайне пожав плечами: «Разве? Ну, как вам будет угодно…» Мы же скромняги все.
– С твоим-то опытом! – наседал Путилин. – И в такое время, когда родная ТЭЦ требует тебя «к священной жертве Аполлон», – ввернул, сделав дурные глаза. – Кто, если не ты? – ударился в цитаты. – Если я не буду гореть, если он не будет гореть, если ты не будешь гореть – кто же тогда рассеет тьму? – тыкал пальцем во все стороны. Балдел. Он молодил Агнессу. Но кто-то же должен был молодить и его, хотя уж он никому не позволил бы подумать на себя «старый», уж он бы оказал сопротивленье!
Агнесса поддалась, заразилась, что-то в ней взыграло – та одержимость, безрассудство, которое бывает лишь в детстве, когда хочется нырнуть в глубину и не то убегать, не то догонять – как мальчишки играют в щучки во взбаламученной реке.







