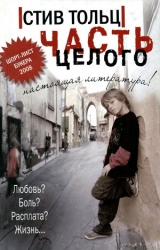
Текст книги "Части целого"
Автор книги: Стив Тольц
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 41 страниц)
СТИВ ТОЛЬЦ
ЧАСТИ ЦЕЛОГО
Посвящается Мари
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Вряд ли кто-нибудь слышал, чтобы в трагической катастрофе спортсмен потерял обоняние, и это закономерно, ибо заведенный порядок таков: судьба преподает нам мучительные уроки, отнимая у нас самое необходимое в жизни. Спортсмен может лишиться ног, философ – рассудка, художник – глаз, музыкант – слуха, шеф-повар скорее всего языка. Мой урок? Я потерял свободу и оказался в странной тюрьме, где труднее всего – если отвлечься от назойливого осознания, что в карманах пусто, а с тобой обращаются будто с псом, который осмелился задрать ногу в священном храме. Я способен выдержать служебное рвение жестокосердых охранников, бесперспективность эрекции и удушающую жару. (По-видимому, кондиционирование воздуха попирает представление общества о наказании: словно если дать человеку возможность слегка охладиться – означает списать с него часть вины за убийство.) Но как убить время? Влюбиться? Были там, кроме мужчин, еще и очаровательные в своем безразличии стражницы, только я никогда не славился умением бегать за юбками – меня всегда отшивали. Целый день спать? Однако стоило мне закрыть глаза – перед моим взором вставало зловещее лицо, преследовавшее меня всю мою жизнь. Медитировать? После всего, что случилось, я твердо усвоил: мозг не стоит даже той оболочки, в которую помещен. Развлечения? Никаких – во всяком случае, их недостаточно, чтобы избавиться от изнуряющей рефлексии. А память не прогнать Даже палкой.
Остается одно – свихнуться. Но это легко лишь в театре, где апокалипсис представляют не реже чем раз в две недели. Вчера ночью состоялось представление особенно звездное: я уже засыпал, когда здание содрогнулось от дружного рева кипящих гневом людей. Я похолодел. Бунт. Очередная дурно спланированная революция. Не прошло и пары минут, как дверь с грохотом распахнулась, и на пороге возник какой-то верзила. Его улыбка явно имела функции чисто декоративные.
– Твой матрас. Он мне нужен, – заявил гость.
– Зачем?
– Хотим поджечь все матрасы, – с гордостью поведал вошедший и поднял вверх оба больших пальца – с таким видом, словно жест этот был драгоценным камнем в короне достижений человечества.
– На чем же я буду спать? На полу?
Он пожал плечами и заговорил на непонятном мне языке. На его шее я заметил странные бугры – под кожей у него разрасталось что-то неладное. Со здоровьем у всех было здесь неважно – неотвязные наши несчастья расцвели всевозможными хворями. Я тоже не исключение – лицо у меня сморщилось, как высохшая виноградина, а сам такой худой, что напоминаю лозу.
Я махнул рукой заключенному, чтобы тот убирался, и продолжил внимать рутинному гвалту тюремного сброда. И тут мне пришло в голову, а ведь я мог бы занять себя тем, что стал бы описывать сию историю. Конечно, делать это придется тайно, скрючившись где-то за дверью, и только ночью, работу же прятать в сыром закутке между стенкой и унитазом, в надежде, что тюремщики не будут искать там, елозя на четвереньках. Я еще обдумывал план, когда бунтари погасили наконец свет, и сидел на кровати, как зачарованный, в тусклом мерцании тлеющих в коридоре матрасов. Мои размышления прервали двое небритых визитеров. Они вломились в камеру и уставились на меня таким взглядом, будто созерцают пейзаж, открывшийся с горной вершины.
– Это ты не захотел отдать свой матрас? – прорычал тот, что повыше. У него был вид человека, проснувшегося с перепоя.
Я подтвердил: именно я.
– Отойди.
– Я собираюсь ложиться! – запротестовал я.
Посетители утробно и как-то очень неприятно рассмеялись.
Мне показалось, трещит мешковина. Тот, что повыше, сдернул матрас с койки и оттолкнул меня в сторону, другой неподвижно застыл и, видимо, ждал, когда оттает и обретет способность шевелиться. Есть какие-то вещи, ради которых я готов подставлять шею, но матрас со сбившейся комками набивкой среди них не числится.
Взяв его с двух сторон, заключенные понесли матрас вон из камеры. Но на пороге они задержались.
– Идешь? – спросил меня коротышка.
– Зачем?
– Но это же твой матрас! – удивился налетчик. – И ты первый должен поднести к нему спичку.
Я застонал. Человек со своими законами! Даже в этой обеззаконенной преисподней он демонстрирует уважение к чужому праву, иначе чем он отличается от животного?
– Без меня.
– Как знаешь. – Гость был несколько разочарован, о чем, кажется, сообщал на все том же непонятном мне языке товарищу. Тот засмеялся, и они удалились.
Здесь постоянно что-либо происходило: если не бунт – попытка побега. Тщетность подобных усилий открыла мне глаза на положительные стороны заключения. В отличие от тех, кто рвет на себе волосы, будучи изгнанным из приличного общества, здесь мы избавлены от необходимости испытывать стыд за то, что изо дня в день несчастны. Нам есть, кого в том винить – этих вот, в начищенных сапогах. По зрелом размышлении мысль о свободе оставляет меня равнодушным, в реальном мире невозможно отречься от авторства, даже если твою писанину постиг грандиозный провал.
С чего же начать? Вести торг с памятью – дело нелегкое. Как выбрать из того, что рвется наружу, то, что только еще созревает, что требует перетирания языком, дабы явиться на свет размолотым в порошок? Одно очевидно: не рассказать об отце – такое умственное напряжение мне не по силам. Все мои мысли, которые не об отце, – безусловно, увертка, чтобы о нем не думать. И почему я не вправе о нем размышлять? Он наказал меня тем, что я существую. Теперь моя очередь отплатить ему той же монетой. Это будет лишь справедливо.
Трудность же в том, что я погребен под нашими жизнями. Они громоздятся надо мной, чудовищно исполинские. Писали мы на холсте, превосходящем размерами тот, на который могли замахнуться, – поперек континентов (трех), от неизвестности к избранности, от городов к джунглям, от лохмотьев к дизайнерским изощрениям, преданные любимыми и собственными телами, униженные сначала в своей стране, затем в космическом беспределье, не имея кого-то, кто обнял бы нас, поддержал. Мы были ленивы на приключения, мы лишь заигрывали с жизнью. Застенчивость не позволяла нам двигаться до конца. Так с чего мне начать повествовать об этой способной вас ужаснуть одиссее? С самого, пожалуй, простого – Джаспера. Не следует забывать: люди радуются – нет, приходят в восторг, – если сложные события преподносят им как простые. И кроме того, моя история чертовски хороша и – правдива. Не знаю почему, но это людям важно. Хотя мне все равно, и если собеседник признается: «Расскажу тебе потрясающую вещь, но все здесь от слова до слова ложь», я буду слушать почти не дыша.
Сразу хочу предупредить: мой рассказ будет столько же об отце, сколько обо мне самом. Не люблю, когда повествующий не способен вывести героем собственного врага. Но так случается сплошь и рядом. Дело в том, что отца в Австралии ненавидят больше, чем кого бы то ни было в этой стране. А его брата, то есть моего дядю, в такой же степени любят. Я буду рассказывать об обоих. Не собираюсь подрывать всеобщей любви к одному и стараться смягчить ненависть к другому. Зачем все портить, если ненависть служит познанию тех, кого любишь?
И еще должен предупредить, чтобы не осталось уже никаких недомолвок.
Тело отца так и не будет найдено.
Большую часть жизни я не мог решить, то ли жалеть отца, то ли не обращать на него внимания, то ли обожать, то ли судить, то ли убить. Его загадочное поведение заставляло меня колебаться до самого конца. Он отличался противоречивыми суждениями обо всем на свете и особенно о том, что касалось моего воспитания. Я провел шесть месяцев в детском саду, и он решил, что этого довольно, поскольку система образования «отупляет, развращает душу, устарела и слишком приземленная». Не могу взять в толк, почему рисование пальцем надо называть устаревшим и приземленным методом воспитания. Грязным – да, но никак не развращающим душу. Отец забрал меня домой, намереваясь заняться моим образованием, и вместо того, чтобы заставлять рисовать пальцем, читал мне письма Ван Гога брату Тео, которые художник написал перед тем, как отрезать себе ухо. А еще – «Человеческое, слишком человеческое» [1]1
Эссе Фридриха Ницше, написанное в 1878 году. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть], чтобы мы вместе могли «отделить Ницше от нацистов». Затем он коротал время, вперившись в пространство, а я садился неподалеку от дома и водил по земле пальцами, жалея, что на них нет краски. Через шесть недель он сдал меня обратно в детский сад, и, казалось, я получил возможность продолжать нормальную жизнь, но когда я учился в первом классе, он явился в школу и снова увел с собой, поскольку испугался, что оставляет мой впечатлительный ум в тенетах дьявольского исподнего.
На этот раз он взялся за меня серьезно и за шатким кухонным столом, стряхивая белый сигаретный пепел в немытые тарелки, учил литературе, философии, географии, истории и не имеющему названия предмету, для чего требовалось пролистать ежедневные газеты, после чего он недовольно бурчал, что средства массовой информации «сеют моральную панику», и вопрошал, почему люди позволяют так с собой обращаться и поддаются этой самой моральной панике. Иногда уроки проходили в спальне среди сотен купленных у букиниста книг, портретов мрачных, давно почивших поэтов, пустых пивных бутылок, газетных вырезок, старых карт, черной скукожившейся банановой кожуры, пачек невыкуренных сигарет и пепельниц с выкуренными.
Вот типичный урок:
– Итак, Джаспер, мир больше не распадается неосязаемо – в наши дни он рушится с грохотом. В любом городе мира по улицам открыто плавают запахи гамбургера и ищут старых друзей. В прежних сказках злая ведьма была безобразной; в современных – у нее скуластое лицо и силиконовые имплантаты. Люди не таинственны, потому что никогда не закрывают рта. Верование дает точно такое же озарение, как повязка на глазах. Ты слушаешь меня, Джаспер? Когда-нибудь поздно вечером на улице идущая перед тобой женщина обернется и перейдет на другую сторону просто потому, что некоторые представители твоего пола насилуют ей подобных и пристают к детям.
Каждое занятие приводило в замешательство и охватывало самый разнообразный спектр тем. Отец пытался вовлечь меня в диалоги, подобные тем, что вел Сократ, но говорил за обе стороны сам. Как-то во время грозы отключилось электричество, он зажег свечу и поднес под подбородок, чтобы продемонстрировать, как человеческое лицо при соответствующем освещении превращается в зловещую маску. Он научил меня не следовать глупой человеческой привычке назначать без должных на то оснований встречи, ориентируясь на пятнадцатиминутные временные интервалы.
– Никогда, Джаспер, не встречайся с людьми в семь сорок пять или в шесть тридцать – выбирай что-нибудь вроде семи двенадцати или восьми ноль трех!
Если звонил телефон, он поднимал трубку, но не отвечал, а когда на другом конце провода с ним здоровались, изображал писклявый, дрожащий детский голос и говорил:
– Папы нет дома.
Я хотя и был маленьким, но уже понимал, что скрывающемуся от мира взрослому смешно подделываться под своего шестилетнего сына, однако через много лет сам занялся тем же самым, только изображал его.
– Сына нет дома, – басил я в трубку. – Что-нибудь передать?
Отец одобрительно кивал. Больше всего ему нравилось, если кто-то от кого-то прятался.
Уроки продолжались и когда мы вышли во внешний мир: отец учил меня торговаться, хотя мирок, в котором мы жили, был иного рода. Помню, как, держа меня за руку, он завопил в лицо торговцу газет:
– Никаких войн! Никакого обвала рынков! Никаких убийц на свободе! За что вы столько хотите? Ведь ничего же не произошло!
Еще я помню, как он сидел на желтом пластмассовом стуле и стриг мне волосы. Отец свято верил, что это отнюдь не нейрохирургия и если у человека есть пара рук и ножницы, он обязательно справится.
– Я не собираюсь тратиться на парикмахера, Джаспер, – заявлял он. – Чего тут уметь? Дальше черепа не обстрижешь. – Мой отец – философ, и даже в стрижке волос он искал смысл. – Волосы – символ мужественности и жизнестойкости, хотя многие слабаки носят длинные прически и немало лысых отличаются жизненной энергией. Так зачем мы их стрижем? Что мы имеем против волос? – Он быстро и бездумно щелкал ножницами.
Отец часто стриг и себя самого и при этом не пользовался зеркалом. – Я это делаю не для того, чтобы завоевать приз, – объяснял он, – а чтобы укоротить поросль на голове. – Мы были отцом и сыном с невиданными, безумными прическами, воплощающими одну из любимейших отцовских идей. Я ее понял намного позднее: есть свобода в том, чтобы выглядеть ненормальным.
С наступлением вечера дневные уроки завершались придуманной им на сон грядущий историей. Каждая – отменная гадость! Мрачные, вызывающие дрожь, и во всех был герой, в котором угадывались мои черты. Вот один из характерных рассказов: «Жил-был маленький мальчик по имени Каспер. Все его друзья одинаково относились к живущему в конце улицы толстому парню. Они его ненавидели. Каспер хотел продолжать дружить со своей компанией и тоже начал ненавидеть толстяка. Но однажды утром он проснулся и обнаружил, что его мозги загнили и с болью вытекли из задницы». Бедняга Каспер! Ему положительно не везло. В серии отцовских вечерних рассказов его расстреливали, закалывали, били дубинкой, топили в кипящем море, тащили по осколкам стекла, ему сдирали с пальцев ногти, скармливали его внутренности каннибалам. Он исчезал, взрывался, его разрывало изнутри, он часто погибал от жесточайших спазмов и потери слуха. Мораль была всегда одной и той же: если бездумно следовать общественному мнению, то дело кончится внезапной, ужасной смертью. После этого я еще долго боялся соглашаться с людьми, даже если речь шла о том, сколько теперь времени.
Каспер так ни в чем серьезном и не преуспел. Иногда он выигрывал сражения и получал за это награды (две золотых монетки, поцелуй, одобрение отца), но никогда, ни единого раза он не победил в войне. Теперь я понимаю: это происходило от того, что философия отца принесла ему в жизни немного завоеваний – ни любви, ни покоя, ни успеха, ни счастья. Благодаря своему мышлению он не мог вообразить долгий мир без войны или значимую победу – его опыт ничего подобного ему не подсказывал. Вот поэтому Каспер с самого начала был обречен. Бедолага не имел ни малейшего шанса.
Самое запоминающееся занятие в отцовском классе началось в тот день, когда он вошел в спальню с желтовато-зеленой обувной коробкой под мышкой и объявил:
– Сегодняшний урок о тебе.
Он повел меня в парк напротив нашего многоквартирного дома, один из унылых заброшенных городских парков, которые выглядели так, словно это были поля сражений между детьми и наркоманами, где детям в итоге здорово надрали задницы. Высохшая трава, сломанные горки, пара качелей с парусиновыми сиденьями, поскрипывающими на запутавшихся ржавых цепях.
– Слушай, Джаспер, – начал отец, когда мы уселись на скамейку. – Настало время тебе рассказать, как прогорел твой дед, чтобы ты мог решить, как поступать с неудачами предков: то ли следовать им, то ли, отталкиваясь от ошибок предшественников, совершать собственные, но на своей орбите. Все мы немощно отползаем от могил своих дедушек и бабушек, чтобы не слышать печального звона их смерти и избавиться от послевкусья их самого главного насилия над собой – стыда за свои загубленные жизни. Лишь постоянное накопление раскаяния и просчетов, нашстыд и нашизагубленные жизни открывают дверь к их пониманию. Если по какому-то капризу судьбы мы ведем приятную жизнь и идем от одного успеха к другому, нам их никогда не понять. Никогда!
Отец открыл обувную коробку.
– Я хочу, чтобы ты кое на что посмотрел. – Он вынул пачку неперевязанных фотографий. – Это твой дед. – На черно-белом снимке был изображен прислонившийся к фонарю молодой человек с бородой. Он не улыбался, а к столбу прислонился, словно опасаясь упасть.
Отец повернул ко мне другую фотографию. На ней женщина с простым овальным лицом улыбалась одними кончиками губ.
– Это твоя бабушка. – Он стал демонстрировать другие снимки, строго по одному, будто был запрограммирован. То, что я увидел из монохромного прошлого, оставило меня в недоумении: выражение человеческих лиц было везде одинаковым – дед всегда был охвачен страхом, улыбка бабушки была более унылая, чем если бы она сокрушенно хмурилась.
Отец вытащил еще одну фотографию:
– А это папа номер два, мой настоящий родитель. Люди обычно считают, что биологический отец важнее того, кто тебя вырастил. Но человека воспитывает не способная к оплодотворению капля семенной жидкости. Согласен?
Он поднес фотографию к моим глазам. Не знаю, можно ли сказать о лицах, что они были полярно противоположны друг другу, но в отличие от первого мрачного дедушки этот улыбался так лучезарно, будто его фотографировали в самый счастливый день не только его жизни, а жизни вообще. На нем был заляпанный белой краской комбинезон, светлые волосы растрепались, по лицу ручьями катился пот.
– Если хочешь знать, я не часто смотрю на эти фотографии, – продолжал отец, – потому что, когда я гляжу на снимки умерших людей, то вижу одно: они мертвы. Не важно, кто изображен: Наполеон или моя мать, – они просто мертвецы.
В тот день я узнал, что моя бабушка родилась в Польше в самое несчастное время, когда Гитлер превратил свою манию величия в реальность и предстал перед миром наделенным сноровкой торговаться сильным лидером. В тот день, когда немцы подступили к Варшаве, родители бабушки убежали из города и, протащив ребенка через всю Восточную Европу, спустя несколько мучительных месяцев скитаний оказались в Китае. Там бабушка и выросла – в шанхайском гетто, пока шла война. Она говорила по-польски, на идише, на мандаринском диалекте китайского языка, страдала от сырости в сезон муссонов, голодала, выдержала жестокие американские авианалеты, но осталась в живых.
После того как американские войска вошли в Шанхай и принесли трагическое известие о холокосте, многие из еврейской общины оставили Китай и разъехались по всему миру, но мои прадедушка и прабабушка решили остаться. Они завели кабаре, где говорили на разных языках, и кошерную мясную лавку. Это вполне устраивало мою юную бабушку, которая в то время уже была влюблена в моего дедушку, актера их труппы. В 1956 году, когда бабушке было только семнадцать лет, она забеременела, и это заставило и ее родителей, и родителей моего дедушки поспешить с приготовлениями к свадьбе, как это принято в Старом Свете, если люди не хотят, чтобы все вокруг начали заниматься подсчетами. Через неделю после бракосочетания семья решила вернуться в Польшу и на родине растить будущего ребенка – пока только набор клеток, которые впоследствии должны были превратиться в моего отца.
С распростертыми объятиями их, мягко говоря, не приняли. Объясняется ли это чувством вины новых хозяев или их страхом, что придется возвращать собственность, но когда вернувшиеся скитальцы позвонили в дверь и заявили: «Вы живете в нашем доме», с ними не церемонились – за десять минут на глазах моей бабушки ее родителей забили до смерти металлической трубой. Бабушка убежала, но ее мужу не повезло: его застрелили за то, что он молился на иврите, и он упал на тела стариков. А поскольку он не успел произнести «Аминь», то его молитва не дошла по назначению. («Аминь» – это нечто вроде кнопки «отправить» в электронной почте.)
Внезапно овдовевшая и осиротевшая, бабушка вторично за свою недолгую жизнь дала деру из Польши – на этот раз на плывущем в Австралию корабле. Два месяца она взирала на унылый горизонт. А когда кто-то крикнул: «Земля!», у нее начались роды. Пассажиры бросились к борту и, вцепившись в поручни, стали смотреть на окаймлявшие берега зеленые рощицы на крутых склонах. Австралия! Самые юные радостно закричали. А старшие понимали: ключ к счастью в том, чтобы не завышать ожиданий. И неодобрительно зашикали.
– Ты меня слушаешь? – прервал рассказ отец. – Это все стеновые блоки твоей личности. Польское, еврейское, гонение, бегство. Овощи, которые составляют закваску Джаспера. Понимаешь?
Я кивнул. Мне это было понятно. Отец продолжал.
Хотя по-английски она не знала почти ни слова, всего через шесть месяцев каким-то образом сумела подцепить моего дедушку номер два. Спорно, стоит ли этим гордиться или этого надо стыдиться, но он вел свой род от тех английских каторжников, которых привезли в Австралию в трюме последнего корабля. И хотя известно, что многие из них попали туда за мелкие преступления, например, за кражу какой-нибудь булки, предок отца к ним не принадлежал. Наверное, он мог бы составить им компанию, если бы после того, как изнасиловал трех женщин, еще и свистнул буханку хлеба по дороге домой, но история об этом умалчивает.
Ухаживание было недолгим. Австралиец не возражал против того, чтобы обзавестись зачатым другим ребенком, и, вооружившись польским словарем и английской грамматикой, предложил моей бабушке выйти за него замуж.
– Я простой бродяга, – сказал он. – Это значит, что мир шутя будет одерживать над нами одну за другой победы, но мы не прекратим борьбу. Ну, как тебе это нравится? – Бабушка не ответила. – Скажи «решено», – умолял он. – Это от глагола «решаться». Другого теперь ничего и не требуется. Но настанет время, и все решится.
Бабушка оценила ситуацию. У нее не было ни одного знакомого, кто бы помог ей присматривать за ребенком, если она пойдет на работу. Но ей вовсе не хотелось, чтобы мальчик рос в бедности и без отца. Она подумала: «Должна ли я во имя ребенка совершить над собой насилие – выйти замуж за человека, которого не люблю?» И ответила себе: «Должна». А затем увидела, какое у него несчастное лицо, и про себя добавила: «Я могла бы совершить что-нибудь и похуже», – тем самым повторив одну из якобы добрых, а на самом деле страшных фраз, которые имеются в любом языке.
Когда они поженились, он был безработным. Переехав в его квартиру, бабушка с огорчением обнаружила пугающий набор игрушек настоящего мачо: ружья, копии пистолетов, модели боевых самолетов, гири, гантели. Муж увлекался бодибилдингом, устраивал себе тренировки кунг-фу, чистил ружья и при этом мило насвистывал. А когда ничего не делал и верх брало чувство неудовлетворенности от потери работы, свистел зло.
Затем он нашел себе дело в тюремной службе Нового Южного Уэльса неподалеку от маленького городка в четырех часах езды от дома. Он не собирался работать в тюрьме – он собирался ее строить.
Поскольку тюрьме предстояло стать самым высоким зданием во всей округе, недобрый журналист из Сиднея окрестил место, куда везли моего маленького отца, самым неподходящим для жизни местом во всем Новом Южном Уэльсе.
Дорога спускалась к городку с холма, и бабушка с дедушкой увидели фундамент тюрьмы. Среди огромных безмолвных деревьев она казалась руиной, и бабушке это показалось нехорошим предзнаменованием. Меня тоже неприятно укололо, что мой дедушка отправился строить тюрьму, а я писал об этом в тюрьме. Поистине прошлое – это неоперабельная раковая опухоль, дающая метастазы в настоящее.
Они поселились в приземистом дощатом домике, и на следующий день бабушка пошла изучать городок, невольно пугая жителей своим видом человека, пережившего многие беды, а ее муж приступил к новой работе. Не уверен, какова была его роль, но следующие несколько месяцев он беспрестанно говорил о запертых дверях, холодных коридорах, размерах камер и зарешеченных окнах. По мере того как строительство продвигалось к завершению, он увлекся всем, что имело отношение к тюрьмам, и даже брал в недавно открывшейся библиотеке книги по их истории и обустройству. А бабушка вкладывала столько же энергии в изучение английского, и это стало началом новой катастрофы. Стало расти ее понимание языка, и она начала понимать мужа.
Его шутки оказались глупыми и расистскими. Более того, некоторые были вовсе не шутками, а историями, которые заканчивались тем, что дед говорил нечто вроде: «И тогда я сказал: о да!» Бабушка поняла, муж постоянно жаловался на свой жребий, а когда не раздражался, был просто банален. Если не нервничал, был откровенно скучен. Прошло еще немного времени, и она заметила: если он что-то хотел произнести, обязательно неприятно кривился, выражение лица становилось безжалостным, рот глупо открывался. И с тех пор между ними все выше вставал новый лингвистический барьер – барьер общения на одном языке.
Отец убрал фотографии с таким видом, будто собрался в путешествие по дороге собственной памяти, но вдруг вспомнил, что это именно то место, куда ему менее всего хотелось попадать.
– Ну вот, – сказал он, – это твои бабушка и дедушка, и о них тебе положено знать, что и они в свое время были молодыми. Не желали превращаться в воплощение угасания и хотели держаться своих идей до последнего дня. Ты должен знать, что кончина – вовсе не то, о чем они мечтали. И еще ты должен знать, что они мертвы и что мертвые видят дурные сны. Им снимся мы.
Он задержал на мне взгляд, ожидая, что я что-нибудь скажу. Теперь я, разумеется, понимаю: все, что он мне говорил, было только вступлением. А тогда мне и в голову не приходило, что после первого искупительного монолога он ждал, чтобы я подвиг его на следующий. Но я показал на качели и попросил толкнуть.
– Знаешь что, – ответил он, – давай-ка я отправлю тебя на ринг еще на один раунд.
Он вернул меня в школу. Наверное, понимал, что там я узнаю другую часть истории и обнаружу еще одну важную составляющую в замесе моей личности.
Прошел месяц, а я еще никак не мог адаптироваться среди одноклассников и решил, что никогда не пойму, почему отец сначала учил меня их презирать, а затем заставил раствориться в их среде.
Я подружился только с одним мальчиком и старался приобрести других товарищей – ведь, чтобы выжить, надо иметь по крайней мере двух, на случай если один заболеет. Однажды я стоял у буфета и ждал, когда два парня кончат спорить из-за черного водяного пистолета.
– Ты будешь копом, – заявил один из них. – А я – Терри Дином.
– Нет, – ответил другой. – Я буду Терри Дином. А копом – ты.
– Я тоже хочу играть, – сказал я. – Давайте Дином буду я. Ведь Дин – это моя фамилия. Я – Джаспер Дин.
Они посмотрели на меня с таким коварным превосходством, на какое способны только восьмилетние.
– Ты его родственник?
– Не думаю.
– Тогда отвали.
Это было обидно.
– Хорошо, я буду копом, – согласился я.
Это их заинтересовало. Ни для кого не секрет, что в играх в полицейских и бандитов главный герой – бандит, полицейские – хлам. И этого хлама чем больше, тем лучше.
Мы играли всю обеденную перемену, а когда прозвенел звонок, я выдал свою абсолютную серость, спросив:
– Кто такой Терри Дин? – Вопрос поверг моих одноклассников в полное замешательство.
– Ничего себе! Ты даже не знаешь, кто такой Терри Дин!
– Самый плохой человек на свете.
– Грабитель банков, – добавил другой, и они разбежались, не попрощавшись, как приятели из ночного клуба, если им повезло на девочек.
Когда я к вечеру явился домой, отец громко постукивал по шкафу бананом.
– Я заморозил банан, – безразлично объяснил он. – На, попробуй… если решишься.
– Скажи, знаменитый грабитель банков Терри Дин мне родственник? – спросил я.
Банан упал на пол, словно кусок цемента.
Отец поджал губы и откуда-то из самой глубины нутра глухо произнес:
– Он твой дядя.
– Кто? Дядя? – не поверил я. – У меня есть дядя? И он знаменитый грабитель банков?
– Был. Он умер. – Отец помолчал и добавил: – Он был моим братом.
Тогда я услышал о нем впервые. Терри Дин, гроза копов, банковский грабитель, гордость нации и герой всех свагменов [2]2
Бродяга (австрал.).
[Закрыть]был мне дядей, а отцу братом. Он отбрасывал на наши с отцом жизни такую длинную тень, что ни мне, ни ему так и не удалось приобрести приличный загар.
Каждый австралиец по крайней мере слышал о Терри Дине. А если не слышал, значит, он не австралиец, ибо хотя Австралия и богата всякого рода событиями, то, что здесь происходит, сенсационно для газетного мира не более чем, скажем, такая тема: «На Новой Гвинее, трижды по ошибке ужалив дерево, погибла пчела». Это не наша вина. Просто мы слишком далеко. Феномен, который один знаменитый австралийский историк назвал «деспотизмом расстояния». Представьте, что где-то в своей квартире умерла одинокая старушка. С нами то же самое. Надо, чтобы все люди на континенте одновременно получили инфаркт, чтобы от засухи обезлюдела пустыня Симпсон, захлебнулись в воде дождевые леса, сровнялся с дном Барьерный риф, – после этого пройдет еще много дней, и только когда наши тихоокеанские соседи почувствуют неприятный запах, они вызовут полицию. Или придется подождать, пока Западное полушарие преисполнится удивления, почему не доходит почта.
Отец не желал разговаривать со мной о брате. Когда я спрашивал его о деталях, он тяжко вздыхал, словно терпел очередное фиаско, и я приступил к собственному расследованию.
Сначала опросил одноклассников. Ответы я получил настолько отличные друг от друга, что их просто нельзя было принимать в расчет. Оставалась скудная подборка семейных фотографий. До этого я их видел лишь мельком – те самые фотографии из стоящей в шкафу в коридоре зеленой обувной коробки. На этот раз я заметил, что три снимка были обкромсаны таким образом, чтобы лишить головы кого-то из запечатленных на них. Нельзя сказать, чтобы операция была выполнена бесшовно: на двух фотографиях я сумел разглядеть шею, а третью вообще разорвали на две части, склеив затем неровными кусками коричневой упаковочной ленты. Я понял: отец пытался вытравить образ брата из памяти. Но тщетность усилий была очевидна. Если потратить столько сил, пытаясь что-то забыть, сама попытка врежется в память. Придется забывать процесс забывания, а это тоже штука запоминающаяся. К счастью, отец не мог расправиться с газетными статьями в местной библиотеке. В них говорилось об эскападах Терри, его преступных художествах, об охоте на него, его поимке и смерти. Я сделал с них ксерокопии, расклеил на стенах спальни и по вечерам воображал: я и есть мой дядя – самый жестокий из злодеев, кому случалось отправлять людей на тот свет и ждать, что произрастет из их погребенных тел.
В погоне за популярностью я донес до всех и каждого в школе сведения о своих родственных связях с героем. За неимением рекламного агента я сделал все сам. Сначала новость произвела впечатление, но это была самая большая ошибка из всех, что я совершил. Первое время на меня смотрели с благоговением. Затем невесть откуда стали появляться ребята всех возрастов, у которых чесались руки меня побить. Одни хотели похвастаться, что отлупили самого племянника Терри Дина. Другие горели желанием стереть с моего лица горделивую улыбку – видимо, возгордившийся, я казался им совсем уж непереносимым. Много раз я выходил сухим из воды, но однажды мои обидчики перехитрили меня, изменив время намечавшейся взбучки: до этого все случалось после занятий, а на этот раз меня встретили до школы, перед утренним кофе. Их было четверо – все здоровяки со свирепыми физиономиями и кулаками на изготовку. У меня не было ни малейшего шанса. Меня загнали в угол. Так я принял свой первый бой.








