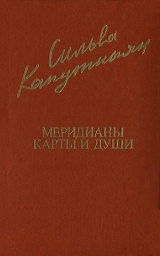
Текст книги "Меридианы карты и души"
Автор книги: Сильва Капутикян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Эта маленькая комната вмещала две грустные истории. У лежавшей в постели женщины то ли от старости, то ли в результате долгой болезни обнаружились психические отклонения. Ее нельзя было оставлять одну. Сын, который уходил на работу, оказался в безвыходном положении. Он обратился в «Контору социальной службы». Оттуда позвонили Птукяну, попросили помочь. Тот нашел сиделку, которая за двадцать пять долларов в неделю согласилась ухаживать за больной…
– Семья этой сиделки еще более несчастна, – говорит мне Птукян. – Они недавно приехали из Стамбула. Муж тоже душевнобольной, зять туберкулезник. Трое внучат. Дочка вертится как белка в колесе. Я обратился в правительство, просил назначить пособие. Обещали. Вот она и спрашивает.
Еще одна семья, в которой мы побывали, материально жила неплохо: трехкомнатная квартира, правда, в полуподвальном этаже, прилично обставленная, четверо ребятишек одеты, обуты, и мать молодая, хорошенькая, только уж больно намалеванная. Приехала Виктория из Бейрута. Муж тоже оттуда. По наущению матери он бросил семью и уехал. Виктория после этого потрясения попала в больницу, четверо ребят остались одни. Дело снова дошло до «Конторы социальной службы», а те опять к Птукяну. Тот уговорил какую-то знакомую армянку на филантропических началах позаботиться о детях, сам тоже часто навещал их. Детишки все маленькие, черноглазые, озорные, самому старшему едва восемь-девять лет; Птукяна они считают уже членом семьи, своим – дергают, взбираются на колени, шалят. И у Виктории настроение получше: муж как будто собирается вернуться.
– Свекровь тоже шелковая стала, хочет дело добром кончить, и ясно, почему, – посмеивается Виктория. – Иммиграционные власти, узнав о его поведении, отказали им в гражданстве, хотя пять лет уже прошло.
Виктория жалуется, что директор армянской школы тянет, не принимает ее старшего мальчика в школу для бесплатного обучения. Я, на этот раз уже по собственной инициативе, обещаю уладить дело.
В той же машине с помятым крылом мы возвращаемся. Я пытаюсь как-то разрядить свою подавленность:
– Господин Птукян, ваш автомобиль – это тоже два лица Монреаля. Одно крыло новое, блестящее, другое– мятое-перемятое…
Птукян смеется.
– Увидели кое-что из «второго лица» канадских армян, а теперь поедем посмотрим канадскую изнанку.
Мы снова оказываемся в пестрой мешанине улиц, домов, мостов, бетона, металла, асфальта. Смотрю на все это и думаю, спорю с собой: «А что, разве в твоей Армении нет людей с несложившейся судьбой, нет нуждающихся, нет бегающих без присмотра детей, нет отцов, бросивших семью?» Есть, конечно, есть. Но сама не знаю, почему дома, сталкиваясь с подобным, хотя и очень огорчалась, но на сердце не ложилась такая гнетущая безысходность. Я нисколько не собираюсь «лакировать действительность», и все же… все же мне сдается, что дома, на своей земле, как бы тяжко ни было тебе сегодня, есть какая-то естественная прочность в надежде на завтра.
7 апреля, Егвард
Жена Керовбе Птукяна канадка, по специальности психолог-социолог. Когда они познакомились, ей захотелось вникнуть в судьбу народа, к которому принадлежит муж, даже пыталась выучить его язык. Но это было в молодости. Потом жизнь потекла по разным руслам. Сейчас у каждого свой мир, и эти разные миры вот уже сколько десятилетий в согласии обитают под одним кровом.
– Мы не мешаем друг другу. Напротив, жена часто помогает мне в моих «армянских делах». Хорошо знает все законы, юриспруденцию. Когда я рассказал ей о вас, она возмутилась: хватит водить ее только на шашлыки, пусть хоть что-нибудь увидит в канадской жизни с черного хода.
Из слов Птукяна мне показалось, что жена его придерживается, как здесь говорят, «левых взглядов».
– Раньше она работала в большой больнице психологом. Случалось, что сутками домой не являлась, проводила ночи с больными, утешала их, внушала, что все обойдется хорошо, но не поладила с врачами, обвинила их в равнодушии, в корысти и ушла оттуда… Теперь ее заработок вдвое меньше, но работу свою она любит…
Сейчас госпожа Птукян работает в «Yorth clinic and centre», что в переводе означает «Молодежная клиника и центр», или, короче, – «Молодежный центр».
В начале семидесятых годов, когда движение хиппи и бунт молодежи против «общества потребления» дошел до крайности, когда среди молодежи усилились наркомания, преступность, всяческая распущенность, тут-то и возникли «Молодежные центры», поощряемые государством и общественными организациями. Эти «центры» соединяют в себе одновременно и клубы, и поликлиники, и консультации по любому вопросу, они вызваны к жизни хаотическим умонастроением века, когда в общем сумбуре, как говорится, «собака хозяина не узнает».
Однако у самого входа в «Молодежный центр», в холле, мы увидели «собаку с хозяином». Огромная лохматая дворняга разлеглась у ног юноши и спокойно взирала на нас. Вздумалось человеку прийти сюда со своей собакой – пожалуйста, приходи, слова тебе поперек никто не скажет. Стены, двери и лестницы двухэтажного дома окрашены невероятно ярко. Не краски, а вопли – зеленые, синие, желтые, красные. Молодежи нравится так? Отлично, пусть будет. Справа слышится смех, крики, грохот… Дверь распахнута настежь, подходим, смотрим. На низеньких скамьях, на подоконниках сидят юноши и девушки, кто полулежит, кто распластался прямо на полу – отдыхают. Те, кто пошустрее, кувыркаются, толкаются, пихают друг друга под общие аплодисменты и возгласы. Кто девушка, кто парень, разобрать трудно, почти все в потертых пропыленных джинсах, все длинноволосые.
Поднимаемся на второй этаж. Здесь персонал «Молодежного центра» – психологи, врачи, воспитатели.
Госпожа Маргарет Птукян – главное лицо «Молодежного центра». Все в ней строго, собрано – волосы, лицо, свитер, короткая суконная юбка, туго натянутые чулки. Эта общая собранность придает уже пожилой женщине молодой облик. На мою просьбу рассказать о «Молодежном центре» она достает толстый альбом-папку, где подклеены все газетные отклики еще со времен основания, с семидесятого года.
На протяжении трех лет в «Молодежном центре» побывало три тысячи шестьсот человек по самому точному подсчету.
– А результат? – спрашиваю я.
Госпожа Маргарет неопределенно улыбается. Она вежлива, благожелательна, но сдержанна. Говорит мало, словно намечает пунктиром то, что хотела бы сказать. Этот пунктир должны расшифровывать мы: господин Птукян – своим переводом, а я – своими предположениями.
Работать надо здесь осторожно, так, чтобы не спугнуть, не показать, что воспитываешь, что хочешь повлиять. Иначе больше не придут. Например, сегодня к госпоже Птукян пришли четыре человека. Один наркоман – пытался бросить курить и не смог. Другая, пятнадцатилетняя девочка, хочет знать, как избегнуть беременности. Третья – тринадцати лет. Родители разошлись, ссорятся из-за дочки, пришла посоветоваться, с кем же ей остаться. Четвертый – постоянный клиент госпожи Маргарет, девятнадцатилетний юноша, гомосексуалист. В этот день явился со своим «возлюбленным», но вообще приходит один и долго беседует. Ему нравится, что есть кто-то, кто выслушивает его, старается понять, не попрекает пороком. Он любит записывать свои сны и записи эти показывает госпоже Маргарет. По окончании университета мечтает стать писателем. «А зачем ждать окончания? Ты уже сейчас пишешь хорошо. Не лучше ли попробовать сейчас?» – советует она как бы походя, незаметно, чтобы не почувствовал, что его хотят направить.
На стене комнаты картины – Иисус, Мартин Лютер Кинг, – произведения, принадлежащие кисти или перу завсегдатаев «Молодежного центра». Принесли, подарили. На двери объявления: «В такой-то день, в такой-то час лекция о йогах», «Обучаю игре на гитаре, обращаться по телефону…» Госпожа Птукян показывает книги, которые молодые люди могут взять почитать. Среди них есть и труды Маркса.
Рядом с госпожой Маргарет юноша, который с любопытством следит за нашей беседой.
– Почему вы приходите сюда? – спрашиваю юношу.
– Публика здесь мне нравится, – отвечает он и добавляет, что хочет так же, как госпожа Птукян, стать психологом.
– А что привлекает вас в ее работе?
– И я хочу научиться любить человека…
Пожимаю на прощанье руку госпоже Маргарет и прошу ее мужа перевести:
– Скажите, что в ответе этого парня я вижу результаты ее трудов. Спасибо за такую благородную преданность идеалу.
Птукян перевел, она едва заметно улыбнулась. Вероятно, это мое восточное славословие выглядело очень пышно в сравнении с ее будничной, напряженной, драматической работой и в особенности с ее сдержанностью.
Мы вышли. Вместо хозяина с собакой в холле сидела другая пара. Они целовались, увидев нас, слава богу, перестали. Подходим к ним. Девушка – студентка, парень не учится, не работает, получает пособие, пока не найдет себе дело.
– Почему вы приходите сюда? – повторяю я свой вопрос.
Ответили так же:
– Здесь нам публика нравится.
Из комнат все еще доносились звуки песен, смех, шум и гомон. Так допоздна. «Молодежный центр» не закрывается и ночью. Дежурный телефон постоянно занят. Звонки по самым неотложным поводам: самоубийство, отравление наркотиками, чрезмерная доза снотворного, приступ безумия…
8 апреля, Егвард
Интересно вам поглядеть на армянских хиппи? – спрашивает Птукян.
– Армянских хиппи? Конечно, интересно.
– Ну что же, тогда поехали…
Впервые я увидела хиппи в Париже в 1968 году. Одна из таких встреч даже обернулась стихотворением. Мы оказались рядом почти на самой верхушке Эйфелевой башни, в решетчатой квадратной клетке размером с комнату.
Они стояли группой, не то девушки, не то парни – неухоженные, с длинными лохмами, в джинсах, давно утерявших свой первоначальный цвет. Особенно запомнилась девушка – очень высокая, крепкотелая, литые бедра ее и грудь, казалось, вот-вот прорвут что есть силы натянутые, изрядно обветшавшие брюки и тельняшку. Мне захотелось вызвать ее на разговор. Выяснила, что она шведка. «А я армянка, из Армении». Не знает, даже понятия не имеет. Посмотрела холодно, пренебрежительно пожала плечами: «Это еще что за планета?» – и отвела в сторону пустые глаза.
Во мне защемило что-то. Стало и обидно, и неловко как-то, и одиноко. И еще тысяча неуловимых оттенков… Однако что за удивительная штука поэзия! Порою ритм, рифма, цезура извлекают из глубин твоих барахтающиеся где-то там, в первоматерии, бесформенные еще мысли, ощущения и возвращают их тебе уже обретшими форму. Так случилось и с этой встречей. Через несколько лет и эта девушка, и многие такие же встречи и ощущения отозвались вдруг стихом:
Париж, волшебный Париж,
Зеркальный мрамор былого…
А на прославленной башне, над множеством крыш,
Я увидела хиппи…
(Какое чуждое слово!)
Средь чуждой толпы – одна.
(Скорее всего – шведка.)
Волос льняная копна
Вразброс по одежде ветхой.
Как будто – все под откос.
Лохмотья куртки прикрыты
Потоком жестких волос…
(И вызов тут, и защита.)
Нищеты подчеркнутый вид —
Вызов роскоши и лицемерно.
(Эту душу куда-то манит,
Но ковчег и причал – безверье.)
А глаза!
Бездорожье глаз!..
Я в них будто в клетке железной,
Будто свет навсегда угас,
И кричать, и звать бесполезно.
Мне б добраться, добраться скорей
До Армении, пасть на колени,
Целовать бы обломки камней.
Помня участь иных поколений,
И глядеть на родные черты,
Прикасаться к священным лохмотьям
Вековечной заветной мечты,
Для которой мы слов не находим.
Лишь бы молвить: беру я, беру
Многотрудный удел мой дочерний!
Песней, сказкой, легендой чаруй,
Мучь дорогами, полными терний;
Чем захочешь зови и мани —
Светом сердца и тяжкою долью;
Простодушием – детство верни
Иль состарь неизбывною болью,
Лишь единства с тобой не лиши,
Не оставь без корней, без причала,
Чтоб опустошенья души
Никогда, никогда я не знала.[10]
Здесь отбойный молоток поэзии выдал на-гора ту руду, ту первооснову человеческой души, ее приверженность своей земле и ее устоям, – словом, все то, что защитной стеной встанет против налетевшего невесть откуда суховея, грозящего опустошить эту душу и опустошенную пустить гулять по свету…
…У него черные, как агат, усы и борода, черная, как агат, густая, длинная коса падает на сутуловатую спину.
В этой сплошной черноте блестят глаза, большие, влажные, словно ночная гладь воды. В других случаях я бы написала: «Печальные глаза армянина», но сейчас?..
Он с трудом подыскивает армянские слова, речь его получается отрывистой, упрощенной. А когда хочет сказать о чем-то посерьезнее, прибегает к английскому, просит Птукяна перевести. Всего десять – двенадцать лет, как переселились сюда из Египта. Родители – ревностные хранители всего армянского, постоянные участники всех мероприятий в общине.
– Моя мать читала мне ваши стихи…
– Какие? «Армянской речи не забудь…»?
– Да, кажется, это…
Ничто не помогло – ни ревностные родители, ни старания общины, ни «армянской речи не забудь». Оторвался от берегов и поплыл по течению…
Гаспар учился раньше в университете, на филологическом факультете. Но вот в кровь попала бацилла, носящаяся в воздухе. Бросил учиться и открыл магазин. С первого взгляда кажется – расстался с духовным и погнался за материальным, – но произошло иное. Учение, образование, согласно Гаспару, отделяет человека от собственного естества, втискивает в рамки, нацеливает на беготню за карьерой. Человек должен быть свободен от всякого напряжения, от внешних влияний, от подсказок. Магазин? Всего лишь возможность обрести материальную независимость от родителей, от кого бы то ни было и, следовательно, обрести независимость духовную.
Магазин Гаспара в центре города. Вытянутый в длину, он забит «под завязку» мешаниной мелких-премелких, странных товаров. Репродукции картин от Леонардо да Винчи до Пикассо, пластинки классической и современной музыки, причудливые сувениры, статуэтки, керамика, табак, жевательная резинка и, больше всего, привезенные из Индии и Ирана благовония – ладан, розовое масло, тоненькие свечки-палочки, пропитанные всевозможными ароматическими веществами. Когда они зажигаются, воздух полон дурманящих запахов.
– Это магазин хиппи, – объясняет Птукян, – все, что им необходимо, можно найти здесь.
В магазине все время юноши, девушки. Молча стоят у пластинок и картин, разглядывают сувениры, свечи и, сделав маленькую покупку, выходят.
Тесно. Гаспар уступает свою расшатанную табуретку мне, и мы продолжаем беседу. Он охотно отвечает на вопросы. По-видимому, удивлен и даже польщен, что приезжая с таким незлобивым любопытством хочет понять его, а не высокомерно, как, наверное, бывает обычно, воротит от него нос.
– Нужно помочь человеку, – переводит слова Гаспара господин Птукян, – освободиться от власти материального, от его нейлоновых уз. Хиппи хотели дать пример этому, однако сейчас их движение видоизменяется, расчленяется. Многие с возрастом сдаются, становятся «материалистами», не могут устоять перед соблазном благополучия и комфорта. Иные кидаются в религию – буддизм, индуизм, увлекаются йогами…
– Ты женат, Гаспар?
– Разошелся… Да, она была канадкой… Вначале думала, как и я. Жили в маленькой комнатке. Потом она изменилась, захотела стать богатой… Что же! Валяй, становись богатой!
Входит тоненькая девушка в платье до каблуков, с золотистыми волосами. Гаспар идет ей навстречу, они целуются. С девушкой пришел смуглый юноша с пышными бакенбардами, но без усов и бороды. На нем длинное, в талию пальто. Это брат Гаспара, учится на историческом факультете в университете. Ему едва восемнадцать-девятнадцать, но живет тоже отдельно от родителей.
– Вы разделяете взгляды брата? – интересуюсь я.
– Частично, – улыбается юноша.
Девушка скромно стоит в сторонке.
– А это кто? – обращаюсь я к Гаспару.
– Это Николь, познакомьтесь, пожалуйста. Она тоже студентка, обучается психологии…
Даже не обучаясь психологии, можно догадаться, что хорошенькая Николь, канадская француженка, поспешила заполнить вакуум после решившей «стать богатой» жены Гаспара.
– Ты любишь Николь? – спрашиваю я по-армянски.
Гаспар вопросительно смотрит на Птукяна. Видимо, восточноармянское спряжение сделало слово «любить» совершенно непонятным. Я повторяю.
Птукян на этот раз переводит с армянского на армянский и переделывает на современный лад:
– Она спрашивает, ты спишь с ней…
– Нет, нет, совсем не об этом, – спешу уточнить я – все и без того ясно… – Нравится тебе Николь? Влюблен в нее?
– Да, да, нравится, – с трудом догадывается Гаспар, – хорошая девушка, уже три-четыре месяца знакомы…
– Ничего не скажешь, для хиппи это очень длинный срок!
– Я не хиппи, я просто человек, который хочет быть самим собою… Хиппи – те забираются куда-нибудь подальше от городов, живут коллективно.
– Почему косу отпустил себе?
– Так красивее.
– Неужели?
– Николь так считает.
– О, если так считает Николь, я пасую. Тут первое слово за ней…
Гаспар смеется, в черноте бороды с трудом прорезается белая щелка зубов. Смеется, но во всем его облике проскальзывает что-то жалковатое, беспомощное. Мыслит занятно, в чем-то даже возвышенно, непринужденно и где-то верно. А вот, несмотря на высоченный рост, крепкое сложение, кажется мне ребенком, большим ребенком.
– Кем ты себя чувствуешь, Гаспар?.. Чувствуешь, что армянин?
– Конечно, что-то чувствую, однако… Национальность– это неважно, важно быть человеком, любить человека… Эта любовь поможет нам достичь бога…
– А о Нарекаци ты слышал?
– Нет. Кто это?
– Поэт, жил в десятом веке… Он тоже стремился достичь бога, о котором ты говоришь.
– Армянин?
– Армянин. Если бы ты прочел его, Гаспар, полюбил бы. Он велик, очень велик, как Данте и Шекспир. В последнее время, когда его перевели на русский, французский, все читавшие просто поражены были.
– Да? – засветилось на миг лицо Гаспара. Вероятно, сказанное им «что-то чувствую» высекло вдруг искру.
Однако под какими же толщенными пластами таится это «что-то чувствую»! Как случилось, что для ищущей этой души не стала защитной броней та самая первооснова, ничего в ней не взрастила мучительная одухотворенность нашего народа, его история, его судьба, его боль, радости, надежды – все то, что до краев может наполнить тысячи ищущих сердец?
– Как проводишь время, Гаспар?
– Бываю здесь, в магазине, хожу к товарищам, фильмы смотрю. На будущей неделе должен пойти «Сатирикон» Феллини…
От минуты к минуте протягиваются какие-то нити между мной и этим странноватым, но чем-то привлекающим к себе юношей. Вот еще одна ниточка – Феллини… Стало быть, и он неравнодушен к тому новому, что врывается в этот порядком одряхлевший мир, и он сопричастен подлинному искусству.
Обычно на прощанье я оставляла своим новым знакомым какую-нибудь памятку – ереванскую открытку, значки с Араратом, с крунком, с Ани, с армянскими буковками. Несколько раз опускаю руку в сумку, но снова отказываюсь от этой мысли, боюсь… Боюсь, что не поймет, усмехнется, примет просто как кусочек металла… Но ведь дарила же я это в других случаях людям, порой совсем незнакомым, а тут… Тут я боюсь, что, если Гаспар останется безучастным, порвутся с трудом свитые нити между мною и этим странноватым юношей с печальными глазами армянина.
Расставаясь, Гаспар хочет что-нибудь подарить мне из. заморского ассортимента своего магазинчика. Торопливо откладывает коробочки с благовониями, пузырьки с духами. Я отказываюсь: мол, еду не в гостиницу, не могу ничего брать с собой.
– Тогда я пришлю вам в отель.
– А что мне прислать тебе, Гаспар? Хочешь альбом?
– Альбомов у меня много, я хочу книгу на армянском, если можно.
– На армянском! – Кажется, между нами сразу же протянулось целое полотнище, сотканное из тончайших нитей. – Приезжай в Армению, Гаспар, ты полюбишь ее.
– Да? – удивился так, словно бы ему предложили взлететь в космос. – А можно?
– Почему же нет? Подкопи деньжат, свяжись с туристским бюро и приезжай… Знаешь, сколько иностранцев бывает у нас, как все им там интересно.
– Да? – В лице снова мелькнула искра «что-то чувствую». Но все же Гаспар не обещает. И впрямь, кто же это вот так, сразу, решится лететь на Луну?..
Я еще несколько раз видела Гаспара. Один раз в кинотеатре «Фестиваль фестивалей», когда шел тот самый «Сатирикон». Огромный зал был набит молодежью. После фильма среди множества светлых и каштановых усов и бород мелькнула смоляная борода Гаспара, его высокая сутуловатая фигура. Хотела окликнуть, но он стоял далеко, в противоположном конце зала. Следующая встреча была в совершенно неожиданном месте – в монреальской церкви Григора Лусаворича, на вечере, посвященном восьмисотлетию поэта Нерсеса Шнорали. Гаспар пробрался через толпу ко мне и познакомил с матерью.
– Славный он парень, ваш Гаспар, добрая душа у него, – сказала я.
Мать с мягкими глазами, едва за сорок, грустно улыбнулась.
– Не все это понимают, – А потом, совсем уже размягчившись, добавила: – Уже много лет Гаспар не ходил ни на какие наши вечера. А сегодня вдруг…
Как-то вечером, войдя к себе в номер, почувствовала в комнате густой сладковатый запах. Вижу – на столе огромная коробка. Отправитель – Гаспар. Раскрыла. Оттуда, как брызги, разлетелись, обдали меня запахи, сладко-горькие, острые. Словно филиал магазина Гаспара, строем стояли флаконы и коробочки с индийскими и персидскими этикетками. Я была тронута: большой ребенок щедро поделился со мной своими игрушками.
Дня через два я должна была уехать в Америку. Моей книги «Караваны» едва ли осталось у меня три-четыре экземпляра. Один я послала Гаспару. Знала, что не прочтет, не сумеет прочесть, но послала. На книге написала: «Дорогому Гаспару с надеждой в один из дней встретиться в Армении…»
Приехал, посмотрел бы Гаспар Армению. Тут же, в аэропорту, навстречу ему из густой синевы, как из тумана в первый день творения, поднимет голову Арарат и, кивнув юноше, скажет: «Ты вернулся, сын мой?» Встретят его наши ребята – мой сын Араик, его друг, художник Сиравян, мой племянник Гевик, втиснутся в их «хиппиобразные», неприбранные «Жигули» и помчат прямо в Эчмиадзин: «Много слышал, наверное, о нем, взгляни!» Потом привезут Гаспара в Ереван и по дороге, перебивая друг друга, станут объяснять: «Это наш трест «Арарат», это наша площадь Ленина, это наша консерватория, а это наш Матенадаран, гляди вовсю». В Матена-даране парни притихнут, и один из тамошних ученых – Шаварш, поседевший еще совсем молодым, с юношеским пылом расскажет о перебиравшихся из монастыря в монастырь, из века в век пергаментах, и Гаспар изумленновосхищенно прошепчет: «Да!..» А потом парни погонят свои «Жигули» к Гарни-Гегарду. «Это наш дворец молодежи, это арка Чаренца, а это новонасаженные сады», – скажут ребята и продолжат свой зигзагообразный путь, пока перед ними не распахнутся, словно небесные врата, створы ущелья Гегард, открыв каменное чудо Армении.
Дай, боже, силу мне, изнеможенному,
Дай духом мне воспрянуть, обделенному.
…Не дай мне лишь стонать, а слез не лить.
В мучениях рожать и не родить,
Выть тучею, а влагой не пролиться,
Не достигать, хоть и всегда стремиться,
За помощью к бездушным приходить,
Рыдать без утешенья, без ответа.
Не дай мне у неслышащих просить.
Не дай, господь, мне жертву приносить
И знать, что неугодна эта жертва…[11]
Так прошепчет Сиравян эти строки Григора Нарека-ци, и высеченные в скалах купола Гегарда, перекликаясь друг с другом, отнесут его голос и взволнованное дыхание парней, присоединят к прошлым и будущим векам, и в это мгновение почудится, что и прошедшие, и будущие века вот здесь, совсем рядышком. И тогда под этим каменным сводом, в пещерной глубине, небо покажется ближе, чем на самой высокой горной вершине мира…
А потом наступит миг, когда никто не проронит ни слова, ни Араик, ни Гевик, ни Сиравян, и Гаспар тоже не шепнет свое изумленно-восхищенное: «Да!» Все смолкнут. Будет говорить день и ночь алеющее, как кровь, вечное пламя, будут говорить склонившиеся в скорби серые гранитные плиты, будет говорить тишина… И только из раскинувшейся внизу армянской столицы долетит и смешается с быстрым биением молодых сердец ее ровный и юный гул…
«Это наш Киевский мост». «Это наша академия». «Это наш стадион «Раздан», – опять станут перебивать друг друга парни на обратном пути, а Гевик-астроном предложит: «Ребята, поехали в Бюракан…» По дороге он расскажет о своей диссертации, Араик пожалуется, что литейщики опять задерживают его скульптуру Паруйр? Севака, Сиравян, излучая довольство, похвалится: «Какие детишки у меня – мечта! И жена – прямо мадонна, но во вкусе Рубенса. Гаспар, а тебя когда мы оженим?..»
И пока доберутся они до Бюракана, опустятся уже сумерки. На склонах Арагаца, отражая последние лучи солнца, сверкнут, как шлемы богатырей, башни обсерватории. А когда подойдут к новой, из белого камня и стекла, башне, Гевик объяснит, что здесь самый большой телескоп в Европе и что Виктор Амбарцумян один из крупнейших астрофизиков мира. Гаспар снова изумленно-восхищенно прошепчет: «Да?!»
А затем наступит вечер, на небе зазвенят звезды, и Сиравян покажет: «Гаспар, смотри, это гора Арагац, на ее вершине, между землей и небом, светится лампада Григора Лусаворича-Просветителя. Она видна только тем, кто умеет видеть, чья душа хочет увидеть… Я вижу эту лампаду, Араик, Гевик – мы все видим ее, а ты, Гаспар?..» И Гаспар с облегчением путника, долго плутавшего по дорогам и дошедшего наконец до места, скадает на этот раз не изумленно-восхищенно, а твердо: «Да!»
Приехал, посмотрел бы Гаспар Армению!..
9 апреля, Егвард
Молодежь уже давно стала одной из наиболее серьезных проблем Запада. С быстротой, соответствующей лихорадочным скоростям двадцатого века, меняются взгляды и образ жизни молодежи, отвергается принятое год назад, принимается новое. «Сердитых молодых людей» сменяют хиппи, потом и это движение сходит на нет, то и дело дают о себе знать буддисты или там индуисты, последователи учения Рамакришна, йоги. Многие ударяются в мистику, возникают экстремистские, неофашистские группки, наркомания считается уже не пороком, а некоей формой «протеста», становится философией: «Если невозможно изменить действительный мир, то я в своем мозгу создам свой мир, туманный, бредовый, но зато мой и действительно свободный». Все сильнее и сильнее культ жестокости, а где-то рядом, еле шевеля распятыми руками, Христос вновь и вновь призывает своих заблудших сынов к добру, любви и терпимости…
Из всего этого калейдоскопа разнобойной молодежи я, конечно, смогла увидеть очень немногое. Вечерами, когда приходилось проходить мимо городской ратуши в Монреале, я оказывалась, если можно так сказать, буквально в джинсовых джунглях. Только по бороде и можно было догадаться, что на свете еще не перевелись Адамы…
Однажды мне захотелось поглядеть на них поближе, хоть на несколько минут заглянуть в один из баров, возле которых обычно кишели хиппи. Длинная очередь стояла на улице. Господин Кестекян, лысоватый, с брюшком, взялся провести меня в бар. Помимо желания надо было еще обладать ловкостью и суметь протолкнуть меня туда «зайцем», без очереди. Один из бородачей наблюдал за порядком. Просьба моего спутника впустить нас, объяснение, что я приезжая издалека, не возымели никакого действия. И так было не только в этом баре, но и в других. Критически оглядывали нас, стариков, и объясняли: исключительно в порядке очереди. Не хватало мне еще здесь стоять в очереди!
Двери в бар распахнуты, и оттуда, из полутьмы, как из кратера вулкана, низвергались тяжелые дымные клубы воздуха, пропитанные дыханием многолюдья, алкоголем, табаком, выталкивались на улицу грохот джаза, крики и топот. Чуть пройдешь дальше и остановишься у дверей, которые притягивают своей тишиной. И можно не без оснований предположить, что за этой завесой тишины странный, потусторонний мир, созданный героином и марихуаной. А днем в густой человеческой толпе, глядишь, вдруг мелькнет странная физиономия: пожелтевшее, костлявое лицо, голова вся обрита, и только с макушки свисает, как хвост, грязноватая прядь, сам в бесформенной хламиде из серого холста. Это из какой-то индуистской секты. Под медленный аккомпанемент бубна поет что-то, и не разберешь, чего ему надо – то ли денег собрать с прохожих, то ли просто так полагается по их правилам.
С культом жестокости я лично, к счастью, не столкнулась. Ее наивысшим проявлением для меня остался фильм «Механический апельсин», который я видела в Хельсинки и который шел тогда в Монреале, в кинотеатре «Фестиваль фестивалей». Четверо молодых людей, – из них один, притом главный герой, любит Бетховена – черпают импульсы для своей жизни в философии жестокости и реализуют ее методично, с виртуозностью и упоением. Пафос фильма в том, что эра космических кораблей, «механизированное время», рождает бесчеловечность, разрушает вековые этические нормы, цивилизацию, и даже искусство, даже Бетховен не спасает, а наоборот, служит разрушению и безысходности… Не без умысла режиссер одел этих молодых людей в странные, напоминающие одежду космонавтов костюмы и скафандроподобные шляпы…
А вот совершенно новое направление мысли.
В Вашингтоне с певцом Тиграном Жамкочяиом и его братом, художником Левоном, мы бродили по городу. Перед зданием американского конгресса, на ведущих к входу ступенях, стояла группа молодых людей, человек двадцать – двадцать пять.
Все в них обыкновенно, скромно, девушки без следа косметики. На груди у всех прикреплены наискосок ленты с их именами и фамилиями. Они стояли на ступенях рядами, как хор, и пели. В руках держали плакат, на котором крупными буквами значится: «Прощать, любить, объединяться». Эти три слова – девиз нововозникшего учения, основатель которого кореец Сун Нью Мун. «В борьбе ненавидящих нет победителей, нам остается любить друг друга», – так вещает корейский проповедник, который стремится распространить свое учение повсюду и на всех. Эти юнцы – последователи нового учения, именуемого «Всемирная объединенная церковь». Среди них были приехавшие из самых разных частей света – Италии, Франции, из разных штатов Америки. Мои спутники разговорились с ними. Выяснилось, что боголюбивый Сун Нью Мун по случаю «уотергейтского кризиса» объявил всенациональный сорокадневный молебен, на сей раз под девизом простить и возлюбить Никсона. Так вот молодые люди и взялись за это. Пели, улыбались и с готовностью отвечали на вопросы. Увидев мою горячую заинтересованность, уверенные в том, что я уже включилась в движение Сун Нью Муна, сунули мне какое-то воззвание, – дескать, подпишитесь. Мой отказ был неожидан. Парни недоумевали: как согласовать проявленный миссис интерес и категорическое нежелание поставить подпись?








