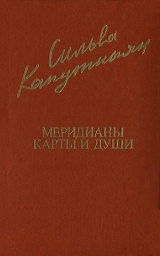
Текст книги "Меридианы карты и души"
Автор книги: Сильва Капутикян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
– Если бы мог, озеленил бы все эти голые горы, – старик смотрит вдаль, – жалко, опоздал я… Однако во дворе обсерватории посадил восемьдесят пять деревьев – в память восьмидесяти пяти погибших из нашего рода в те страшные годы.
– Посадил деревья – это еще ничего, – озабоченно говорит невестка, – всю нашу ереванскую квартиру сам отремонтировал – покрасил стены, окна…
– Тут молодые люди с ленцой, – сетует старик. – Есть и такие родители, что стучатся в тысячи дверей, мечтая освободить сыновей от военной службы. В свое время в Харберде тамошние власти не брали армян в солдаты, чтобы те не научились воевать. Но что это за народ, спрашивается, если не умеет держать в руках оружие, защищать себя?
Начиная с этой бюраканской встречи, мы стали друзьями. Вот и сегодня Вагэ и Лилиана наши дорогие гости и сотрапезники. Лилиана уже заведует отделением. Когда в коридоре появляется ее грузная фигура, сестры и санитарки мечутся в смятении – как бы строгий Лилианин глаз не заметил какого-нибудь огреха. За эти годы она полностью «армянизировалась». Любит наших поэтов, бывает, соберет врачей, читает им наизусть стихи и как следует стыдит тех, кто не знает поэзии.
– Что за несуразный концерт был на пятидесятилетии Паруйра Севака, – еще не садясь за стол, сетует Лилиана, – почти не читали ничего из «Несмолкающей колокольни», стыдно прямо…
Мама моя заводит речь об Армене и Ара, которые после окончания университета должны работать вместе с отцом там же, в Бюракане, образуя свою, осканяновскую «астродинастию».
– Почему не привели детей?
– Какие дети?! Армен уже в армии, в Прибалтике. Окончил физический факультет и пошел, – отвечает Вагэ.
– В армию? – удивляюсь я и хочу сказать: «Ведь собирался в аспирантуру», но замолкаю, вспомнив слога деда.
Уловив сомнение в моем голосе, Вагэ объясняет с чуть заметным вызовом:
– Выполнит свой долг и вернется, аспирантура никуда от него не денется. Ну, рассказывай, как там Америка.
– Да, да, расскажите! – закричали гости.
– Какие она у вас вызвала эмоции? – спрашивает одна из дам.
– А нет ли армянского слова, соответствующего «эмоции»? – тут же одергивает ее Вагэ, в своей постоянной роли хранителя чистоты языка.
– Есть, почему же? Но в этот момент…
– Не в этот момент, а в эту минуту…
Гостья окончательно сражена, а Вагэ продолжает:
– В Америке и я бывал – не то, не то… Особенно Фресно. Как ты выдержала среди этих армян четыре месяца?
– Что означает среди «этих»? Ты ведь, кажется, тоже из «этих».
– Если бы я был из них, не приехал бы сюда… Я признаю одно – армянин должен жить в Армении, слово и дело человека должны быть едины… А их слезоточивая тоска по Армении – пустая трепотня.
– Ты не прав, Вагэ. Есть тысячи обстоятельств… Нельзя так категорично: оторвал и бросил.
– А я так считаю. Мы таковы! – отрубил Вагэ.
Проводив гостей, продолжаю думать о словах Вагэ, о его семье. Отец, сын, невестка, внуки – будто отлиты все из одного сплава. «Мы таковы…» Да, таковы и такими рождены, наверное. Жизнь то и дело сталкивает человека со всяческими сложностями, кидает в такой водоворот, что трудно бывает выплыть, сохранить равновесие, не сдаться, не измельчать, не изменить себе. Особенно когда меняется привычный уклад, когда надо войти в новое русло и поплыть по нему. Не думаю, что жизнь расстилалась перед Вагэ ковровой дорожкой. Не уверена, что после приезда из Белграда так уж все было по нему.
«Нам говорили, что мы безумцы, что просто помешаны на Армении…» Я много встречала таких «помешанных» и за границей, и уже здесь, у нас. Нередко именно они, эти «безумцы», при первом же несоответствии розовым представлениям, почерпнутым из «далекого далека», быстро опускают руки, а экзальтация, претерпев некие испытания, тут же переходит в свою противоположность. Иное «безумство» у Вагэ и его семьи. Зеленые веточки мечты пошли в рост от крепких корней, против них бессильны и град, и порывы ветра, они не сломают их. Значит, дереву нужен прочный грунт. Земная, реальная почва.
«Мы таковы…» А что же делать другим, если они не «таковы», если их воли и душевных сил хватает только на то, чтобы прожить свою простую, обыкновенную человеческую жизнь? Если волны, каждая с океан, метнули их на совершенно другое судно и совершенно другой компас привел их к другим берегам? Что делать с ними. Поставить на них крест? Нет, Вагэ, нет, тут ты неправ. Мы должны трезво взглянуть в глаза правде. И если караваны еще в пути, если далеко еще от родной земли, надо сделать все, чтобы не затерялись они где-то в чужих песках, чтобы всюду, куда ни держали путь, расстилалось над ними розовое зарево Еревана, нерукотворная кровля Армении.
11 марта, Егвард
С детства он ревел, грохотал в Ереване, в моей маленькой комнатке на улице Амиряна, уносил с собой на своих бурлящих, пенящихся крыльях, и назывался он – водопад Ниагара. Помню, когда я только-только начала рифмовать, еще не войдя в воду, искала броду, то есть подбирала себе псевдоним, какие только заморские имена я не заносила в свою синюю школьную тетрадку: Сьерра-Невада, Сьерра-Мадре, Амазонка и даже Ниагара. И хотя после всех рьяных поисков имя и фамилия мои остались такими, какими и были, Ниагара всю жизнь сопутствовала мне. В особенности когда ее далекий чужеземный облик так опоэтизировал в своем прекрасном стихотворении Ованес Шираз:
Ниагара! Ты рвешься к желанной свободе.
Воплощение гнева в бессмертной природе[5].
И вот я стою перед этой лавиной воды. Воистину прекрасно, но не то, что я представляла. Вместо дикого, ухабистого, вздыбившегося в вышину, как из кратера вулкана, а затем низвергнувшегося вниз стремительного потока – передо мной кажущееся не таким уж высоким гладкое полукружье скатывающейся вниз воды. Я смотрю на него не снизу вверх, как, мне казалось, это должно быть, а сверху вниз, словно с галерки. Но это только первые минуты свидания, когда реальность и воображение противостоят друг другу.
Очень скоро моя Ниагара уступает место Ниагаре, принадлежащей миру, и на фотопленке моих глаз фиксируется новая, которую вокруг называют Ниагара-Фолс – водопад Ниагара. Эта новая небольшим островком разделена на две части – американскую и канадскую. Американская – напротив меня, падает отвесно с ровного, словно отсеченного края, свешивается многометровым белым полотном. А канадская – справа. Почти с геометрической точностью очерченный гигантским циркулем полукруг, с которого шестиметровой толщей медленно, величаво обрушивается многоэтажная пучина воды, обрушивается в бездну с такой силой, что внизу от этой мощи падения поднимается белая пена, клокочет и заполняет весь гигантский котел. Из громокипящей низины до нас, стоящих высоко над нею за ажурной металлической изгородью, долетают холодные брызги, будто святой водой кропит Ниагара пришедших взглянуть на ее чудо паломников двадцатого века.
А паломники и впрямь ультрасовременные. Выскакивают, как из аквариума, из длиннющих, почти сплошь застекленных автобусов, из тысячецветных легковушек всех фирм мира и спешат к отелям и ресторанам, а то и прямо к водопаду.
Подобно водам Ниагары, чист и сверкающ и сам город Ниагара-Фолс. Каждый метр земли ухожен и приглажен, словно после косметической маски. На берегу реки, давшей имя водопаду, возвышаются две башни, две разновидности бетонных колонн, завершенных какими-то сооружениями, похожими на шляпки грибов. «Гриб» имеет несколько этажей, внутри гостиница, ресторан, кафе, зрительные залы. С каждого этажа открывается вид на оба водопада, будто с самолета.
Мой номер в гостинице «Шератон» был на десятом этаже, и балкон его, как наблюдательная точка, нацелен прямо на это чудо мира. Но конечный мой пункт в тот день не Ниагара. Я не знала раньше, что в десяти – пятнадцати километрах отсюда в маленьком городке Сен-Катрин живут впервые ступившие на землю Канады армяне, которые еще в начале века покинули свой малоземельный, полуголодный край Гехн и приехали на заработки на металлургические заводы города Гамильтон. Не знала, что в 1912 году в этом Сен-Катрине они построили первую в Канаде армянскую церковь, которая стоит и поныне и относится к Эчмиадзинской епархии.
Сегодняшний вечер состоялся в притворе старой церкви. Пришли армяне из американской половины Ни-агара-Фолса, из близлежащих Гамильтона и Колда, и людей было битком набито. Вечер вел председатель приходского совета, человек лет пятидесяти. Улыбается гостеприимно, произносит несколько приветственных слов. Глаза и брови, улыбка, имя и фамилия – Карапет Саркисян – настолько обыденны и знакомы, что просто невозможно представить, что, кроме этих нескольких слов, все остальные слова из многотомного армянского словаря для него не существуют. (Это было в начале моего путешествия, а потом, особенно в Америке, я уже к этому привыкла…) Дочь председателя, совсем еще девочка, крупная, черноглазая, как и отец, в начале вечера преподносит букет роз и торжественно начинает: «Дорогая наша гостья…» Увы, едва начав, девочка останавливается, виновато смотрит на отца и, отчаявшись, переходит на английский.
– Забыла, – еще больше, чем дочь, сокрушается отец. – Целую неделю моя мать учила-учила… И вот забыла…
Рядом со мной сидит вардапет – глава сен-катринской церкви. Он объясняет, что здесь со своими «ребятами» Вазган – местный лидер дашнаков. Еще дня два назад эти «ребята» говорили вардапету: «Знаем, приехавшая из Армении будет бросать в нас камни, однако мы придем…» И вот они пришли, хотя обычно сюда не ходят.
В конце слово предоставляется мне. Я не «бросаю камни». Я просто рассказываю, как народ Советской Армении, укладывая камень на камень, воздвигает свой отчий дом, двери которого распахнуты перед всеми его сынами, входящими с открытым сердцем. Рассказываю о Ереване и приютившихся под его сенью новых поселках– Нор-Гехи, Нор-Зейтун, Нор-Аджн, Нор-Арабкир, Нор-Себастия, Нор-Малатия, Нор-Харберт, Нор-Ерзынк, – носящих имена древних армянских городов. Рассказываю, что ежегодно 15 сентября уже тридцать лет как репатриировавшиеся в Армению мусадагцы отмечают очередную годовщину своей героической обороны в 1915 году, когда, не желая подчиниться приказу властей о переселении, шесть тысяч жителей армянских сел поднялись на гору Мусалер (Мусадаг) и сорок дней оборонялись от турецких войск. Спаслись они при помощи французского корабля, появившегося у берегов Средиземного моря. Рассказываю, как и этой осенью они отметили свою дату в новом поселке Муса-Лер, названном так в честь знаменитой горы. Собралось несколько тысяч человек, и казалось, по всей Араратской долине гремит их традиционная зурна и бубен – дап, земля сотрясается от круговых плясок, а чуть подальше в восьмидесяти пяти громадных котлах булькает янтарная ариса[6], которая вскормила и дала силу Давиду из Сасуна и бросила его в бой против Мсера-Мелика…
Слова мои адресованы простым людям, сидящим в зале, большей частью старикам, которые хотя и давно уже здесь, но в этой канадской дали сохранили свою безыскусственность, свою крестьянскую тоску по родной земле, камню, дереву.
В конце вечера они подходят ко мне, пожимают руку, обнимают, некоторые умиленно рассказывают о том, что побывали в Армении, в Нор-Гехи, в своем поселке, и, если бог даст, обязательно приедут еще.
Ах, эти старики! Они всюду еще будут встречаться мне, на всей шири Канады и Америки. Будут сидеть в залах, как прикованные к скамьям, и, словно бьющую из кислородной подушки струю, вдыхать воздух Армении, ее речь. И повсюду, в дневном одиночестве и в стариковские бессонные ночи, они снова и снова вспомнят ту свою неказистую хижину и сад своего деда, из поношенного рукава которого высовывались узловатые, подобно сухой виноградной лозе, добрые руки.
Эти старики! Они пришли сюда, на эти чужие берега, еще молодыми, жилистыми. В стальных зубьях Гамильтона, на плантациях Канады, на автомобильных заводах Форда состарились, ссохлись. Все надеялись: вот вырастут дети, выучатся, выйдут в люди, и никто больше не швырнет им в лицо презрительную кличку «старвинг арминиен» – «голодный армянин».
Выросли дети, выучились в школах и колледжах и год за годом, класс за классом отходили от отцов. Отцы комьями земли стелились под ногами детей и внуков, стремясь напитать их теплом и влагой родины, дать возможность прорасти родным корням. Но иссохшими были уже эти корни, скудными их влага и тепло. И сыновья переступили через эти выветрившиеся комья и пошли шагать по просторам, по жирному чернозему.
Они встречались мне повсюду, эти старики, и везде – в домах ли для престарелых или в полных достатка особняках, покинутые детьми или окруженные заботой сыновей и невесток – все равно они были одиноки. Бегущий из века в век горный ручеек обмелел и вот-вот должен был совсем уйти в песок. А где-то рядом уже взял свое начало другой ручей, звенящий на другом языке, о других берегах…
12 марта, Егвард
«Дорогая большая тото! Тетя! Мы очень соскучились по вас. В этом году у нас Сильва Капутикян, приезжайте, я вам покажу, если не можете приехать, напишите письмо, что не можете приехать. Если приедете, я вам покажу Сарухана тоже. Знаете, Шагик Агаронян то левой, то правой рукой играет на аккордеоне. Тетя, мы очень соскучились по вас. Моя любимая тетя».
Ровно десять лет назад, когда я писала «Караваны» и приводила там это письмецо сынишки редактора бейрутской газеты «Зартонк» Шагика Агароняна, мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь я встречусь с той самой «большой тото» здесь, в Сен-Катрине, и она, тикин Алексанян, положит передо мной мои «Караваны», откроет 498-ю страницу, попросит расписаться на полях возле этих строк.
Для армянина земной шар, оказывается, уменьшился. Летят письма и посылки через поля и горы, моря и океаны, в письмах семейные фотографии, заснятый уголок нового дома или двора, ребенок в коляске; в посылках детские игрушки, подвенечное платье невесте, орехи в виноградном соке – суджух, алани – сушеные персики с начинкой из орехов, чеканки, сувенирные коньяки… Протянутые от полушария к полушарию телефонные провода – как бы протянутые со двора во двор веревки; на одном конце провода озабоченная бабушка кричит: «Не позволяй там Арпинэ выходить на улицу – простудится», а с другого конца дочь отвечает: «Не беспокойся, я надела ей шерстяной жакет…»
Да, для армянина земной шар несказанно уменьшился или, напротив, расширилось местожительство армянина: вместо одного отечества – десятки вторых отечеств, вместо пяти-шести связанных между собой областей – пять частей света, вместо двух, Восточной и Западной, Армений – два, восточное и западное, полушария. И в результате вместо семьи, рода, живущих на одной земле, раскинутые по всему свету родственники – сестры, братья, сыновья, племянники.
«Большая тото, мы очень соскучились по вас». Большая тото высокого роста, у нее круглое бледное лицо с седым венчиком гладких волос. За ней утвердилась слава человека строгих правил. Я почувствовала это сразу, когда на пороге ее дома, куда мы пришли после вечера, появились родственницы тото – сестры Нвард и Сиран, щебечущие по-английски.
– Здесь говорят только по-армянски, – резко прервала она. И затем весь вечер в доме действительно звучал только армянский.
Рядом со мной сидит дочь тикин Алексанян – Анаит, пианистка. Она рассказывает, что на будущий год собирается в Ереван, в консерваторию, продолжать музыкальное образование. Нвард и Сиран приехали сюда из ближайшего города Колд, где живут их родители. Работают же девушки в Нью-Йорке. Сиран служит в Организации Объединенных Наций. Веселая, разговорчивая девушка. Сегодня они здесь со всей родней – отец, мать, сестра отца. Приехали специально на вечер. Показывая на сидящую во главе стола тетку и подбирая все доступные ей армянские слова, Сиран рассказывает:
– Этой весной тетя моя – вот она, рядом с отцом, – ездила в Армению, а оттуда по дороге домой остановилась у меня в Нью-Йорке. Я повела ее, показала Эм-пайр билдинг, Рокфеллер-центр, Линкольн-центр, вошли внутрь здания Унион Национ… А она все свое гнет: «Наберись ума в конце концов, девочка, наберись… Что это такое показываешь мне?.. Ереван смотреть надо! Ереван – это город. А тут что – торчат чудища какие-то вверх».
В рассказе Сиран и юмор, и какое-то удовлетворение. Она смеется над тетушкой и тем не менее довольна, что обнаружился в мире человек, считающий Ереван лучшим городом, чем Нью-Йорк. А тетка, старая уже женщина с суховатым, решительным лицом, без всяких там околичностей на чистом гехинском диалекте подтверждает:
– Да, и не отрекаюсь от своих слов… Ты еще ребенок, не понимаешь… Один камень Еревана не сменяю на твой Нью-Йорк…
Нвард, певица, по-армянски говорит еще хуже. Но всем существом своим участвует в беседе, сгорая от желания высказать то, что у нее на сердце. Именно так и пела она на вечере песню композитора Эдгара Ованесяна «Эребуни-Ереван». А сейчас взяла бумагу, карандаш и хочет записать новую песню о Ереване. Я диктую, она пишет английскими буквами, потом, как ребенок, складывает слоги, с трудом соединяет их. Сопротивляющиеся слоги постепенно сдаются, смягчаются, становятся словами, стихами, строфами… Нвард ликует, песня раскачивается, клонится то в одну, то в другую сторону, делает первый уверенный шаг.
Поем мы все – Нвард, Сиран, ее тетя, Анаит и я. Поем в Сен-Катрине, в доме, где живет большая тото. Черный огонь в глазах Нвард вдруг задымился, голос повлажнел. Поет все громче, с каким-то даже вызовом. Откуда она взялась там, в своем Колде? Как выросла такая, на первый взгляд, совсем ереванская, ни в чем не отличимая от ее темноглазых, гладковолосых тамошних сверстниц? Ни в чем, кроме речи. Отступницы речи.
На дворе ясная, прозрачная ночь. Уснули дома, оставив у дверей сторожа – электрическую лампочку. Близко, очень близко, вижу длинную полосу воды, она блестит под луной. Это канал, один из тех, которые соединяют систему Великих озер Америки, связывают Канаду с Соединенными Штатами. Мы прощаемся, чтобы отправиться каждый к себе домой. Алексаняны остаются в Сен-Катрине, кто-то едет в Торонто, Нвард и Сиран – в Колд, кто-то – в Нью-Йорк, и я, только я, – в Ереван…
По каналу проходит пароход. Плавно, медленно, сияя оконцами кают. Машина доставляет меня в мой сегодняшний однодневный дом – гостиницу «Шератон». Рог луны, подобно кривому ножу, прорезает ночную тьму. Я молчу, вся еще в плотном окружении сегодняшних встреч. И лишь постепенно нарастающий рев воды вдруг напоминает, что недалеко Ниагара.
Рев чем ближе, тем оглушительнее. Ночь укрыла дневную Ниагару. Осталось только разрывающее мрак белое рычание. Это она. Я вижу теперь – это она, Ниагара моей юности. Бунтующая, яростная, освободившаяся от тысячеглазой туристской назойливости, от поденной обязанности быть диковинным зрелищем. Мы только вдвоем с нею, как тогда, в той моей комнатке на улице Амнрянэ.
Ниагара! Ты рвешься к желанной свободе.
Воплощение гнева в бессмертной природе.
Как обвал, устремившись дорогой крутою,
Ты навеки поссорилась с высотою.
Пусть и рев, и стремленья твои бесполезны,
Все равно не заполнишь ты каменной бездны,
Но грозу твоей страсти и пены кипенье
Я в груди ощущаю в часы вдохновенья.
14 марта, Егвард
Сен-Катрин, как было уже сказано, та первая пристань в Канаде, к которой причалили первые переселенцы из Западной Армении. Эта маленькая община, как бы микромодель всей канадской и даже американской колонии. Тут и история возникновения, и первая церквушка, и всяческие междоусобицы, перекочевавшие следом за океан, и старики, уходящие из жизни, и вместе с ними уходящий армянский язык, и пробивающиеся из-под льдов отчуждения зелененькие ростки интереса к своему изначалию, изо дня в день растущая тяга к далекой родине.
В отличие от Сен-Катрина, в других городах Канады армянских общин не было. Жили просто отдельными семьями. После первой мировой войны привезенные сюда сто двадцать сирот с острова Корфу не изменили общий облик колонии.
Изменился он лишь в последние пятнадцать – двадцать лет, когда началась эмиграция в Канаду из Стамбула, стран Ближнего Востока, из Греции и Румынии. Ныне численность колонии примерно 35–40 тысяч человек, рассеянных по всему неоглядному краю. Но главные центры скопления – Монреаль и Торонто.
Со Старого Света сюда доплыли и старые партийные распри, и всевозможные общества и союзы, которые в конечном счете сконцентрировались вокруг двух основных направлений, двух центров. Один из них – дашнакская националистическая партия, другой – прогрессивные силы, где существенную роль играют рамкавары – партия демократического толка. Крепнущая день ото дня связь с Советской Арменией способствует оживлению национальной жизни колонии, сохранению родной культуры. Издаются газеты, журналы, открываются школы, в бюджете которых, правда, символически, присутствует и доля местных муниципалитетов.
Надо сказать, что отношение Канады к переселенцам свидетельство не только ее расположенности. Бескрайние, далеко не освоенные, здешние земли все еще требуют приложения человеческих рук. Поэтому иммиграция поощряется здесь с давних пор. Создаются благоприятные условия, чтобы привлечь в страну трудовые ресурсы.
Прежде чем получить канадское гражданство, приезжий проходит пятилетнюю «стажировку» – он должен вести себя «образцово», не нарушать законы, не выезжать в это время из страны, а под конец сдать нечто вроде экзамена по истории, географии и законодательству Канады. С этой целью при стамбульском землячестве в Монреале с помощью вновь прибывших армян организованы уроки французского языка и специальный курс, где первый пункт программы озаглавлен «Наша страна – Канада», а последний – «Как стать канадцем». Бедняги соплеменники мои, колесящие по миру, сколько еще стран должны вы назвать «нашей страной» и сколько норм поведения, нравов и законов должны вызубрить, чтобы получить балл на право гражданства?
В Монреале широкую деятельность развернул мой знакомый еще по Бейруту, филолог Гезорк Айгуни. Он читал курс по армяноведению, в стамбульском землячестве консультировал «как стать канадцем», раз в неделю проводил получасовую телепередачу на армянском и, наконец, обучал желающих армянскому языку в Квебекском университете.
Я присутствовала на одном из этих уроков.
Человек восемнадцать – двадцать, в большинстве девушки. Парней было трое: один – молодой армянин из Малатии, из глубин Турции, второй – канадский армянин, третий – канадец, преподаватель греческого языка, который возжелал выучить и армянский. Из девушек только две, можно сказать, «бескорыстно» хотели знать армянский; одна из них канадка, врач, а другая армянка. Остальные пятнадцать были невестками в армянских семьях – канадские француженки, которые после того, как их мужья полностью капитулировали перед французским шармом, решили разоружить еще своих свекров и свекрух с помощью армянского.
Не знаю как, но Геворк Айгуни на втором же уроке, где я присутствовала, скоростным методом дошел до слова «пач» – «поцелуй». Когда на доске крупными буквами он перевел «пач» на французский, наши пергидрольные невестушки хором воскликнули: «А, пачик!..» Это название самого меткого оружия из своего арсенала плутовки уже знали давно. Другое слово было «карал»– «лебедь», которое веселые школярки поспешили отождествить со знаменитым «карапетом», искренне радуясь своим лингвистическим способностям.
Как ни старается община, все же пришельцам на эту землю нелегко адаптироваться. Эгоистические нравы частнособственнического общества, атмосфера тотальной конкуренции особенно ощутимы для тех, кто должен сразу включаться в бег, где все подчинено жесткой логике: отстанешь – затопчут.
В Торонто я побывала в армянской церкви. Она находится на одной из самых тихих улочек огромного шумного города, в бельэтаже большого дома, где внизу, на первом этаже, клуб общины. Зажатая среди других зданий, эта церковь, белая, многооконная, так не походила на привычные, строгие наши храмы, чернокаменные, одиноко возносящиеся среди пустынности гор.
Но знакомая до боли вязь древних букв тут же приблизила меня к белизне этих стен, к широким просветам окон, к людям, сидящим в ряд на длинных скамьях. Над сводами алтаря была начертана знакомая строка: «Боже, храни армян».
У каждого народа есть свои заветные песни, свой гимн, свои ставшие изречениями присловья. В них как бы сгусток примет народного опыта, характера, биографии народа, его истории. В английском гимне, например, есть такое обращение к всевышнему: «Боже, храни Британию, королеву морей», «Марсельеза» призывает восстать против тирании. Строки норвежского гимна славят свой «край лесистых круч, море, ветер нелюдимый, небо в клочьях туч». Армянская, два столетия назад родившаяся песня звучала почти как заклинание. Начиналась она мольбой: «Боже, храни армян». Здесь речь шла просто о том, чтобы сберечь жизнь, спасти от физического уничтожения, от нашествий и насилий.
Совершенно иной, подсказанный временем смысл обрела эта строка, когда я внезапно увидела ее в церкви, в Торонто.
Сегодня здесь, возле входа в эту церковь, толпились дети из субботней школы имени Месропа Маштоца – участники традиционного кросса-пробега. Выяснилось, что такие кроссы очень распространены в Канаде. Вот и армянские ребята, как потенциальные приверженцы местных нравов, включились в этот «бег по жизни». Заранее маленькие бегуны заручились обещанием ряда имущих людей, письменным или телефонным, выдать энное количество долларов тем, кто быстрым шагом пройдет или пробежит условленное расстояние. В данном случае доллары эти предназначены для нужд их школы.
Мне было все в новинку, все странно. И сам характер этого филантропического спорта, маленького бизнеса, задуманного пусть и не в личных целях. В этой капельной отраженности таилась неотвратимая опасность не устоять перед большим кроссом жизни, за ленточкой финиша которого – он, тот же всезаглатывающий доллар.
И вот дан сигнал. Ребята заполнили узкую улицу и быстро свернут к центру города. В заранее назначенных пунктах родители поджидают, когда, наконец, появятся в толпе, снующей по тротуарам и мостовым, их отпрыски. Маршрут длинный – через весь город. Бет весть что подстерегает детей на этих грохочущих улицах, в бесконечной сутолоке машин… Вечером все участники кросса должны снова собраться у церкви. Мне сдается, что каждый из родителей, так тревожно ожидающий возвращения детей, мысленно продолжает высеченную над алтарем мольбу: «Боже, храни наших детей. Не дай оторваться им от родных устоев, от первоосновы своей. Дай силу их ногам, чтобы твердо ступали они по зыбкой земле чужбины, чтобы в честном труде вкушали хлеб свой насущный. Боже, не дай им заблудиться в хаосе этих улиц, в тщете и суете мира. Сотвори так, чтобы куда бы днем ни уводили их житейские нужды, как бы ни искушали соблазны, к вечеру снова возвращались они сюда, в свое пристанище. Боже, храни человека…»
В Торонто я пробыла всего неделю и снова возвратилась в Монреаль, канадскую мою обитель. Для меня, выступавшей в Бейруте и Алеппо по пять-шесть раз в день, поездка по Канаде была сравнительно легкой, потому что колония немногочисленная, школ – увы! – маловато и визитеры не так уж одолевали. Самый большой вечер состоялся в Плато-холле, где собралось восемьсот человек. С него, собственно, и началась моя монреальская жизнь, которая продолжалась в Торонто и перекинулась затем в Америку.
Таким образом, когда я через четыре месяца покинула Западное полушарие, мой блокнот зафиксировал более ста вечеров, выступлений по радио и телевидению, обращенных к сшорку, не говоря уже о множестве личных встреч и разговоров. Запомнилось и несколько прямо-таки семейных вечеров – в нашем консульстве в Монреале после приема в честь советской поэтессы, встречи в советском посольстве в Вашингтоне или в клубе Советской миссии в ООН. Помню и «чашку русского чая», на которую меня неизменно приглашали после этих вечеров, уже в более узком кругу. Снова читали стихи, вспоминали родные места, рассказывали о родных, от которых и они, и я сейчас так далеко, говорили об общих радостях и заботах нашего большого дома, по которому так тоскуешь, когда оказываешься вдали от него.
16 марта, Егвард
За последние два десятилетия так много приехало в Канаду армян из Стамбула, что организовано землячество. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я вошла в их клуб, – это плакат, очень характерный для той психологии осторожности и боязливости, которая годами впитывалась ими. Плакат сей оповещал о том, что стамбульское землячество ни к какой партии не относится и никаких политических целей не преследует. Но нетрудно было убедиться, что симпатии большинства из этого землячества давно определились. Так, секретарь его Жирайр Айватян рассказывал:
– Был я солдатом в турецкой армии, служил на границе возле Ленинакана… Вечером зажигались огни в Армении, и я, как зачарованный, стоя на другом берегу на посту, не мог оторвать глаз от этих огней. Сколько раз подумывал бросить все к черту и перебраться через реку… Но в Стамбуле у меня оставались мать, невеста. Словом… Однажды белая лошадь с вашей стороны перебежала к нам. Поймали ее, повели сдавать обратно. Мы стояли посреди моста. Мы и они, ваши. Среди них парень, явно армянин. Одному богу известно, что я пережил в эти минуты, боялся, что вот-вот сорвусь с места и брошусь к нему.
В Торонто мне представился случай встретиться с другим переселенцем из Стамбула, зубным врачом Норайром Джейланли. Разболелась десна, и пришлось прибегнуть к врачебной помощи.
– Завтра с утра пойдем к моему дантисту, он из самых известных и самых дорогих, – предложила свои услуги одна здешняя дама.
На следующее утро в назначенный час мы явились к врачу.
– Какой счастливый случай! – пожал мне руку полный, круглолицый доктор в белом хрустящем халате. – Пожалуйте…
Я вошла в его кабинет, где все – стены, пол, потолок, окна и инструменты – так сверкало, будто вся комната тоже накинула белый хрустящий халат.
Дантист надел на меня такой же халат, усадил в кресло, нажал кнопку, и спинка откинулась так, что я приняла почти горизонтальное положение. Рот широко раскрылся, и перед моими глазами сверкнули электрический прожектор, металлические щипцы, круглое лицо господина Норайра. Пока я ждала врачебного заключения, а самое главное – мечтала занять свою первоначальную позицию, доктор вышел. «Наверно, за лекарством», – подумала я. Но когда он вернулся, в его руках был фотоаппарат.
– Не каждый раз можно соединить приятное с полезным, – сияет доктор и направляет на меня объектив.








