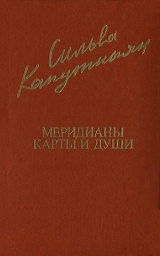
Текст книги "Меридианы карты и души"
Автор книги: Сильва Капутикян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
– Лучше не меряться такой силой. Когда обо мне написали в «Огоньке», со всех концов Союза полетели письма, особенно от тех, которых постигла такая же участь. Просили рассказать, как я одолел, как свыкся с деревянными ногами…
– И вы отвечали?
– А как же мог не ответить? Надеюсь, что некоторым сумел помочь, поддержать их…
Приезжаем в Егвард. Габриелян берет мои довольно увесистые сумки и поднимает на четвертый этаж…
Я роюсь в бумагах, нахожу листок со стихотворением.
– Прочла первую главу вашей работы, и вот, как говорят, муза посетила меня… Слушайте:
И представить только:
Время откатило
Миллионолетья —
Бездной поглотило.
А Севан Севаном и не назывался,
Светом наших душ он не наполнялся.
И сиянье наших глаз в нем не растворялось.
Сердце дрожью за него,
Нет, не обрывалось
И не билось в берега.
Шли века.
Шли века.
Синь жила без нашей боли,
Нашей радости и доли:
Сколько капель – столько лет.
Но поверьте слову:
Нет такого, нет и нет!
Не было такого! [36]
Удивительная вещь, когда я читаю свои стихи перед многолюдной аудиторией, то совсем спокойна, а вот когда одному или в узком кругу – волнуюсь, будто впервые.
Мое волнение передается ему.
– Не знаю отчего, но когда вы читали, я вспомнил одну историю. В Ленинакане был ванский армянин по имени Сион. Препорядочнейший, честнейший человек, и, видимо, именно потому наши ленинаканские остряки, проказники, разыгрывали его, называли нарочно «жулик Сион». Однажды я встретил его на улице, а накануне читал книгу Линча об Армении, о Ване, – вы, конечно, знаете этого немецкого историографа? Как мне в голову пришло, не знаю, но я сказал: «Дядя Сион, знаешь, я вчера из Вана вернулся». Старик не поверил. Я стал с жаром рассказывать, что повидал и то, и это, и Варагский монастырь, и канал Семирамиды, и пещеру Мгера, ходил в сады Айгестана, попробовал яблоки Артамеда, ловил ванскую рыбу «тарех», – словом, выложил все, что помнил из Линча. Бедняга, наивный человек поверил, из глаз его потекли слезы… Мне стало совестно, что обманываю старика, но он был так растроган, что я не посмел сказать: «Дядя Сион, ни в каком Ване я вовсе не был…»
Когда Габриелян рассказывал об этом, глаза его тоже увлажнились.
– Ах, эти мои негодники земляки, почему такого святого человека называют «жуликом Сионом», ума не приложу… Ну, я поеду, не буду вам досаждать. Кончайте, быстрее кончайте вашу книгу, приходите к нам в гости. Покажу вам мои фильмы – природу Армении, древности, до которых редко кто добирается.
Вскоре Габриелян уехал, я принялась за работу. Вынула из ящика письменного стола папку, на которой написано «Флорида». По плану следующие мои записи должны быть об этом субтропическом полуострове, но никак не могу оторваться от мыслей о Габриеляне.
Выкладываю на стол письма, записки, проспекты, гостиничные этикетки и альбом с видами Флориды, цветными, блестящими, напечатанными на отменной бумаге… Сможет ли Габриелян издать свою книгу так, как он хочет: на хорошей бумаге, с фотографиями, такими, которые передают всю игру красок Севана? Он сказал, что у него шесть тысяч фотографий, как это он ухитрился столько наснимать?.. Вода, вода, вода. В океане – вода, вокруг полуострова – вода, в искусственных каналах, прорытых у домов, – вода. Она раскинулась, синяя, покойная, такая синяя и покойно-неподвижная, что кажется пластмассовой… Почему такой сердитый наш Севан, такой нервный? Может, оттого, что мал, а забот хоть отбавляй? Не знает, за что хвататься, потому и бьется о камни, мечется от берега к берегу… На побережье вдоль полуострова пески, мягкие белые пески, на песках смуглые тела, женщины с точеными ножками, здоровые мускулистые мужчины… Интересно, умеет ли Габриелян плавать? Да, конечно, умеет, он рассказывал, что каждый год с женой ездит на море, в этом году собираются в Болгарию… По краю пляжа выстроились пальмы, в ряд, прямые, одинаковые, как электростолбы, лениво повторяющие друг друга, ублаготворенные, сытые деревья… Эти бессовестные ветры не дают саженцам вздохнуть на берегу Севана. Так и остаются тощими, хилыми… На следующей странице альбома надменные, задравшие нос дома, белоснежные гостиницы, пансионаты, особняки самые разные, в густой зелени, с красноватыми черепичными крышами, перед особняками вырыты каналы, где дремотно покачиваются цветные моторки, покачиваются точно так, как их хозяева в сетчатых гамаках… Совсем старенькая машина у Габриеляна. Он подал заявление с просьбой продать ему новую, но ответ что-то задерживается…В уголке страницы вытянутая в длину каменная пристань, вонзающаяся в океан, рядом аккуратное нагромождение голубоватых валунов. Интересно, на корабле привезли, что ли, их? Ведь в этих краях камней и в помине нет… Аветик Исаакян как-то с горечью сказал: «В Армении столько камней, что она может обеспечить надгробиями всех мертвецов мира». Почему надгробия? Отправили бы туда несколько кораблей камня, обменяли бы на воду, на землю, на везучую природу. А этот окружающий амфитеатром маленькую бухту, спускающийся к морю стадион, забитый людьми в пестрых купальниках… Здесь уже им с нами не равняться, наш «Раздан» куда лучше. А люди… Чьи это болельщики, из-за кого замирают их сердца, есть у них свой «Арарат» или свой Тигран Петросян?.. Не знаю о футбольной команде, но Фишер у них есть. А есть ли у них то чувство, которое вбирает в себя все: камни, землю, поля, Севан, стадион, автомашину «Ераз», Матенадаран, Гегардский монастырь, то обволакивающее душу чувство, когда дышать – это не только вдыхать и выдыхать, а впитывать в сердце, в легкие воздух в таком его соединении, где слилась любовь, тоска, гордость, величие, боль, отрада…
Я откладываю в сторону «Флориду» и снова перечитываю свои строки о Севане. Невольно переполнившие меня чувства диктуют изменить, расширить смысл стихотворения:
И представить только:
Время откатило
Миллионнолетья —
Бездной поглотило.
Некрещеный Айастан Айастаном не был.
Незачатый наш язык спал под этим небом.
Арарат, не освещенный светом, льющимся из нас.
И не пала пелена на Севан из наших глаз.
Камень, речка, шепот, крик
И земля, гора, родник —
Все жило, не тосковало
Без письмен и оровела[37],
И за выжженную землю
Наше сердце не болело
И не билось в берега…
Шли века.
Шли века.
Все – без нашей боли,
Радости и доли.
Сколько камня – столько лет,
Но поверьте слову:
Нет такого, нет и нет!
Не было такого[38].
25 мая, Егвард
В конце пятнадцатого века, подплыв к неизвестным берегам, испанцы обнаружили, что они сплошь в густых зарослях диковинных цветов. Цветов было так много, что ошеломленные моряки назвали это место Флорида – Край цветов. Теплое течение Гольфстрим, берущее начало в Мексиканском заливе, проходит через пролив мимо Флориды в Атлантический океан, к Европе, Флориде, приникшей прямо к груди Гольфстрима, раньше и больше других достается «молока». Именно поэтому некогда дикий, безлюдный полуостров превратился, пожалуй, в самый ухоженный, самый набалованный уголок мира.
Действительно, «рай земной», который деловые американцы избирают местом своего жительства и без «выбитой» у богов рекомендации, а прямо в порядке личной инициативы, то есть когда имеется уже порядочно на банковском счету и можно целиком перейти к пользованию «плодами трудов земных».
И вот три пары, три американо-армянских Адама со своими тремя американо-армянскими Евами, и встретили меня во Флоридском аэропорту. Когда я в этом прелестном окружении, весело болтая, направлялась к машине, заметила, что все вокруг смотрят на меня. «С чего бы это?» – забеспокоилась я и вдруг сообразила, что в самообслуживающую себя теплом зону приехала в шубе, а вокруг почти все в купальниках, шортах, «мерзлячки» в коротких ситцевых платьицах.
– Далеко до гостиницы? – спрашиваю я, мечтая побыстрее переодеться.
– Мы не в гостиницу едем, – раздалось в ответ, – господин и госпожа Татосяны любезно предоставили вам комнату в своей квартире.
Как ни любезны бывают хозяева, тем не менее я всегда предпочитаю гостиницу. Наверное, это было написано на моем лице, потому что спутники мои сочли нужным тут же добавить:
– В Америке сейчас рождество. Со всех сторон осаждают Флориду, в отеле невозможно было получить номер.
Когда машина остановилась у многоэтажного дома и мы поднялись в квартиру Татосянов, я не смогда удержаться от восклицания. И вызвано это было не пышностью обстановки, а совсем другим, неожиданным. Одна стена всего дома сплошь стеклянная, и комната, казалось, залита светлой синевой океана. Перед глазами ни берега, ни земли, словно это многоэтажное здание – корабль, который покачивается на зыбких волнах.
– Нравится? – самодовольно спросила тикин Татосян с еле заметным укором в голосе. – Вот это моя половина – моя спальня, а теперь ваша, располагайтесь, как вам нравится. Не хуже, чем в отеле.
Приветливой тикин Татосян за семьдесят, а может, и больше. У нее тяжелая походка – от полноты и одышки. Она скорее низенькая, но поскольку муж ее, господин Татосян, еще ниже, с кругленьким брюшком и кругленьким лицом, то жена рядом с ним кажется высокой. Зато он, родившийся лет на пятнадцать (а может, и больше) ранее своей жены, бодр и крепок, одет с иголочки.
Господин Татосян своего рода армяно-американский Форд. Когда-то владелец самой заурядной пекарни, он то ли изобрел, то ли пустил в оборот изобретенное другим какое-то приспособление, с помощью которого выпекал тонкие сухие хлебцы – разновидность «тостов». Очень скоро его хлебцы стали популярны в Америке, как тот сорт хлеба, который и вкусен, и не полнит. Так это приспособление, не давая полнеть американцам, изрядно пополнило доход господина Татосяна, покрыло его тело жирком. Около двух лет, как Татосяны, продав свое предприятие и оставив Нью-Йорк, переехали во Флориду и поселились в этом уголке, называющемся Форт-Лодердейн.
– Я не доверяю бумагам, акциям, никогда их не покупала и не буду, – с типично американской деловитостью, так не вяжущейся с домашностью ее облика, делится со мной тикин Татосян, – сегодня они в цене, а завтра, глядишь, упали до нуля…
Вскоре дает о себе знать и американская непосредственность:
– Когда возник вопрос о приглашении вас во Флориду, армянские семьи Форт-Лодердейна решили организовать это дело. Мы с мужем взяли на себя гостиничные расходы. А потом подумали, что лучше вам остановиться у нас. Деньги на отель – это деньги, пущенные на ветер.
«Нет, на одних «тостиках» не выбьешься в миллионеры», – про себя улыбнулась я.
Два дня мне выпало завтракать у Татосянов. Грузная тикин Татосян с трудом, тяжело дыша, суетилась на небольшой кухне.
– Ахавни, дорогая, дай помогу тебе, – заботливо предложил муж и стал накрывать на стол.
– Нет, милый, не беспокойся, я сама.
Мне было трогательно смотреть на этих «старосветских помещиков» из Нового Света, на флоридских Пульхерию Ивановну и Афанасия Ивановича. Но увы, на столе не было ни рыжиков маринованных, ни солений никаких, ни печений, ни варенья домашнего. У господина Татосяна, как выяснилось, свое испытанное меню. Большой зеленый мясистый перец он разрезал пополам, окунал в мед и с аппетитом уничтожал, закусывая это грейпфрутом, нарезанным кружками. Только и всего.
– Это самая здоровая пища, – объяснил господин Татосян, – видите, мне уже столько лет, и я совершенно здоров. Только благодаря перцу.
Никогда не думала, что зеленый перец, который у нас в Армении на каждом шагу, в таком исключительном почете здесь, в роскошной Флориде. Татосяны щедро включили для меня в этот завтрак кроме перца поджаренный бекон и кофе. Зато обедать и ужинать в эти два дня флоридские армяне возили меня в самые дорогие рестораны, а днем «угощали» красотами Флориды.
Незабываема морская прогулка на небольшом туристском теплоходе. Несколько часов мы плыли и не могли разобрать, где здесь озеро, где искусственно созданный канал. Радуга сияющей синевы, зелени, желтизны и еще тысяча и одной краски. Вдоль обоих берегов беспрерывно появлялись и исчезали особняки – все в зелени, в цветах. И микрофон гида также беспрерывно оповещал, что этот дом принадлежит такому-то известному врачу, тот – такой-то кинозвезде, этот – такому-то судье, и так далее. Гид старался свои сообщения разбавлять приправой из острот вроде: видите этот дом доктора, у него столько-то тысяч долларов, приданое его жены. А вот моя жена, сокрушался гид вслух, выйдя замуж за меня, ни цента не прибавила к моему состоянию, только детей…
Теплоход подошел к маленькому островку, и пассажиры сошли на землю. Островок призван был создать иллюзию поселения американских аборигенов-индейцев. Я говорю – иллюзию, потому что ни соломенные хижины, ни экзотическая растительность и птицы, ни продавцы сувениров в национальных костюмах, ни индианки с голливудскими улыбками не были натуральными, взаправдашними, а были лишь экспонатами для любознательных туристов. Настоящих индейцев давно уже упекли в глубину страны, окрестив место их жительства словом «резервация», что свидетельствует о том, как быстро и прочно испанские и англо-саксонские пришельцы обжили западное полушарие, а от исконных его хозяев оставили в заповедниках лишь «образцы», сохранившиеся от вымирания.
Следующий день – 25 декабря – первый день рождества. Здесь он отмечается с большим размахом, чем даже Новый год. Еще за несколько недель начинается подготовка к нему. Подарки изобретают всяческие. Я видела дома, где в углу были сложены разноцветные шкатулки и шкатулочки, которые ждали сочельника. «Подарки и обмен подарками сами по себе символизируют братство во Христе», – услышала я в передаче американского радио в тот день. С мистической торжественностью этой формулировки, наверное, больше всех были согласны торговые фирмы и хозяева магазинов.
Американское рождество я провела в доме очередных флоридских Адама и Евы. Было застолье, по нашим ереванским меркам, более чем уравновешенное, без тостов, без песен, и только несколько раз щелкал неизменный «кодак», увековечивший моих сотрапезников.
Около восьми часов я была уже у Татосянов в моей «половине», вернее, моей, как сказали бы у нас, однокомнатной квартире со всеми удобствами. Вообще эти «удобства», даже те, куда, как говорится, «царь пешком ходит», здесь, в Америке, в идеальном порядке. Но госпожа Татосян, по-моему, всех переплюнула. Скромные круглые крышки, которые по злосчастной прихоти судьбы призваны играть весьма прозаическую роль в истории цивилизации, здесь прямо-таки утопали в белых нейлоновых тюлевых оборках с красной нейлоновой розой посредине. Попробуй обойдись с этой самой крышкой так, как ей это судьбой предназначено…
Я порядком устала от впечатлений дня. И все же, как бы ни манило меня мягкое ложе тикин Татосян, обидно было в этот праздничный день, когда во Флориду приезжают отовсюду, чтобы поэкзотичнее вкусить рождественские радости, в восемь вечера отойти ко сну. Но как бы ни подбадривал себя перцем и медом господин Татосян, вряд ли это был самый подходящий спутник для прогулок по ночным улицам. Мне оставалось лишь покорно откинуть покрывало и юркнуть в постель.
Я легла, но долго не могла заснуть. Решила прибегнуть к самому испытанному средству от бессонницы в нашем добром Старом Свете – что-нибудь почитать. Зажгла лампу, огляделась – ни газеты, ни книги, ни журнала никакого не было видно во всем обозримом пространстве. Вошла в гостиную. Вокруг бесчисленное количество ваз с нейлоновыми цветами, безделушек, зеркал и прочее. Но ни Гутенберг, ни тем более армянский первопечатник Акоп Мегапарт никаких улик своей просветительской деятельности здесь не оставили…
Несолоно хлебавши вернулась назад, выключила свет, приказала себе заснуть. Но именно в эту минуту зазвенел белый телефон на тумбочке рядом с кроватью. Машинально подняла трубку, никак не предполагая того, что могло за этим последовать. В трубке девичий голос, английский язык. Я твердо убеждена была, что не туда попали: кто мог в такой поздний час звонить Татосянам? Но как это мое твердое убеждение сформулировать по-английски? Хочу повесить трубку, но чувствую – что-то не то. Девушка твердит одно и то же: «Лос-Анджелес, Лос-Анджелес…» Я понимаю, что звонок из Лос-Анджелеса, и соображаю, что, наверное, это кто-то из их родственниц. Перехожу на армянский: «Вы Татосяна просите? Позвать Татосяна?» Девушка на минуту замолкает, а потом, как «SOS», повторяет по слогам: «А-лис, А-лис»… Вспоминаю вдруг, что днем госпожа Татосян говорила, что ее дочь живет в Нью-Йорке, а внучка Алис уехала от родителей в Лос-Анджелес. Эта внучка, которая завтра-послезавтра станет обладательницей всего накопленного дедом и бабкой, обладала бы хоть самым малым запасом слов на языке деда и бабки, думаю в сердцах я и спешу разбудить спящих на другой половине стариков.
Из полумрака опочивальни господина Татосяна согласно раздается двухголосый храп – бас и контральто.
– Господин Татосян, госпожа Татосян! – постепенно повышаю я голос.
Никакого результата. Вынуждена войти в спальню и громко окликнуть. Наконец господин Татосян прерывает дуэт и открывает глаза. Говорю, что звонят из Лос-Анджелеса. Не успеваю закончить фразу, как старик мгновенно вскакивает.
– Внучка моя, Алис!..
Он просто потерял голову от радости, включил свет и, держа в руках трубку параллельного телефона, то говорит с внучкой, то на армянском обращается к жене:
– Ахавни, Ахавни, проснись, это Алис…
Невольно продолжаю стоять в чужой спальне. По-английски я не понимаю, но при чем тут английский! Радость армянских дедушек и бабушек на лицах стариков, в их голосах, в их растерянности. Вырывают трубку друг у друга из рук, и среди чужих, незнакомых слов я слышу наши ласковые, такие привычные мне с детства: «Сладкий ты мой птенчик», «Ласточка ты моя», «Солнышко мое», – и, сдается, хрустальная люстра превращается в простенькую коптилку с тоненьким неровным язычком пламени, широкое белоснежное ложе – в тахту, покрытую карпетом-паласом, комната оживает от простого, естественного, человеческого счастья, по которому, наверное, так тоскуют эти «грандма» и «грандпа» в своем комфортабельном одиночестве…
На следующий день после окончания встречи, или, точнее, вечеринки, в зале дома, где живут Татосяны, специально оборудованном для семейных празднеств и где на этот раз собрались армяне Форт-Лодердейна, меня повезли в Майами.
Утром я проснулась в гостинице со странным названием «Четыре посла». Четыре высоченные башни – четыре корпуса были на первых этажах соединены просторными, переходящими из здания в здание галереями. Во всю длину их расположились магазины и кафе-закусочные. А двор – опоясанный бетоном пляж, у которого, кажется, на цепь посажен океан, такой ручной, смирненький, прямо-таки в наморднике.
Вообще Майами– центр Флориды, мир гостиниц и развлечений. Если Лас-Вегас магией своих игорных домов захватывал и затем превращал человека в комок нервов, то здесь магия – сама природа, обволакивающие синевой воды, воздух, источающий тепло, расслабляющий, примиряющий. Вокруг на красных, зеленых, желтых топчанах сплошь один телесный цвет, только габариты разные. Широко раскинувшиеся, тоже цветные тенты, темные очки, благодатное тропическое солнце.
На машине мы прокатились по Майами, проехали по длиннющему легкокрылому мосту, соединяющему маленькие островки, и въехали в ту часть города, что называлась Майам-Бич.
Тут гостиниц и пансионатов еще больше. У нас был повод заглянуть в один из них. Здесь жил Назарет Парсамян, близкий к литературным кругам. Его однокомнатная квартира в пансионате своей потускневшей мебелью и обилием книг никак не соответствовала бьющей в глаза казенной гостиничной роскоши.
Парсамян сам не говорил мне об этом, но другие рассказали, что имя его сына и еще два армянских имени были среди тех имен, которые, как мне объяснили, выгравированы на борту космического корабля «Аполлон». Видимо, за большие заслуги в развитии американской космонавтики. Сколько имен таких Парсамянов, таких сыновей значатся на всевозможных дипломах и лицензиях во всех уголках мира, утверждающих научные изобретения, открытия, но какая доля этой энергии мысли и ума возвращается отцам, родному народу, той земле, откуда взяли начало эти мысли и ум?
В тот день в Майами был мой вечер. Честно говоря, днем, увидев воочию все это разгулье на пляже и на улицах Майами, я подумала: «Кто придет на наш вечер? Зря затеяли». Но удивление мое было велико, когда я обнаружила переполненный зал, и, как заметила, далеко не все из публики принадлежали «к сильным мира сего». Наоборот, неожиданно в этом зале преобладали голоса трудовых людей, исполненных любви к Советской Армении. Таково было и выступление вышедшего уже на пенсию Левона Гумджяна, который медленно, взволнованно читал свою речь, еле отрывая слова от бумаги.
«Побыв в Армении, я убедился, что это наше прибежище, наша надежда и вера. Как хотелось бы, чтобы там можно было построить дом для престарелых, где мы, люди спюрка, могли бы провести свои последние дни. Мы не хотим быть обузой нашему государству, и без того у него много хлопот. Я об этом говорил уже в Ереване. Передайте, пожалуйста, что у нас есть страховые полисы и приличные пенсии. Если нам удастся все это перевести в Ереван, он получит и наши пенсии, и доллары, и нам тоже будет хорошо».
Не знаю, чего больше было в этой речи – американской прямолинейной деловитости, пишущей доллар с большой буквы, или тоски, берущей с годами верх надо всем, исконной любви и тяги к земле родины…
28 мая, Егвард
Новый год я встречала в Нью-Йорке. Странное это было ощущение! Случалось, конечно, что под Новый год я бывала далеко от Еревана. Моя жизнь прошла, можно сказать, на колесах, и эти странствия иногда совпадали с днями, когда каждый, кто застревал в пути, торопился домой – встретить Новый год с женой, мужем, детьми. Я не особенно спешила домой, дома меня не ждали ни муж, ни гурьба детей, а мать и сын свыклись с моими отлучками. Хороша или плоха эта свобода, но так уж оно сложилось.
И все-таки этот Новый год особенный. В эту ночь я не только не под одной крышей со своими, но не в том же городе, не в той же стране, не на том же материке и даже – страшно подумать – не в том же полушарии. Только представить: наш двор, улица, наш Ереван уже восемь – десять часов назад прошли под этим околотком вселенной, чокнулись с этими звездами, поздравили друг друга С праздником и, вращаясь, отправились дальше, а я вот только сейчас отправляюсь встречать Новый год!
Едем вместе со здешним армянским писателем Акопом Асатуряном и его женой. Около восьми часов вечера наша машина останавливается у дверей зала «Гавукчян». Однако стоящий у входа дородный мужчина в модном клетчатом костюме запрещающим жестом останавливает нас. Начинается диалог по-английски, но я все же кое-как догадываюсь, что мы, точнее – я не могу войти внутрь. Акоп Асатурян старательно объясняет, кто я и откуда, – не помогает.
– Это армянин? – спрашиваю у госпожи Асатурян.
– Конечно.
– Неужели?
Как я поняла, для новогоднего торжества нужно было заранее купить билет, но пригласившие меня, вероятно, рассчитывали на традиционное армянское гостеприимство…
Асатурян пошел искать главного распорядителя, а я наблюдала за входящими. Это были большей частью люди средних лет. Лица ублаготворенные, безмятежные, на устах английский. Мужчины в официальных темных или в строгую клетку костюмах, женщины в длинных платьях, которые вверх от талии давали неисчислимые варианты: тугие стоячие воротники, длинные и короткие рукава, смелые декольте, более чем смелые вырезы от шеи до пояса… Словом, респектабельные гости зала «Гавукчян» ни в чем не отставали от приглашенных на дипломатический прием на самом высоком уровне.
Асатурян вернулся, и мы все-таки вошли в зал. Как решился вопрос с моим билетом, я постеснялась спросить.
Наш стол был довольно многолюдным: артисты, художники, писатели – неутомимые приверженцы родной культуры, чьи упорные усилия и стойкость воли ощущаешь в полную меру, когда сама, пусть хоть однажды, лично столкнешься с многоэтажной бетонной стеной, которая каждую минуту и на каждом шагу встает на их пути.
Просторный зал «Гавукчян» в эту ночь был в праздничном убранстве: высоченная елка, свисающие с потолка бумажные, нейлоновые елочные игрушки. На столах поблескивали светлячками веселые огоньки новогодних свечей. На сцене два оркестра, один американский, другой назывался армянским, поскольку и исполнители, и песни были армянскими. Музыка, вдвойне, усиленная стереоустановками, оглушающая, хоть уши затыкай. «Массовые танцы» в поте лица. То твист, то кочари. По правде говоря, между твистом и нашим кочари была не большая разница. Время от времени кое у кого проскальзывает арабская «извивающаяся» манера танца. Значит, танцующий переселился сюда с Ближнего Востока.
Наш стол походил на маленький островок, о чьи берега со всех четырех сторон ударяли грохочущие морские волны, – буйство звуков, топот танцующих ног и заполнивший все английский. И психологически все это тоже напоминало остров. Говорящий по-армянски стол, пишущие по-армянски писатели, уже немолодые, со своими никак не старящимися воспоминаниями об отчем крае, о скалистых кручах Сасуна, о Мушской долине, со своей постоянно горящей болью и тлеющей надеждой, а вокруг все совсем другое, далекое. Далекое не только по языку, но и по образу жизни, взглядам, нравам, по состоянию души.
– Мы вообще не ходим на такие сборища, сегодня пришли из-за вас, – словно чувствуя мое настроение, объясняет Акоп Асатурян.
А настроение у меня какое-то смутное. Провозглашаю тосты, пробую петь, уговариваю себя радоваться кочари, улыбаюсь подходящим к нашему столу, но в душе какая-то тяжесть. Почему так? Может, началось с неприятной истории у входа? Может, из-за незнания английского? Откуда это острое чувство расстояния, эта отчужденность, отдаленность?..
Вспомнила такой же новогодний вечер в Москве, в Доме литераторов. Так же тесно сдвинутые столы, такое же многолюдье. Мы, несколько армянских писателей, Акоп Салахян, Рачия Ованесян и другие, сидели за столиком. Это был, пожалуй, один из самых непринужденных, самых веселых вечеров в моей жизни, хотя я тоже была далеко от дома и вокруг столько самых разных людей, говорящих на самых разных языках. И наш стол тоже был своеобразным островком. Мы были армяне, пели, говорили по-армянски, кроме общих у нас были свои темы, свой Ереван, свои заботы, – словом, свой мир. Вокруг не знали нашего языка, не вникали в наши заботы, и все равно не было этого чувства островка. Мы были частью материка. Мы включались в беседу за соседним столом, подпевали русским песням, вовлекали соседей в армянские танцы, и все было естественно. Мы шли друг к другу через иные века и дороги. Здесь же, в этом зале, все вверх тормашками. Соотечественники, однако у каждого внутри свое отечество. Армяне, а по-армянски друг друга не понимаем. И вообще друг друга не понимаем, увы, не понимаем…
Та часть Бродвея, где улица, подобно реке, расходится на два рукава, бушует, подобно реке. Красные, синие, желтые, зеленые куртки и шапки, картонные колпаки и короны, русые, рыжие, спадающие на плечи волосы, черные как смоль мелкокурчавые головы накатывают волной, наплывают, снуют туда-сюда, вперед и на-аад, останавливаются, вновь двигаются. Все молодые – парни, девушки, белые и чернокожие, маленькие и высокие, большей частью парами, группами, но есть и в одиночку.
Над Бродвеем сеется мелкий дождь. Дождь и огни образовали тонкую дымку. Под ней крикливые краски рекламы обрели нежность акварели. Все вокруг – огни, лица – красное, синее, желтое, зеленое, все наполнено дождем, смехом, голосами.
В ту часть Бродвея, где улица делится надвое, вклинивается старое многоэтажное здание – редакции газеты «Таймс», и хотя давно газета не здесь, название сохранилось, и площадь называется «Таймс-сквер».
– Если хочешь встретить Новый год по-американски, нужно сходить в Таймс-сквер, – еще днем раньше сказал мне мой друг художник-фотограф Арутюн Чола-гян. – Ровно в одиннадцать я приду в зал Гавукчяна, чтобы свести тебя туда. Узнаешь еще одну интересную традицию Нью-Йорка. Каждый Новый год молодежь собирается там, а ровно в двенадцать с крыши Таймс-хауз раздается залп, будет фейерверк, а потом…
Что было потом, я увидела сама. После праздничного залпа, многоцветного буйства разбежавшихся по краям старого здания огоньков сверху вниз и снизу вверх, над Бродвеем пролился ливень молодых ликующих голосов. Сотни маленьких пестрых рожков возвестили приход Нового года. Как молекулы инстинктивно притягиваются друг к другу, так инстинктивно тянулись друг к другу руки, глаза губы, голоса – красные, синие, желтые, зеленые голоса:
– Хеппи нью ир…
– Хеппи нью ир…
– Хеппи нью ир…
И у меня в руке рожок, и я возвещаю приход Нового года. И я, как и все в толпе, обнимаюсь, целуюсь, и я пью из протянутых мне маленьких фляжек. Какое мне дело, что под ногами хлюпает вода, что туфли мои и длинное платье промокли, что растрепались мои празднично уложенные волосы. Я иду, смешиваясь со всеми, с незнакомыми и такими близкими, этими ясноглазыми лохматыми девушками, длинноволосыми парнями в заплатанных джинсах, белозубыми чернокожими юношами, и в моей душе те же голоса – красные, синие, желтые, зеленые, и на устах моих то же, что у них:
– Бахтовор! Нор тари!
– С новым годом!
– Хеппи нью ир!
Рядом со мной Арутюн, он ликует, он рад моей радости. В эти минуты он и сценарист, и постановщик, и дирижер, он счастлив, что и фильм, и постановка, и партитура получились такими, как он задумал.
– Вот видишь, я же тебе говорил!
Он в своей стихии – находить прекрасное, дарить прекрасное, дарить праздник. Он покупает мне разноцветные рожки, блестящий бумажный колпак. Останавливает приглянувшихся мне людей, объясняет, кто я и откуда, бойко переводит. Возле нас сгрудились захмелевшие парни и девушки, они охотно вступают в разговор, смеются, острят. Вероятно, увидев это скопление, к нам прорывается сквозь толпу какой-то репортер. Не теряя времени, подносит к моим губам микрофон.
– Что скажете в связи с Новым годом?
Я отвечаю, и Арутюн синхронно переводит.
– Пятьдесят четыре года Новый год встречала в восточном полушарии и вот пятьдесят пятый год моей жизни встречаю в западном, – начинаю я и по обычаям Старого Света нацеливаюсь обстоятельно изложить все нюансы моих новогодних ощущений. Но… репортер отрывает микрофон от моих губ и подносит его к чьим-то другим.
Кто-то отходит от нашей группы, кто-то подходит, но ядро ее неизменно. Среди неизменных симпатичная пара: девушка с распущенными по плечам белокурыми волосами и ее спутник – юноша едва восемнадцати – двадцати лет в синей куртке, с по-детски открытым взглядом (жаль, не помню их имен). Он уже навеселе и со мной очень мил и предупредителен. Время от времени он поднимает флягу, в знак особого уважения уступает мне право вкусить драгоценный нектар и только потом прикладывается сам. Среди неизменных также одна негритянская пара. Высокий, с небольшими усами муж и низенькая, запеленатая в меховую шубку жена. И у них такое же настроение – сияют доброжелательством и охотно отвечают на мои вопросы. Макартур Девис работает в министерстве образования, жена его Лоретта Дейзен – в какой-то торговой компании, имеющей отношение к американскому экспорту.








