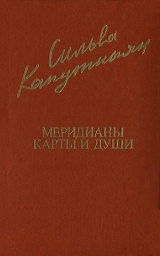
Текст книги "Меридианы карты и души"
Автор книги: Сильва Капутикян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Арутюн сразу догадывается, что я хочу как-то закрепить этот неповторимый вечер, чтобы он не стерся из памяти. И вот откуда ни возьмись появляется фотограф. Мгновенная вспышка – и через одну-две минуты цветной снимок в моих руках.
Я привезла домой, наверное, целый чемодан фотографий– заветные, дорогие памятки. Этот снимок мне особенно дорог, он сразу вызывает в душе голоса того вечера – красные, синие, желтые, зеленые, на всех языках понятные голоса…
– Хеппи нью ир…
– Хеппи нью ир…
– Хеппи нью ир…
По возвращении в гостиницу перебираю накопившиеся за долгий день впечатления: значит, случается, что «чужие» бывают тебе ближе, чем, казалось бы, «свои», но ставшие чужими, всеми делами, помыслами полностью укоренившиеся в чуждом мире. Однако это заключение лишь одна часть моего душевного опыта за эти сутки, самое простое умозаключение. Это я понимала и дома. Что же сегодня в сутолоке на Бродвее заговорило в моей душе? А вот что.
Сложна человеческая душа. Иногда хочется выйти не только из себя, своей семьи, своего дома и города, но и из своей привычной оболочки, на миг сорваться со своего якоря и выйти на морские просторы, широко вдохнуть хлынувший издалека свежий, незнакомый воздух, почувствовать, что ты частица этого могучего целого, что твои и Бродвей, и Парфенон, и Чаплин, и Микеланджело, и Бетховен, и Толстой, что радиоприемник твоей души настроен на опоясывающую земной шар волну радостей и тревог, что и ты в ответе за все хорошее и плохое в мире, что и ты причастен усилиям созидающего и страдающего человечества хотя бы тем, что в эту минуту ты – со всеми, среди всех, что и твое сердце с его болью и радостью вносит в мир свою долю света и тепла, отчего миру становится чуточку светлее, чуточку теплее…
Точно такое же чувство я испытала в другой день, в другом месте. Это было в Монреале, в концертном зале комплекса, именуемого «Площадь искусств». Громадный зал был наполнен до отказа. Выступал гастролировавший в Канаде греческий ансамбль. Все его участники – греки, покинувшие Грецию «черных полковников» и, вероятно, поэтому ставшие, если можно так сказать, еще более греками, еще крепче и еще больше любящие свою землю. Пел исполинского вида мужчина, усталый, с озабоченным лицом, сутуловатой спиной. На нем черная простая блуза с высоким воротником. Казалось, что он пришел сюда, в этот зал, не петь, а выполнять ежедневную трудную работу. Однако стоило ему начать, как и он сам, и его товарищи, и все вокруг преобразилось. Что бы они ни исполняли, будь это греческие народные мелодии, или песни на слова Гарсиа Лорки и Пабло Неруды, или баллада, посвященная убитому в те дни Альенде, или грустные напевы любви, все это как-то объединялось, различные оттенки сливались, становились одним цветом, одним голосом, служили од-ной-единственной цели – освобождению Греции.
Концерт нельзя было назвать концертом в обычном смысле. Это был бунт и мятеж против тирании, десант мстителей, от действий которого взлетают в воздух не воинские склады и железные дороги, а рушатся устои вражеской морали, исчезает душевная леность тех, кто до поры до времени воздерживался от самоопределения, тех, кто был не против, но и не за,
Воистину трудно было сохранить спокойствие перед этой взрывчатой силой искусства. Зал рукоплескал так, будто он от подземного толчка сам заколебался, загрохотал и в каких-то местах дал трещины. Вокруг низвергались возгласы на греческом, топот ног, восклицания: «Браво!», «Бис!», «Вива!».
Один из таких «очагов извержения» находился рядом со мной. То были молодые греки, местные или приехавшие, не знаю, я видела лишь, как откликались их лица на каждое идущее со сцены слово, на каждый звук, как они вскакивали с мест, хлопали, выкрикивали какие-то слова, всем телом устремившись к сцене, словно хотели перепрыгнуть передние ряды, достичь подмостков, смешаться с артистами, пойти за ними на штурм… И я тоже почти не отставала от сидящих рядом. Я не понимала слов, но больше, чем перевод, во мне сработала интуиция. Помогло то, что здесь, в зале, звучали имена Лорки, Неруды, которые уже давно были для меня своими, а больше всего – то волнение, которое неслось со сцены, сгущалось в воздухе, заполняло зал, сплавляло всех воедино. И хотя справа от меня сидели мои спутники из армянского клуба, сдержанные и застегнутые на все пуговицы, я непроизвольно клонилась к сидящим слева молодым грекам, была с ними, со всеми «очагами извержения», со всем залом.
Занавес опустился, но люди не уходили. В пространстве, в воздухе, на лицах еще жила песня, жила нетерпеливая жажда общения. Я стояла в многолюдье и понимала все, о чем говорили эти лица. А меж тем несколько дней назад, когда здесь же выступала известная французская певица Мирей Матье, я, выходя из зала, ощутила внезапное чувство одиночества, острое до страха. А сегодня – сегодня все, кажется, знают армянский, а я – греческий, английский, французский.
К нам приближается высокий мужчина средних лет. На лице его та же нетерпеливая жажда обрести кого-то, к чему-то припасть, причаститься. Это наверняка армянин, и я уже готовлюсь Протянуть руку. Он подходит, взволнованно произносит какие-то слова, и выясняется, что нет, он канадец, ищет грека, чтобы обнять его, чтобы выразить свое сочувствие и признательность, а поскольку мы, как и греки, смуглые, чем-то смахиваем на них, он подошел к нам. Тем не менее мы пожимаем друг другу руки, и канадец идет дальше отыскивать грека. Идет, чтобы учащенным биением своего сердца с его болью и радостью внести в мир свою долю света и тепла, отчего миру станет чуточку светлее, чуточку теплее…
29 мая, Егвард
Наверное, это было самое спокойное новогоднее утро в моей жизни. Вышла я из гостиницы и, помня вчерашнюю суматоху на Бродвее, думала, что и сегодня будет что-нибудь в этом роде. Тем более что у нас дома первый день Нового года мало чем отличается от встречи его, даже может быть более бурным.
Но широкие тротуары были пустынны, прохожие попадались редко, намного меньше обычного был поток машин. Мелкий, но с ветерком дождик, серый день, серые улицы. Ну что ж, пусть будет так. И таким притихшим увидеть Нью-Йорк интересно. Должен же был выдаться наконец час, когда я смогу одна спокойно пройти по этим улицам, медленно, как кинокамерой, обвести глазами снизу доверху те самые небоскребы, почувствовать их устремленный в небо порыв.
Избавленная от постоянных спешек и суматох, обычных в другие дни, сегодня, пока приедут за мной друзья, я – наедине со всем, что меня окружает, наедине с этим городом.
Улица, по которой я иду, Америкен-авеню. Пятьдесят флагов, развевающихся по всей ее длине, знаменуют пятьдесят американских штатов. И моя гостиница «Нью-Йорк Хилтон» на этой улице. Я остановилась здесь уже на пути домой, после Флориды. Прямо напротив – знаменитое Радио-сити. Весь этот огромный квартал, где я сейчас стою, называется Рокфеллер-центр. Бесчисленные конторы, концертные залы, радио– и телестудии, магазины, рестораны – все это в небоскребах, соединенных внутренними двориками, небольшими площадями, цветочными газонами. Почти все здания построены и эксплуатируются династией «нефтяных королей» Рокфеллеров еще с тридцатых годов и являются одним из тех ансамблей, которые определяют архитектурный облик нынешнего Нью-Йорка. Привлекает внимание сверкающий бронзовый Прометей у подножья небоскреба, на фоне красного гранита и мрамора. У как бы парящего в воздухе Прометея в руках огонь, похищенный у богов. Конечно же именно у Рокфеллеров наиболее веские основания выразить свою личную признательность этому, по их представлениям, первому носителю и воплощению «духа предприимчивости». Ведь никто в такой мере не воспользовался похищенным огнем, как нефтяная компания «Стандарт Ойл»!..
Я, наверное, напрасно взялась в таком замедленном темпе описывать улицы и районы Нью-Йорка. Все равно это мне не удастся, не только потому, что я многое не успела увидеть, но и потому, что это никак не входит в задачи моей книги, да и не выйдет это у меня. Общее же впечатление таково, что теперешний Нью-Йорк сего новыми сооружениями не похож на бесформенный бетонный хаос небоскребов конца прошлого и начала нового столетия, о котором так много слышала и читала. В те времена только-только встал у старта финансовый капитал, в центре города земля дорожала день ото дня, деятельность монополий все расширялась. А вот здания расширять было невозможно, пришлось «подниматься ввысь». Началась, так сказать, «торговля облаками». Быстро встали, поднялись этажи, взмыли друг над другом, жадно хватаясь за новоизобретенные бетонные и металлические конструкции. Нервно задыхаясь, охваченные лихорадкой, стремясь опередить, оставить внизу других, они до наглости небрежны были к своей внешности, к своей гармоничности с окружением. Теперь лицо Нью-Йорка меняется. Стодвухэтажное здание Эмпайр билдинг, построенное в 1931 году, уже свидетельствует о новой ступени «небоскребной» архитектуры. Оно, это здание, уже не давит на душу человека, а, наоборот, уносит его с собой ввысь. Эта стодвухэтажная громадина кажется легкой, стремительной и бестелесной, как металлическая Эйфелева башня.
Таковы и другие знаменитые нью-йоркские новостройки последних десятилетий в центре города. Старые, тяжелые, однотипные небоскребы уступают место новым, где конструктивная целесообразность в ладу с эстетикой. Бесчисленные этажи облицовываются мрамором, гранитом, становятся изящными, пластичными, ласкают глаз. Стекло и металл, сплавленные, состыкованные так, будто их не касалась человеческая рука, превращают стену высотного здания в гигантское прямоугольное зеркало, в котором отражаются улицы и здания противоположной стороны.
Таким мне показался теперь центр этого восьмимиллионного города, где, правда, с перерывами, я пробыла почти месяц. И все же мне чудится сейчас, что я увидела все это лишь на экране и не только по той причине, что отвлекали «армянские дела», что не знала языка, не могла окунуться всерьез в нью-йоркскую жизнь. Так неохватен Нью-Йорк для новичка, так огромен и «трудноперевариваем», что хотя я и старалась распознать его, побывала в «Метрополитенопере» и «Метрополитенму-зее», в «Империале» и театрах на Бродвее, в кино и многих других местах – все равно, с какого края ни подступись, только откусишь от этого огромного «каравая» то с одного, то с другого конца и все равно сыт не будешь.
Я была и в других знаменитых городах мира – Париже, Токио, Каире, даже меньше времени провела, чем здесь, но почти нигде у меня не возникало такого чувства непостижимости города. Может, возраст уже такой, когда все сильнее ощущаешь, что видишь это, наверное, в последний раз, что никогда не вернешься сюда, не пройдешь по этим улицам, не увидишь этих людей. А может, потому, что Нью-Йорк – это не шеститысячелетняя пирамида или буддийский храм. В нем бьется, живет ритм твоего времени, и поэтому где-то он и твой город, в нем есть участие твоей мысли, твоих нервов.
Вот таким и остался Нью-Йорк во мне. Что же касается окраин города, прокопченных и задымленных рабочих кварталов, бетонированного, но похожего на вырытую кротом нору метро, печально известного Гарлема, трагических перипетий его жизни, мне остается лишь повторить тысячи раз сказанное, и, как бы я ни стремилась избежать шаблона, не могу не признать, что Нью-Йорк – это город контрастов, резких противоречий и противоборств. И все это в нем, пожалуй, в такой же степени велико и многослойно, насколько велик и многослоен и сам Нью-Йорк, этот «стальной Вавилон».
Почти перед самым моим отъездом из Америки я выбрала воскресный день, чтобы разглядеть получше статую Свободы, которую много раз видела издалека.
…Корабль медленно отчалил от острова Манхаттан, и чем дальше мы от него отплывали, тем легче было взору объять оставшийся позади берег, тот, который впервые открылся европейцам триста пятьдесят лет назад и где был заложен Нью-Йорк. Сейчас этот берег показался мне похожим на гигантский орган с взметнувшимися в небо бетонными клавишами – небоскребами. Корабль удалялся в просторы Атлантического океана, и мы находились теперь примерно там, откуда приближаются к берегам Америки суда из Западного полушария. Справа вдалеке громоздилось кирпичное здание казарменного типа, знаменитое Кестер Гартен. В свое время оно приняло несметное число переселенцев, торопившихся в Новый Свет. Здесь, в этой красноватой громадине, с испугом и надеждой они робко протягивали таможенникам свои с трудом выправленные документы.
День выдался погожий, солнечный. С каждой минутой все крупнела, вырастала перед нами каменная женщина, которая вот уже более ста лет притягивает к себе корабли из бесчисленных гаваней мира не столько огнями маяка свободы, сколько мечтой об огненном блеске золота.
Статуя возвышается на маленьком, величиной со сквер, островке. Вместе с постаментом она представляет собой внушительное сооружение высотой в тридцать этажей. На лифте можно подняться до самого верха постамента – до ног статуи Свободы, – те же, кому охота добраться до головы, должен топать пешком. В этом, видимо, есть некий смысл. Техника – лифты и ракеты могут вас доставить на сто второй этаж Эмпайр бил-динг и даже на Луну, но к той свободе, мечтая о которой люди сооружают подобные монументы, нужно идти своими ногами, с трудом, с борением, преодолевая сопротивление вокруг и в самом себе, предчувствуя с каждым шагом радость преодоления.
30 мая, Егвард
Отец мой небесный не дремлет,
Меня неусыпно хранит
И печется о благе моем,
Путь великой любви
Открывает он мне неустанно —
Путь, который ведет в небеса.
И даже орлиный полет
Осенен той любовью…
О, я знаю, я знаю,
Отец мой небесный меня не оставит,
Он хранит неусыпно меня
И печется о благе моем[39].
Эту духовную песнь спела одна из сестер в маленькой церкви в Атланте, во время литургии на панихиде по Мартину Лютеру Кингу. В траурной тишине встала она, стройная, темнолицая, и строго, без слез, спела любимую его песнь: «Отец мой небесный не дремлет, меня Неусыпно хранит…»
Вчера вечером эта песнь прозвучала в Ереванской филармонии, и закаменевший зал внимал ее уносящимися ввысь переливам. Пела Одетта, знаменитая негритянская певица, приехавшая из Лос-Анджелеса, высокая, крупная, с гладкой оливковой кожей, с крутыми мелкими завитушками волос. Что-то грубоватое, сильное», будто вырубленное из скалы, было в ее широком лице, осанке, низком голосе. А потом пошли спиричуэле – знаменитые негритянские духовные песнопения, эти векам» сгущенные надежда и горечь, что мощными волнами выплеснулись из души народа и сейчас захлестнули зал. Но, наверное, и чернокожий бог так же глух и недосягаем, как и наш…
Горе чернокожего человека впервые пришло ко мне из «Хижины дяди Тома» и слилось, смешалось с первыми моими детскими печалями, рожденными «Гико-ром», «Мужичком с ноготок», «Муму», «Тилем Уленшпигелем». А потом, в зрелости, это трепетное детское отношение к старому доброму дяде Тому сменилось холодным словом «проблема», превратилось в отвлеченный, где-то там существующий вопрос. Об этой проблеме напоминали плакаты, митинги, газеты, призывающие негров к борьбе.
В Канаде, тем более в Америке, встречи с неграми на каждом шагу – обычное дело, но в памяти моей накрепко осталась одна, казалось бы, мимолетная встреча. Это было в городе Ниагара-Фолс. В тот день я была совсем одна. В незнакомом мире, среди незнакомых людей, предоставленная сама себе, я медленно прохаживалась по набережной у водопада. Навстречу шел чернокожий отец семейства с тремя детьми. Он держал за руки двоих, а тот, что постарше, бежал впереди. Отец был в темном костюме, в белой рубашке с галстуком. Лицо спокойное, обыкновенное лицо, и дети как дети – черненькие, с на редкость живыми мордашками. Держа за руку отца, они то и дело зыркали по сторонам глазенками, задавали ему какие-то вопросы. Мне показалось, что до сих пор я не видела такой благостной негритянской семьи, такой умиротворенности, без бунтующего взгляда, без напряженных мускулов. Они поравнялись, прошли мимо. Не знаю почему, я обернулась, взглянула им вслед. Вижу, у одного, самого маленького, кривые ножки, точь-в-точь как у мальчика моей деревенской соседки. Что-то стронулось во мне, какая-то ниточка протянулась между мной и ними, натягивалась и не рвалась. Кривые ножки, точь-в-точь как у мальчика моей деревенской соседки… Как похожи люди друг на друга. Отцы на отцов. Дети на детей. Я особенно ощутила это в тот миг. И «проблема» снова уступила место живому» трепетному чувству…
Горничные в гостиницах большей частью были негритянки. Входили в номер почти всегда хмурые, замкнутые, делали свое дело и такие же хмурые уходили. Они не пытались перекинуться со мной словом, хотя едва ли догадывались, что я не говорю по-английски. Для них я была белой. А белое в их глазах не только цвет – отгораживающая стена, красный глаз светофора, настораживающий, предупреждающий. Целая система восприятия…
Известный современный негритянский писатель Джеймс Болдуин говорит: «Нужно помнить, что когда я называю «белый человек», я не обязательно имею в виду цвет его кожи, я имею в виду тех, которые считают себя белыми, которые живут по определенным ценностям, точнее, при отсутствии ценностей…»
И вот получается так, что для чернокожего эпитет «белый» так же многозначен, как и для белых «черный» – черная душа, черные дни, черная жизнь и бесчисленное множество такого черного. Иногда мне хотелось сказать молчаливой негритянке, вытирающей пыль в номере: «Не гляди на меня так неприязненно, ведь у меня душа не такая белая, как тебе кажется, я не виновата в ваших белых днях, и я тоже хочу, чтобы изменилась эта белая жизнь»… Но как, на каком языке все это сказать?..
Особенно мрачно смотрела на меня горничная в нью-йоркской гостинице «Хилтон». У нее было скуластое одутловатое лицо, толстые потрескавшиеся губы. Она входила сменить полотенце или мыло, но даже от такого короткого ее пребывания у меня захватывало дыхание. В то же время я злилась на себя за то, что так нетерпима к другому человеческому созданию. Решила перебороть себя и ее. Каждое ее хмурое появление встречала радушным приветствием и улыбкой, сама убирала постель, по каждому маленькому поводу благодарила. Жесткость лица негритянки смягчалась с истощающей медлительностью, однако все же заметно. Настолько заметно, что однажды я рискнула угостить ее армянским коньяком и сладостями. Вопреки ожиданию, она подошла к столу. Я налила в рюмку коньяк, протянула ей, она не взяла, поднесла руку к левой стороне груди, жестом показала, что у нее больное сердце, пить вредно. Но взяла ереванскую сигарету, виноградную чучхелу. Я кое-как объяснила, что из Армении, из Советского Союза. Льдинки в ее глазах стали таять. Вижу – у женщины красивые глаза, огромные, добрые глаза. Вижу – улыбка хорошая. Потом каждый раз, когда она приходила, во мне возникало то же чувство, что и при встрече с негритянской семьей в Ниагара-Фолс. Мы улыбались друг другу, но произошло нечто большее: мы обе, и она, и я, где-то в вековой глубине, внутри нас, одержали победу над «черным» и «белым».
Я очень хотела, чтобы эта победа была всегда со мной, чтобы я ни на малую толику невольно не поддалась беспрерывно звучащему вокруг: «Черные», «Страх перед черными», «Из-за черных»…
В Нью-Йорке я настояла, чтобы меня проводили в Гарлем, познакомили с его обитателями. Вызвалась помочь мне в этом Алис, Алис Шагинян. Мало сказать, вызвалась – сама подлила масло в огонь, радуясь тому, что гостья из Армении интересуется такими проблемами.
– Знаешь, мне удивительно, – на своем ломаном армянском объяснила Алис, – что ты хочешь туда. Есть люди, спрашивают: «Алис, какое тебе дело, зачем ты лезешь в политику? Из-за Вьетнама ходишь на демонстрации». Как же?! Вьетнам может и моих сыновей слопать! Знаешь, мне удивительно!
Занятная личность эта Алис, родившаяся в Америке. Она из семьи активных деятелей «Армянского прогрессивного союза». Сейчас – жена фабриканта, хозяйка большого двухэтажного дома. Постоянные гости, приемы – и при всем этом скромная одежда, без всяких там колье и колец, недорогая шуба, простые туфли. Было ли это вызовом своему кругу, своей семье и своей вилле или такой она родилась и такой вот и осталась?
Алис. В моей памяти у нее особое место. Светловолосая, синеглазая, она оторвалась от американских армян и пришла, приникла к пуэрториканцам, Гарлему, негритянской поэтессе Лу Ла-Тур, художнице Валери Мейнард, но при этом осталась армянкой со своими мучительными усилиями прочесть и начертать наши трудно поддающиеся буковки, со своей детской любовью к далекой родине. В мои нью-йоркские дни мы подружились. Я чувствовала, что ее беспокойная душа искала во мне ответ на многие тревожащие ее вопросы.
Алис мне очень помогла своими многочисленными знакомствами, никак не вяжущимися с положением ее нынешней семьи.
– Я уже сказала о тебе. Моя подруга-пуэрториканка говорит на телевидении для своих, хочет, чтобы они развивались. Вечером в следующую пятницу мы должны к ней домой пойти. Там будет много-много людей, тебе у них понравится…
В условленный день Алис оставила свою автомашину в паркинге у моей гостиницы и, взяв такси, повезла меня и Ваана Казаряна, редактора армянской прогрессивной газеты «Лрабер», в знаменитый негритянский квартал Нью-Йорка. Таксист нашел дом, и мы, поднявшись на несколько ступенек, вошли в нужную нам квартиру.
Собственно, это трудно было назвать квартирой: нечто вроде длиннющего высоченного коридора, разделенного самодельными книжными полками. Не знаю, как днем, но при вечернем освещении все это было похоже на бетонированное дупло, колодец с маленьким, еле заметным оконцем. Несмотря на это, хозяйка дома, та, что, по словам Алис, «говорит на телевидении», была счастлива этим уголком, и сегодня собрались у нее по случаю новоселья.
Нас ждали, встретили приветливо, особенно хозяйка, Дульсия Байкан. Тоненькая, коричнево-смуглая, с умными глазами, она сотрудничала в той редакции телевидения, что вела передачи для Пуэрто-Рико.
В Соединенных Штатах около полутора миллионов пуэрториканцев, большинство из которых пребывает на самой нижней ступеньке социальной лестницы – чернорабочие. Их родина – Пуэрто-Рико, первый из островов Вест-Индии, куда ступила нога испанцев, но который, однако, с начала нашего века живет под эгидой Соединенных Штатов. На этом острове смешались пришельцы и аборигены, коренное население постепенно исчезло, видоизменились и испанцы, и привезенные из колоний рабы-африканцы. И сейчас жители острова называются пуэрториканцами, язык у них испанский, кожа – смесь черного, белого и красного, черты лица – тоже, а душа?..
Какая она, я ощутила явственно в квартире Дульсии Байкан, куда люди все приходили и приходили. Они стояли уже впритык друг к другу, сплошняком; это двущельное дупло с каждой минутой все больше и больше забивалось крепко сколоченными парнями и яркогубыми девушками с черными и коричневыми лицами, угольно-смоляными глазами, где белки как острие клинка. И с каждым входящим в воздухе что-то сгущалось, везде и во всем – в звуках, вылетающих из магнитофона, как из жерла пушки, в яростном топоте танцующих, в судорожных бросках рук и ног, в беседе стоявших по стенкам людей. И в том, как они стояли, и в том, как они молчали, во всем этом было нечто большее, чем то, что обозначается такими известными словами, как «ненависть», «вражда», «бунт», – всеми такого рода словами из словаря белых. В лексиконе чернокожих, наверное, есть особое слово, которое непереводимо и в котором заключено то, что было в этих глазах, душах, воздухе…
Сказать, что с нами, «белыми воронами», не были любезны, было бы неправдой. Наоборот, нас окружили, на наши вопросы с готовностью отвечали, обменивались адресами. Кто-то снимал, предлагал обменную выставку с армянскими фотографами. Другой, который оказался поэтом, подарил мне свою книжку, третий прочел свои стихи: «Не продавай свой остров, даже если тебе дадут за него все сокровища мира. Знай: продашь свой остров– продашь свою жизнь, себя продашь… Не продавай свой остров».
Молоденькая девушка с экзотическим именем Фигероа сказала:
– Я не знаю испанского, в школе тех, кто говорил по-испански, наказывали. А мать моя не знает английского, мы с ней через сестру разговариваем. Я ненавижу английский, он разлучил меня с матерью.
Хозяйка подарила мне маленькую глиняную маску работы народного мастера-гончара, пригласила в телестудию посмотреть документальные фильмы из жизни пуэрториканцев. Жаль, что это было накануне моего отъезда и я не смогла пойти. Но мне кажется, что бы я ни увидела на тех лентах – историю Пуэрто-Рико, памятники старины, тяжкие будни, смятение народа, потерявшего свою землю и независимость, – все равно в мою память сильнее всего впечатался бы этот вечер.
Было два часа ночи, но гости все прибывали и прибывали, даже стоять уже было негде, и нам показалось вполне естественным, что не вмещающаяся в сосуд масса в первую очередь должна «вытеснить» то, что было лишь физическим соединением, а не растворилось «химически» в основном составе.
По поручению хозяйки какой-то бородатый молодой человек, немногословный и сосредоточенный, проводил нас до такси. Вокруг притих опустевший ночной Гарлем, улицы были не такие, какими я их себе представляла, – широкие, прямые, четко спланированные. Обычные четырех-пятиэтажные дома, не лачуги, как мне виделось издалека. Освещен Гарлем был больше, чем некоторые улицы в центре, и это, наверное, не от хорошей жизни…
Через два дня я увидела и дневной Гарлем. К прежнему впечатлению прибавилась подсвеченная солнцем дряхлость обветшавших домов, закопченные фасады с облупившейся штукатуркой, окна с разбитыми стеклами, кое-как заделанные фанерой и жестью. На тротуарах смешались снег и мусор. Сравнительно целым и крепким было здание школы, старое, добротное строение. Побывать в этой школе входило в мою программу того дня.
– Туда приедет одна очень великая женщина, очень известная среди черных поэтесса. У нее много книг, она почетный профессор девяти университетов мира. И она сама покажет нам эту школу, – с утра оповестила Алис.
Когда мы вошли в школу, нас встретила та самая, по словам Алис, «очень великая женщина» поэтесса Лу Ла-Тур. Она и впрямь была выдающейся общественной деятельницей, автором многих поэтических сборников, одним из создателей организации «Центр ресурсов поэтов мира» и, как написано на обратной стороне открытки с ее портретом, «посвятила жизнь истории Африки».
Лу Ла-Тур, немолодая, худощавая, нервная, с первых же минут знакомства включила нас в свой ритм, невольно заражая его напряженностью.
Школа носила имя Гарриет Табмен, рабыни-негритянки, родившейся в прошлом веке в городе Мэриленд и ставшей легендой. Вместе с повстанцами она сражалась против рабовладельцев, равно пуская в ход и немилосердное ружье, и сумку сестры милосердия. Дух этой легендарной женщины живет во всей атмосфере школы, в учителях и учениках, во всем этом старом здании с полутемными классами.
Вместе с педагогами мы обошли учительскую и классы. Школа, по-видимому, усвоила методы преподавания известного итальянского педагога Монтессори. Всюду, какой бы класс мы ни вошли, малыши были поглощены своим делом: кто рисовал, кто был занят игрушками, кто лепил из пластилина фигурки под наблюдением, но не под командованием учителей.
Госпожа Лу Ла-Тур что-то говорила, и десятки черных головок поворачивались ко мне. Многое хотелось мне им сказать, хотелось, чтобы эти ясные, широко открытые глаза всегда оставались такими, чтобы души их не заливали темные волны ярости, ненависти, чтобы… Говорят, дети инстинктивно чувствуют настроение человека. Может быть, поэтому они так тесно окружили меня, а какая-то девочка подарила нарисованную ею картинку. На ней две громадные, большеголовые ромашки, раскрашенные ярко-желтым и оранжевым. Обе без стеблей, как два солнца.
Я привезла эту картинку с собой вместе с другими – подарками армянских детей Детройта, Филадельфии, Бостона. Правда, почти на всех тех картинах изображен Арарат, но как знать, может быть, девочка, выросшая в Гарлеме, в свои две ромашки вложила такую же тоску и мечту, как те в Арарат.
В учительской со стены смотрит цветная фотография Мартина Лютера Кинга. Я видела много портретов Мартина Лютера Кинга, этого современного негритянского Христа, распятого расистами в Мемфисе. Здесь, в Гарлеме, в негритянской школе имени Гарриет Табмен, эта фотография приобретала особый смысл. Он был снят молодым, полным сил, но глаза у него были грустными, и в грусти его была та же удивительная сила, как и в спиричуэле, спетых Одеттой.
Жизнь и смерть этого чернокожего мученика – вечное клеймо на лбу «белого мира». Белое клеймо… Выпущенная 4 апреля 1968 года в Мемфисе пуля была направлена не только в Мартина Лютера Кинга, а в веру чернокожих людей, что можно, взывая к чести и совести государств и сенаторов, добиться истинного равноправия. После этой пули в Америке еще неистовее стала черная ненависть, в ста пятидесяти трех городах вспыхнули негритянские мятежи, ничто не могло остановить ярость людей, бросившихся на баррикады…
С того дня прошли годы. Теперь на улицах баррикад больше нет, но они остались в душе каждого негра, и эти баррикады разрушить труднее. Многовековое угнетение, безнаказанное унижение, белый «эмоциональный расизм» – все эти действия вызывали противодействие. Вели раньше слово «чернокожий» воспринималось как оскорбление, теперь, наоборот, черный цвет стал для черных своего рода девизом, вызовом, кличем. Они учат своих детей гордиться тем, что они черные. Тот же Джеймс Волдуин свою книгу «Имени его не будет на площади», это страстное обвинение Америке, начинает следующими словами: «В то время как черный гордится своим новообретенным цветом, который наконец-то стал его собственным, и утверждает (не всегда с чрезмерной деликатностью) значимость и силу своего «я»– даже на краю гибели, белый нередко чувствует себя оскорбленным и очень часто насмерть перепуганным… Рано или поздно черные и белые должны были достичь этих невероятных высот напряжения. И только когда мы проживем этот момент, нам станет ясно, что нас сделала наша история».
Несомненно, что писатель пессимистично оценивает возможность человеческого разума, его способность противостоять хаосу и разрушению. Крайне пессимистично смотрит он и на существующие в Америке прогрессивные силы, на деятельность американских коммунистов, последовательно борющихся за окончательное и действенное осуществление гражданских свобод негров. Однако вышеприведенные слова Болдуина свидетельствуют и о том, что взгляды тех американских политиков, которые стараются уверить публику, что чем дальше, тем быстрее происходит интеграция негритянского населения, столь же безосновательно сверхоптимистичны.








