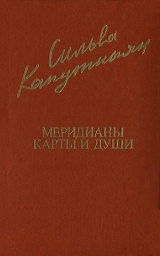
Текст книги "Меридианы карты и души"
Автор книги: Сильва Капутикян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Мы сидели прямо у сцены, и даже отсюда, из такой близи, невозможно было представить себе, что это были мужчины, настолько изящны и женственны их движения, так естественно по-женски они кокетливы. Но в конце концов все это зрелище вызвало смешанное чувство – в нем было и удивление, и жалость, и буквально физическое неприятие.
6 июня, Ереван
Хотя Урартийская крепость царя Аргишти, находящаяся на юго-восточном холме города, и свидетельствует о том, что Еревану 2750 лет, тем не менее это один из самых молодых городов мира. Ведь Ереван стал Ереваном только в последние пятьдесят лет. Несмотря на это, в городе много памятников, обелисков, скульптур. Один приезжий журналист написал о Ереване, о городе, который насчитывает уже восемьсот тысяч жителей, что улицы его по-домашнему уютны, что они – как холл в огромной квартире, как интерьер.
Среди ереванских памятников есть один, у которого своя особая биография. В саду, расположенном между улицами Теряна и Абовяна, словно растут из земли, поднимаются вверх две белые мраморные руки, тянутся друг к другу для пожатия…
– Что это? – интересуется каждый, кто видит это впервые.
И ереванцы с гордостью отвечают:
– Это нам прислали из Каррары. Каррара и Ереван – города-побратимы. Мы им послали старинный хачкар – крест-камень, – а они нам эти руки… Вы, конечно, знаете, что из каррарского мрамора сам Микеланджело ваял свои статуи.
Наверное, на свете много городов-побратимов, но в нас живет простодушное желание во всем видеть еще больше, чем есть. Тянущиеся друг к другу руки мы уже сливаем в крепком рукопожатии. Ведь земля наша веками тосковала по братскому рукопожатию, по искренности, по дружбе…
Эту нашу склонность к преувеличению очень быстро раскусил известный итальянский писатель Альберто Моравиа. Он пробыл в Армении всего два-три дня, держался суховато, можно сказать, даже сурово, – словом не «по-итальянски». Однако, вернувшись в Италию, написал об Армении очень тепло. Все в этой стране воспринимается через ее внутреннюю суть, говорит Моравиа, все в ней имеет двоякий смысл, даже обычный коньяк, который для любой другой страны лишь напиток, полученный из винограда, для армянина свидетельство силы и энергии родной земли…
В гостинице «Ани» Армянское общество по культурным связям с заграницей устроило прием в честь делегации губернаторов автономных областей Италии во главе с сенатором Джеразио Адамоли. Прием этот завершал проводившуюся в Армении «итальянскую неделю», в течение которой в кинотеатрах шли итальянские фильмы, в библиотеке имени Мясникяна была выставка итальянской литературы, в Доме художников можно было в эти дни ознакомиться с изобразительным искусством Италии, в детской картинной галерее – с выставкой «Италия в рисунках армянских детей». Словом, были самые разные встречи, выставки, приемы.
Я вошла с опозданием, когда имеющий «двоякий смысл» армянский коньяк уже воспользовался своим прямым смыслом, подогрел и без того горячую итальянскую кровь, когда все смешалось, – музыканты и гости, танцующие и не танцующие, когда стерлись не только протокольные точки и двоеточия, но даже и запятые. Чопорные, казалось бы, дипломаты с упоением включились в буйный, запыхавшийся ритм твиста…
Сказать, что подобные встречи редкость для нас, неверно. Каких только премьеров и королей, представителей дипломатического корпуса и государственных деятелей не принимала Советская Армения! А все-таки каждый раз заново радуешься… Вот и теперь, глядя на этих разгулявшихся итальянцев, я думала: добро пожаловать в Армению, друзья, вы все время повторяете, что чувствуете себя тут как дома. Да, мы вроде бы схожи и нравом, и историей. Вернее, началом истории. А потом века по-разному распорядились нашей судьбой. Но не стоит омрачать сегодняшнее веселье грустными воспоминаниями о давних временах. Лучше будем делиться радостью. Нам приятно, что ваши архитекторы колесят по Армении, чтобы заснять наши монастыри, хачкары, мосты, караван-сараи, и все эти фотографии, можно сказать даже с неким благоговением, издаются у вас. Итальянские архитекторы так же, как и мы, верят в то, что камни, будь они даже разбиты, изранены, все равно метрика народа, свидетельство его рода и племени.
А то, что коньяк наш крепок и он «не просто коньяк», так же как здание нашей Оперы не просто здание, а Арам Хачатурян не просто композитор, и его «Танец с саблями» не только стремительность ритма, – все это стало ясно нашим итальянским гостям на премьере балета «Гаянэ», еще до этого приема.
Балет был на диво праздничным. Вилен Галстян – и автор либретто, и постановщик – исполнял главную роль. Исполнял ее вдохновенно, с присущим ему даром соединять пластичность с силой и мужественностью. Классический сюжетный треугольник обрел новые краски. Любовь, ревность, ярое полыхание зла и в конечном счете победа добра и красоты. Новая постановка была и оформлена по-новому. Талантливый Минае Аветисян внес в двадцатый век ритм и краски старинных армянских миниатюр, сообщил им стремительность и напор этого века. А музыка была все той же – все те же летящие, искрометные звуки «Танца с саблями». И вдобавок ко всему в одном из кресел амфитеатра сидел сам Арам Хачатурян, поседевший, погрузневший под натиском лет.
В конце спектакля все смешалось: сцена слилась с залом, по залу прокатилась волна оваций и на гребне своем подняла, понесла взволнованного Арама Хачатуряна. Сколько таких мгновений было в его жизни! Если сложить их, получатся дни, месяцы, годы. Одного из тысячи таких мгновений достаточно, чтобы осветить им всю биографию человека. И вот ведь – одному досталось столько. Так и бывает! Природа свои дары не делит поровну, поэтому и оценка этих даров тоже не бывает равной. Скажем и то, что в судьбе человека искусства огромную роль играет время. Можно явиться на этот свет с большим талантом, но явиться не в свое время – либо ранее, либо позже. В таком случае не состоится встреча таланта со временем – та чудотворная встреча двух зарядов, of которой рождается молния. «Искра божья» Хачатуряна сверкнула в доброе время, когда народ наш, оправившись от потерь, испытывал радость возрождения. И Хачатуряну выпало воплотить в звуки дух этого возрождения, высвободить из-под многослойных веков народного горя ждущую своего часа буйную радость, точно так же, как Мартиросу Сарьяну вызволить из этих веков зеленые и праздничные пурпурные краски, Чаренцу слить с движением «неистовых толп»[42] священное горение своего слова, А. Таманяну вновь водрузить на колонны рухнувшие капители Звартноца…
На следующий день зритель увидел опять «Гаянэ» на сцене Оперного театра, опять гром аплодисментов, опять в зале воодушевление и восторг. И еще, пожалуй, в большей степени, чем накануне: по счастливому совпадению это был и день рождения Арама Хачатуряна. Такие дни рождения принадлежат не только семье именинника, не только его матери, отцу, жене, детям и даже не только залу, до отказа набитому людьми, – они принадлежат народу, стране.
После балета большой компанией – тут были и композиторы, и художники, и артисты – мы пошли, чтобы рюмкой коньяка отметить тот день, когда в скромном домике в Авлабаре, одном из районов Тифлиса, родился Арам Хачатурян. Пошли в то самое кафе при гостинице, где вчера веселились итальянцы. Сегодняшнее застолье выглядело по-иному. Если итальянцы чувствовали себя «как дома», то мы были просто «дома». Разве важно, что, скажем, с Виленом Галстяном или Минасом Аветисяном я сиживала за столом не часто, – все мы были единой семьей, близки не только (и не столько) по крови, но и духовно, своими помыслами, призванием своим.
Минас молча сидел в углу стола, сидел и говорил как бы сам с собой. Только раз встал, подошел ко мне, чокнулся и снова вернулся на свое место. Одет он был очень современно, элегантно: отлично сшитый костюм, яркая рубашка, яркий галстук. Длинные волосы, борода, усы, которые некоторым придают какой-то чужеватый, «западный» облик, Минаса делали похожим на средневековых наших летописцев. И внешность Минаса соответствовала его искусству. В нем не было ничего напускного: мол, «мы из народа», ничего «нарочито национального». И вместе с тем во всем его обличье жило строгое благородство селянина, его сила и спокойная уверенность. На полотнах Минаса встретишь не так много видов монастырей, армянских орнаментов, почти нет Арарата. Но сколько Армении в раскаленной красноте его домов, похожих на часовенки, в осанке его крестьянок, в том, как сидят они, скрестив на груди руки, в тяжелой согбенности мужских плеч. Минае не заезжий художник, которого привлекает в Армении экзотика – Севан, Звартноц, зангезурские одеяния, золотые и серебряные нити монет. Севан и Звартноц – в крови у Минаса, во всем его естестве. Диву даешься, откуда в пареньке родом из села Джаджур такой натиск новизны, такой органичный сплав ее со стариной, откуда в нем такая закваска.
В каких только неожиданных местах не разверзается кратер народного гения, где только не выплескивается его лава. То в селе Джаджур, то в Чанахчи, то в Авла-баре, да мало ли где еще. И какое счастье, что Хачатуряна окружила молодежь, что она есть, что она грядет…
Вышли на улицу толпой, в середине ее именинник. Было поздно. Не знаю, кому как, а мне в ночном безмолвии улицы говорят больше, чем днем. А в эту ночь улица Саят-Новы не только говорила, она пела, звучала, у нее были слова и строфы. Улица, улицы, весь город казался продолжением Оперного театра. Словно еще не умолкли аплодисменты, еще сверкали глаза, еще стояли в проходах люди…
Какие только города не встречали Арама Хачатуряна, До каким только улицам он не проходил, и всюду следом за ним шла его трудно выговариваемая фамилия, которую он заставил произносить с почтительным восхищением. Но нигде в мире не пройдет он по такой улице, которая звенит, как трепетная струна каманчи Саят-Новы, нигде не будет такой ночи, когда каждый уголок на родном наречии нашептывает тебе бабушкины сказки. Нигде в другом месте, выйдя из зала, не почувствуешь город его продолжением, нигде он не дохнет тебе в душу тем единственным запахом молока, что называется материнским…
Человек может жить где угодно, может странствовать по свету, но у него должен быть город, село, поселок, который был бы с ним всегда и всюду, на любых дорогах. Должен быть святой кусочек земли, чтобы человек ежеминутно мог чувствовать ее тепло под своей стопой. Только этот кусочек земли помогает ему твердо стоять на земле, где бы он ни находился…
7 июня, Егвард
Нам было о чем поговорить с Виленом Галстяном, поскольку и он только что вернулся из Канады. Рядом с нами шумела речь, подогретая застольем, а нас все тянуло на узенькую, заметную нам одним стежку тихой беседы.
– Как там Сона Варданян, вы ее видели? – спрашиваю.
– Видел. Дом купили в рассрочку. А сама Сона, как вы знаете, в балете да еще дает частные уроки.
Вилен недели две назад заехал ко мне в Егвард. Сказал, что новая постановка «Гаянэ» уже готова, ему хотелось бы, чтобы в театральной программке, которую тоже будет оформлять Минае, наряду с либретто было напечатано еще несколько поэтических строк. Собственно, это и привело его ко мне, и я не смогла отказать ему в его просьбе. Вилен пробыл в Егварде около часа, рассказал, как ему живется, вскользь признался, что тесновато им с женой и ребенком в однокомнатной квартире. Весь остальной его рассказ был заполнен балетом, гастролями в Большом театре, его «Гаянэ», Минасом, их общими поисками и находками, – одним словом, той широкой, захватывающей жизнью, в которой забываешь о тесной комнатенке.
– Сона довольна? – прорываюсь я опять к прежней тропке нашей беседы.
– Да как вам сказать… Вроде бы довольна…
А мне вспоминается, как на второй день пребывания в Монреале меня пригласили вечером в армянскую семью. Среди гостей невысокая, с ладной фигуркой девушка в черном свитере. Она все время безучастно молчала. Где-то в конце вечера спросила:
– Вы меня не знаете? Я из Еревана. Сона Варданян, танцевала в балете. Была солисткой в «Жизели», в «Лебедином озере».
И я вспомнила: имя Соны Варданян часто мелькало на афишах, в программах балетных премьер. Поинтересовалась, каким ветром ее занесло сюда. Оказалось, вышла замуж за студента, который учился у нас и…
– Что здесь будете делать?
– Поступила в канадский «Гран бале».
Какая-то тревожность на бледном лице Соны, светящемся над высоким глухим воротником черного свитера. На другой день в зале «Плато» она исполняла народный танец «Махмур ахчик»[43] И мелодия была близкой, и публика армянская, – казалось, все есть. Ан нет. Ноги Соны словно с трудом отрывались от сцены, в движениях не было легкости.
На этом вечере после моего рассказа об Армении за кулисами ко мне подошла Сона.
– Вы все во мне опять всколыхнули, – раздался в полумраке ее голос.
– Я ничего не преувеличила?
– Нет, все правда. – Голос ее дрожал.
В Монреале на вечере Союза культуры имени Текея-на объявили о выступлении молодой пианистки Азнив Кананян. К роялю подошла крупная, полная девушка и начала исполнять «Токкату» Хачатуряна. Но вдруг где-то в середине сбилась, перепутала и, нервно хлопнув крышкой рояля, быстро вышла из зала. Многие недоуменно переглядывались.
– Она из Армении. Видно, вас увидела, разволновалась. Говорят, всей семьей собираются обратно, – объясняют мне.
В перерыве ко мне подошел невысокий, хрупкий паренек. Голос у него срывался, не разобрать было, что хочет сказать. Единственное, что я уловила, – это то, что желает поговорить со мной наедине. Заметив, что я колеблюсь, уточнил:
– Я из Армении, я…
Мы условились о встрече.
В гостиницу он пришел не один, а с отцом. Парня звали Хачик, отца – Барунак, фамилия их Маджарян. Отец поведал мне невеселую историю. Он родом из Малатии. В 1915 году вся их семья погибла, осталось лишь двое братьев. Жили они в Египте. В сорок шестом решили ехать в Армению. Барунак с женой и ребятишками уехал раньше. А брат так и застрял. Несколько лет назад он написал: «Мы решили всей семьей податься в Канаду. И вы давайте с нами. Старость не радость, а вместе все же полегче». У Барунака была в Ереване хорошая работа – чертежник в Научно-исследовательском институте цветных металлов. Он оставил все и, забрав жену и двоих сыновей, отправился по приглашению брата в Монреаль…
– Поверьте, из любви к брату, только из любви к брату… Больше никаких причин.
– А он тебе свою любовь хорошо доказал… – вмешался Хачик.
Но отец прервал его:
– Это к делу не относится… Ну, короче говоря, назад хотим… Уже подавали прошение, нб получили отказ. Теперь второе подали…
Смотрю на них – сидят, беспомощно сгорбившиеся, в уголке плюшевого гостиничного дивана, дважды осиротевшие, да какое там дважды – трижды! Потеряли Малатию, потеряли Ереван, а теперь вот совсем чужие в Канаде…
– Вместе с братом живете?
– Как же! – снова не сдержал обиды Хачик. – Через несколько месяцев пришлось квартиру снять.
– Характерами не сошлись?
– Еще как не сошлись! Они нас все не туда, не к тем тянули, на Армению взирали с высока…
– Ну, это другой вопрос, это к делу не относится, – снова прервал Хачика отец. – Очень просим, тикин Капутикян, помогите… Поедете – объясните там, что ошиблись, что…
В глазах пожилого человека блеснули слезы.
И у меня в горле запершило. Моя непреклонность дрогнула.
– А знаете, ведь может так быть, что вернетесь и вам квартиру не скоро дадут. Люди стыдить станут… Словом, нелегко придется…
– Знаем… Многие бы вернулись, да сраму боятся. Другим не признаются, а между собой толкуют об этом.
С того дня Хачик навещал меня почти ежедневно, говорил о том, о чем не осмеливался ни с кем говорить вот уже два года.
– Да, мы виноваты, очень виноваты… Но ведь даже опасные преступники, отсидев пять – десять лет, выходят на волю, а мы… сколько нам еще здесь отсиживать… Пусть десять, пусть двадцать лет, но все равно вернусь…
А за этими вспышками следовали воспоминания:
– Мы жили на улице Щорса. Знаете дом Галенца? Художника. Так вот возле них. Мы с сыном Галенца, с Capo, вместе росли… Уж так мне не хотелось уезжать, но и без родителей жизнь не жизнь, уломали меня… Когда в Москве купили билеты в Канаду, я сбежать хотел, в Ереван вернуться… Никак мне здесь не прижиться. Вам-то этого не понять, вы тут всего несколько дней…
– Может, оттого, что языка не знаешь…
– Нет, не только в языке дело. Здесь люди другие, каждый как-то сам по себе. Замкнуто живут, тепла у них нет для других. Дом, работа, работа, дом – вот и все. Рестораны, заведения всякие, магазины – это все внешнее. Вернетесь в Ереван, расскажите, напишите, убеждайте– пусть не оставляют родину, никто, никогда.
Как и отец, Хачик раньше работал чертежником в «Армсельхозпроекте». За эти два года его душа изболелась. Он с трудом подыскивает сейчас слова, чтобы выразить свое состояние.
– Знаете, сам не понимаю, что со мной происходит. Ереван меня, как магнит, тянет. Хочу оторваться – и не могу. Не от меня это зависит, поверьте мне.
Странное дело – и я привязалась к Хачику. Слушала, прикидывала и так и сяк, старалась понять, что стоит за его словами. Наверно, так же врач привязывается к больному, когда нападает на след болезни и каждое показание, описание самочувствия подтверждают поставленный врачом диагноз…
Несмотря на то, что времени у меня в обрез, я выкроила все же несколько часов и по просьбе Хачика приехала к ним домой.
Они жили далеко, на окраине города. Хачик своим косноязычным английским сбил водителя такси с толку, и мы колесили зря минут сорок – пятьдесят. Небольшая квартира с голыми белыми стенами. Стол, несколько стульев, диван. Объяснили так: раз мы ждем разрешения вернуться, новую, более удобную квартиру снимать незачем. Материально живется им неплохо. Всей семьей работают на обувной фабрике.
Приняли меня с каким-то иным чувством, отличным от того, которое я обычно ощущала в других армянских здешних домах. Там тоже, разумеется, в госте из Армении видят Армению. Но у этой семьи была своя Армения! с узенькой улочкой Щорса, где находился их дом № 49, с небольшим садом, где играли, росли Хачик и Мигран, где каждый выходной собирались к ним друзья. Их Армения– это школа имени Агаяна и пионерский лагерь, Институт цветных металлов, сослуживцы, друзья, бесконечные мероприятия: проверка соцобязательств, доска Почета, квартальная премия, Октябрьские и Первомайские праздники. Их Армения – это прожитые там двадцать – двадцать пять лет, и я вот сейчас явилась оттуда, из этих прожитых ими лет, из их Армении. Ц все-таки я была их и уже не их, так же как Армения была их и уже не их… И все это по собственной вине…
Мать плакала навзрыд.
– Я перед детьми виновата, я их увезла. Там, дома, каждый выходной будто свадьбу справляли. Соберутся друзья – аккордеон, песни… А теперь у нас как траур… Гляжу на Хачика – сердце на части рвется… Помогите нам вернуться! Ради детей прошу…
После кофе Хачик стал показывать семейный альбом, газету «Айастани физкультурник».
– Почитайте. Это мне товарищ прислал. Тут про то, что «Арарат» стал чемпионом. Нам все газеты присылают…
Открываю альбом: вот они в детстве, Хачик и Мигран, в пионерских галстуках, вот их дом, сад, родня, отец в институте, за рабочим столом. На последних страницах альбома открытки с видами Еревана: площадь Ленина, Матенадаран, детская железная дорога. А дальше вклеены вырезки из наших газет. Здесь, в Монреале, они тоже, эти открытки и вырезки, как фотографии родни.
Листали альбом, и вспыхивали воспоминания.
– Меня на работе уважали. Директор в последний день сказал: «Если плохо будет, товарищ Маджарян, возвращайтесь». Ведь я немало проработал там, двадцать лет. Сразу, как из Египта приехал, туда устроился…
Хачик, воспользовавшись тем, что отец весь в воспоминаниях, снова возвращает меня к альбому:
– Видите эту девушку?
– Невеста?
– Нет, но… Сами посудите, разве мог я такую девушку сюда, в эту пасть, затолкать?
Смотрю – девушка как девушка, черноглазая, кудрявая, более чем обыкновенная ереванская девушка.
– Говорят, вы отсюда в Америку собираетесь? – встревает мать. – На что вам эта Америка? Что вам там делать?
Глубокий надрыв в душах этих людей. Они ненавидят «обещанный рай», сорвавший их с места и ставший причиной их бед и мытарств. И, решив вернуться в Армению, на сей раз видят здесь только темное, не позволяют себе заметить даже лучика светлого, чтобы – не приведи господи – вдруг не изменить решения…
Что-то похожее происходит и с теми, кто оставляет Армению. Они яростно отшвыривают все доброе, чернят самое светлое, рубят сплеча, рвут узы, связывающие их с нею. И не подозревают, как однажды затоскуют по этим же узам, по тем дорогим нитям, что долгие годы тянулись от них же самих, сплетались в общую пряжу, которая была их жизнью, их биографией.
– Мы из Египта приехали сразу после войны, – вспоминает отец. – Тяжелые были годы: хлеба нет, продуктов нет… Однажды смотрю – у нас на работе переполох. И меня зовут. «Пошли, говорят, товарищ Маджарян, на картошку записываться». Я обалдел: что это значит «на картошку записываться»? Потом, конечно, разобрался уже, что к чему…
«Записываться на картошку» – в этих двух словах время, большой отрезок его, чередование и горького, и радостного вперемежку. Этого не поймет никто из тех, кто не «записывался на картошку», не получал ее по карточкам, не делил со страной всех горестей и радостей… А Маджаряны это понимают. И я это понимаю. И это нас как-то соединяет, сближает. И когда в дверь позвонили и вошел один из моих респектабельных монреальских знакомых, чтобы подвезти меня в гостиницу, мне вдруг показалось, что с приходом этого человека нарушилось нечто, что принадлежало нам, нам одним…
9 июня, Ереван
Опять Хачик, Маджарян Хачик. Вот уже больше недели, как он здесь. Приехал в Ереван туристом. Мои попытки содействовать возвращению его семьи не дали пока результатов.
– Уже не надо, – печально говорит Хачик. – У пас в семье перемены. Брат обручился. Родители потеряли надежду на приезд сюда, сняли новую квартиру.
– А ты как?
– Я… я вчера подал заявление в ОВИР, решил остаться.
– А что будет с квартирой? – сразу спрашиваю я.
– У Валиной семьи две комнаты. Пока там будем. Но не в этом дело. Тяжело мне, тикин Капутикян, очень тяжело. Семья у нас очень дружная. Мать, когда узнает, что я остался, с ума сойдет.
Хачик рассказывает, что Валя встретила его в аэропорту, вместе приехали в город.
– Сперва не верилось, что я тут. Как сон, один из тех, что в Монреале видел. А потом, как встретился с Capo и другими ребятами, заглянул в наш дом, показалось, что никакой Канады и не было, никуда я отсюда не уезжал… Пошел в свой институт. Говорят: «Иди к нам, работа найдется». Друзья так обрадовались, а уж я… Тут ведь все другое. Человек должен там пожить, чтоб узнать цену всему этому…
Во время моей поездки, случалось, и в других городах подходили ко мне после встреч кое-кто из тех, кто Приехал сюда «по второму заходу». Не могу сказать, что все они вызывали во мне такое сочувствие, как Хачик. Чаще всего вспыхивал протест, и я с трудом себя сдерживала.
В Лос-Анджелесе после моего вечера мы зашли в кафе поужинать. Напротив меня сидел человек, лицо которого показалось знакомым. Выяснилось, что он уехал из Армении, где работал корректором в издательстве.
– А здесь что делаете? – спросила я, просто чтобы не молчать.
– Здешняя колония выхлопотала время для передач по телевидению. Помогаю им в этом. Хотим попросить и вас дать интервью. Если вы не против, я буду вести передачу. Ну, а если против, найдут кого-нибудь другого…
– Нет, нет, зачем же другого? – подал голос кто-то из сидевших рядом. – Он отличный ведущий, пусть будет он!
– Нет уж, пусть будет не он, – выпалила я.
– Почему? – удивились вокруг.
– Он сам знает, почему. – И перевела разговор на другое, чтоб не залезать в эти дебри…
Потом старалась не смотреть в сторону этого человека, но мысленно продолжала спор с ним: сам оставил Армению, а теперь собирается задавать мне вопросы о том, как живет и процветает Армения. Где же логика?..
Бывший корректор был растерян, жалок. Потом я узнала, что телевидение не основное его занятие. Продает где-то пончики.
Еще мне запомнилась вечеринка с местными армянами во Флориде, в городе Форт-Лодердейн, в зале при том доме, где жили Татосяны. За небольшими столиками в зале сидело человек пятьдесят – шестьдесят, в основном люди пожилые. После «торжественной части» фотографировались. Я заметила, что у нескольких молодых ребят ереванский говор. Выяснилось, что они «из Армении», брат и сестра Татуряны. Во мне тут же сработал условный рефлекс.
– Что так помрачнели? – спросил молодой человек.
– А чему радоваться? Чем вам так плохо пришлось в Армении? Есть нечего было?
– Нет, очень даже было. Фотографом работал. Зарабатывал как следует. Так вышло. Довели нас, тикнн Капутикян. Управдом так извел отца, что тот слег, бедняга. Ахпарами[44] называли нас, потому что репатрианты.
– У каждого из нас могут найтись поводы для обиды. Всем, что ли, бросить все и разъехаться в разные Флориды?
Несколько человек из Майями ждало конца вечера, чтобы отвезти меня в свой город. Татуряны больше не попались мне на глаза. Я поднялась к Татосянам, в свою комнату, собрать вещи, а когда через полчаса спустилась, смотрю, у подъезда стоят они, дожидаются.
– Как? Вы еще не ушли? – удивилась я. – Чего здесь застряли?!
– Вы на нас так не смотрите, тикин Капутикян, – насупился молодой человек. – Вам кажется, что эти местные, с которыми вы сейчас поедете, больше патриоты, чем мы? А ведь мы сегодня проделали путь длиной в два Севана, чтобы вас послушать, ваш рассказ об Армении.
Что тут скажешь? Грустно кивнула бывшим соотечественникам и отошла…
Еще больший повод для грусти был в Бостоне, в субботней школе при церкви Святой Троицы. И там меня охватило тягостное чувство, когда я говорила с ребятишками и видела, что слова мои оставались безответны, что огромных усилий стоит им припомнить то или иное слово, выговорить его. Только один мальчонка лет восьми-девяти с решительными синими глазами при каждом вопросе поднимал руку.
– Ребята, кто может прочесть стихотворение?
– Я! – И мальчик декламирует «Слово сыну».
– Ребята, кто может назвать столицу Армении?
– Я могу – Ереван…
– Ребята, кто может спеть?
– Я спою…
– Как тебя зовут, детка? – обрадованно спрашиваю я.
– Ашот.
– Молодец, так хорошо выучил армянский.
– А я из Еревана…
И все встает на свое место. Вернее, все переворачивается с ног на голову. И мимолетная радость сменяется горестными раздумьями. А мальчик тем временем звонким голосом поет знакомую песню:
Ереваном стал мой Эребуни.
Ты мой новый Двин, новый мой Ани[45].
Мальчик сел, а я все не могу оторвать от него глаз.
– Скучаешь по Еревану?
– По товарищам скучаю, по школе…
Ашот приехал из Еревана месяцев шесть-семь назад. Он ребенок, а у детей переломы заживают быстро, даже душевные переломы. Обзаведется новыми друзьями и в новой школе забудет песню «Ереваном стал мой Эребуни…»
А те, кому уже пятнадцать-шестнадцать, чей характер уже почти сформировался, те с трудом приживаются и во Франции, и в Америке, и в Бейруте. Они восстают против родителей, пытаются в одиночку вернуться назад… ОВИР и Министерство внутренних дел Арменни частенько занимаются разбором заявлений, присланных из Аргентины, Франции, Бейрута. Бывает, приезжают в Армению туристами и решительно требуют: «Не уедем больше отсюда, что хотите с нами делайте». Но увы, в тот же ОВИР поступают и другие заявления – с просьбой о разрешении на выезд.
– Нужно двери шире распахнуть. – У меня дома в Ереване сидят Хачик и Валя. Ее личико озабоченно, напряжено. – Чтоб можно было в любое время, когда и куда захочется, туристом съездить. Увидят, что заграница не то, что им кажется, – продолжает она.
– Это мало поможет. Одно дело – проехаться туристом, а другое дело – жить, – вставляет Хачик.
Его просьбу уважили, он остался, женился, однако… Валя давно лишилась отца, жила с бабушкой, дядей и его женой. Их старый дом снесли и дали на четверых двухкомнатную квартиру. Когда умерла бабушка, Валя поняла, что вконец осиротела, а еще глубже почувствовала это теперь.
– Мне комната полагается, но они…
– Да все бы ничего, работали бы, комнату снимали, а там, глядишь, и дали бы нам квартиру, – говорит Хачик. – Дело не в этом. Мать как узнала, что я остался, слегла… Отец пишет: если не вернусь, не выдержит…
– И что же? – насторожилась я. – Снова заявление подал?
– Не судите меня строго. Не в силах я убить мать…
– А когда едете?
– Не знаем. Да и потом… чем позже, тем лучше: подольше в Ереване поживем. Мое место здесь, когда бы ни было, а вернусь… Прямо как веревку на шею накинули и тащат туда, поверьте мне…
В душе я сержусь на мать Хачика, которая вновь обрекает сына на мытарства. Не она ли причитала в Монреале: «Я, я грешна перед детьми!» Что же, и второй раз грех вершит?..
Я смотрю на них, на Хачика и Валю, – растерянные, совсем еще юные. И душа у них, видимо, не из кремня. Жизнь подхватила их, закрутила, как щепку, и несет. Но они-то ведь не щепки, а люди, хотят жить так, как им подсказывает сердце, а вот не выходит… И снова вспыхивает во мне протест и недоумение: во имя чего покинула родину семья Маджарянов?
К чему эти напрасные терзания, эти изнуряющие душу усилия – сначала уехать, потом вернуться? Думаю обо всем этом, припоминаю свое открытое письмо, Опубликованное давно уже в газете «Айреники дзайн».
Я писала о том болезненном состоянии души, которое должны будут испытать люди, сами присудившие себя к лишению родины. Ту горестную «историю болезни» и тот «диагноз» подтвердило время, подтвердило увиденное и услышанное мной воочию.
Отсутствие государственности на протяжении многих веков отразилось и на психологии людей, особенно после 1915 года, когда западные армяне вынуждены были оставить свои исконные земли.
А отторгнутому от родной земли человеку, в конце концов, безразлично, где жить: не вышло в Сирии – пусть будет в Ливане, не Греция – так Франция, не Франция – так Америка.
К сожалению, кое у кого из репатриантов бытует до сих пор пагубная инерция: «Не Армения, так пусть будет…» Нет, коли вступили на землю Армении, не должно существовать больше «пусть будет». Мы не имеем права забывать, что такое для нас эта горсть земли – Советская Армения – и ценой каких лишений, каким горением души она создана. В ней есть и ваша доля: ваша любовь и тоска до приезда сюда, ваше усердие и труд, вложенные потом в нее. Уезжая из Армении, вы вычеркиваете из своей биографии эти годы, посылаете собственной рукой пулю в исполненную светлых стремлений юность, во всю свою прошлую жизнь.








