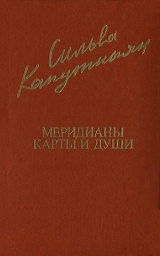
Текст книги "Меридианы карты и души"
Автор книги: Сильва Капутикян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
Все это рассказывает нам с Кариком мать Григора, еще бодрая, с ясными глазами, и я словно вижу корни этой семьи, которые тянутся то назад по дорогам беженства, к Багдаду и Тер-Зору, то проникают вглубь, в толщу времени, и доходят до Гарни-Гегарда, то, подобно лозе винограда, закручиваются, карабкаются по горным кручам вверх, обвиваясь вокруг каждого камня, цепляясь за каждый кустик. Эти корни и в Григоре, и сила этих корней тянет его сюда из бездонности Вселенной, питает и снова устремляет ввысь.
Карик Пасмачян молчит. В эти минуты он совсем по-иному приобщается к Армении, ее истокам, которые уже не только прошлое, но и прорыв в будущее.
Да, изменился классический облик нашей родины. И теперь человек, приехавший сюда, вместе с островерхими куполами Эчмиадзина и Рипсимэ уносит с собой и строгие контуры Бюраканской обсерватории с ее самым большим в Европе телескопом, и непривычный силуэт армянской атомной станции. После спуска в скальный храм Гегард он опускается в подземные залы кольцевого ускорителя, после Матенадарана идет в лаборатории электронных машин. И теперь для него Армения не только воспетый в старинных напевах, тоскующий в небе крунк, но и космическая обсерватория «Орион», несущая вести из неведомых пространств мироздания.
Входим в столовую. Не дожидаясь обеда, Григор берет с блюда кусок хрустящего лаваша.
– До чего же вкусная вещь лаваш! Когда еду на полигон, мать уже знает, кладет мне в сумку четыре лепешки. Хватает на неделю, обрызгиваю водой и ем.
Могли ли представить наши предки, что традиционный армянский хлеб – лаваш, тонкий, похожий на лист древнего пергамента, придуманный ими для долгой, глухой средневековой зимы, для осажденных врагами сел и крепостей, для длинной дороги скитальцев в далекие края в поисках заработка, – что вот этот хлеб, хрупкий, но выносливый, как и руки, что пекли его, когда-нибудь пригодится их далекому правнуку, отправляющемуся в командировку по делам космоса…
Наша машина несется вниз по извилистой дороге. Мелькают новые, добротные крестьянские дома, прозрачная зелень молодых саженцев. Возвращаемся в Ереван в сумерках. Кажется, будто возвращаемся не из окрестностей его, а из самых разных времен и мест. Из первого века, из тринадцатого, двадцатого, двадцать первого. Из монастыря, вонзившегося в скалу, с горных вершин, беседующих с небом, из далей Вселенной, из Тер-Зора, Вана, из Бейрута, Парижа, Нью-Йорка – из перепутья мыслей и чувств, из концов и начал…
И вдруг он – Арарат. Белый, сверкающий. Словно только что выпростал свои вершины из отбушевавших здесь библейских вод.
Смотрим долго, в безмолвии, и, кажется, никогда еще наша душа не приобщалась так к его вечности, к его неустанному бдению над этой беспокойной землей.
Вместо послесловия
Итак, мои «Меридианы карты и души» подошли к концу. Я хотела рассказать о четырехмесячной своей поездке по Канаде и Америке, перемежая этот рассказ событиями моей жизни в Армении за такой же отрезок времени, за такие же четыре месяца.
Думаю, что читатель не столь уж простодушен и поймет, что написать книгу за такой срок не так уж просто. Четыре месяца всего лишь, как говорится, «художественный прием». Но отнюдь не художественный вымысел те причины, из-за которых я прерывала работу над книгой и уезжала из Егварда. Не сохраняя буквальную хроникальность путешествия, я дала себе слово сохранить дневниковую точность моих здешних будней, не сдвигать дни, не включать ничего, что случалось до марта и после июня. Единственное нарушение – это запись о Гарни-Гегарде, где я была не в июне, а позднее. Но я прощаю себе это «клятвоотступничество», потому что более прочной опоры, иного перекрещения для своих меридианов я найти не могла.
«Умей ее беречь!..»
Два этюда к творческому портрету
Сильвы Капутикян
1
Иные строки поэта сопровождают тебя годы и годы.
Ушел…
Но знаю всей душою —
Нам друг от друга не уйти.
Я знаю, я всегда с тобою, —
Я перекрою все пути!
Я – дом твой, я – твоя дорога,
Ты ходишь с образом моим,
В тебе меня настолько много,
Что нету места там другим.
Признаюсь: стихотворение это, датированное 1948 годом, я знал давно, едва ли не сразу после его публикации в русском переводе. А заворожило, покорило оно меня много позже, когда впервые услышал, как читала его сама Сильва Капутикян. Это случилось в Дни советской литературы в Тюменской области, на площади древнего тобольского кремля, которую запрудила многотысячная толпа людей, пришедших на праздник поэзии. Сильва Капутикян стояла на краю дощатого помоста импровизированной сцены, и энергичные ее слова звучали с таким внутренним напряжением, непоказным драматизмом, что не могли не вызвать ответного отклика. По тишине, наступившей в один миг, легко было понять, что отныне им суждено стать дорогим достоянием той благодарной, признательной памяти сердца, которая, как известно, всегда сильней рассудка памяти печальной.
…Когда домой вернешься поздно,
Ты снова вспомнишь обо мне.
Я стану дымом папиросным,
Я стану звездами в окне,
Через любые километры
До сердца сердцем дотянусь.
В окно влечу я нежным ветром,
Закроешь – бурею ворвусь.
Есть у любви своя отвага!
Влетев в твой дом, в твой мир, в твой быт,
Смешаю все твои бумаги,
Всю жизнь смешаю, может быть…
Перевод М. Львова
Влетать ветром, врываться бурей – в природе поэтического слова Сильвы Капутикян, которое органично ее натуре поэта, сильной и стойкой, цельной и устремленной. Если искать поэтому какое-то всеобъемлющее определение, способное охватить и соотнести мир творчества и мир души, то более всего кстати будет слово «гармония». Сильва Капутикян из тех поэтов, которым неведомы разночтения между жизнью и искусством. Слово для нее – точнейший сейсмограф лирического переживания, в котором испытывается чувство, вынашивается мысль, совершается прорыв от быта к бытию. Оттого эмоциональная насыщенность стихотворной интонации, мелодии, ритма всегда отвечает высокому накалу раздумий о себе ли во времени или о времени в себе.
Сердцу земли мое сердце сродни,
Если ты грудь мою плугом рассек —
В рану свои семена зарони,
И соберешь урожай, человек.
Перевод В. Потаповой
Если сердце – земля, то ему и пристало вбирать в себя все земное. Чутко отзываться на «тоску взрыхленной нивы, вздыхающей под тяжестью зерна, когда весной, тревожна, молчалива, с надеждой первых ливней ждет она». Знать тоску «бесчисленных разлук, боль всех разлук на девяти вокзалах». Терзаться и страдать, прощаясь с любимым или угадывая «призрак разлада» во взгляде сына. Но при всем том не допустить ни единой жалобы, не издать ни одного стона, не унизиться до малодушных сетований на превратности женской доли. «Я слабой была, но я сильной была…» Похоже, и впрямь судьба намеренно обделила счастьем в любви, чтобы не смолкала трепетная струна в беспокойном сердце, чтобы несбывшимися тревогами жгли его закаты и рассветы,
Чтоб все у мира брать и не бояться,
Сокровища души ему нести,
Чтоб щедрость и была моим богатством,
Чтоб все отдать – и, значит, обрести.
Чтоб не была глухой к чужой беде я
И узнавать могла, пока жива,
Непролитые слезы и смятенье
И слышать затаенные слова.
Чтоб всех моих разбросанных по свету,
Неведомых, мятущихся сестер
Огни сердец, которым счета нету,
В моих стихах слились в один костер…
Перевод Б. Окуджавы
«Право на откровенность» – так, определяя доминанту душевного строя поэта, назвал Станислав Рассадин свою вступительную статью к недавнему двухтомнику «Избранного» Сильвы Капутикян (М., «Художественная литература», 1978). Принимая такое определение, думаю, что с равным правом ключевым понятием к ее творчеству могла бы стать и «отзывчивость на боль». Свою и чужую.
Впрочем, «чужую» – слово явно неточное. В том и суть, что все чужое, чего касается взгляд или слух поэта, тут же становится своим – собственным, глубоко личным, интимным переживанием. Даже нескрываемая литературная реминисценция отрывается при этом от своего первоисточника, получает новую, вторую жизнь как реальный факт, действительный случай.
Шуршит толстовский лес, как книжные листы.
О, как он величав, как тих и необъятен…
Прочь, грохот городской, меня замучил ты,
Лишь этот шорох мне и близок и понятен.
О Анна, по твоим следам сейчас бреду,
Но тяжек шаг, – боюсь, еще труднее станет.
Твоя ль тоска песком лежит, как на беду,
Мое ли сердце вниз меня, как гиря, тянет?
Перевод Е. Николаевской
Кто она, эта молчаливая спутница на глухом полустанке? В самом ли деле Анна Каренина, «не защищенная в своей любви-неволе», или мелькнувшая в вокзальной сутолоке незнакомка, чей скорбный силуэт приближен щемящим стихотворением «Остановись, человек!»?
Та женщина, неведомая мне,
И по причине, не известной мне,
Так плакала, припав лицом к стене,
Беду свою всем телом понимая.
Внимала плачу женщины стена.
Я торопилась – чуждая страна
Меня ждала. Мой поезд был – «стрела».
Шла в даль свою толпа глухонемая.
Этот «огромный безутешный плач» настигнет потом в пути, «средь мчащегося леса», и «печальный поезд» начнет сострадать ему всеми «колесами, считающими тьму». А под стук колес придет и горькое осознание своей вины «в беде чужого плача», охватит неудержимое желание не только «рвануть стоп-кран», но остановить вращенье самой Земли.
Повремени, мой непреклонный век,
С движением твоим – вперед и вверх.
Стой, человек! Там брат твой – человек
Рыдает перед каменной стеною…
Перевод Б. Ахмадулиной
Отзывчивость на боль – не она ли питает и неослабную память войны, вот уже столько лет звучащую в лирике Сильвы Капутикян одним из ведущих мотивов? Верная себе, она и к воплощению этой темы идет через постижение чужих судеб, ставших частью ее духовной биографии.
Твердь земную пропитала кровь,
Не смолкает гул артиллерийский…
Здесь узнали первую любовь
Лейтенант и девушка-связистка.
Все замолкло в грохоте свинца,
Но в громах, что ударяют близко,
Четко слышат, как стучат сердца,
Лейтенант и девушка-связистка.
Перевод М. Светлова
След войны на земле – это не только ржавое железо: оно истлевает со временем. И не темная воронка – благо, что и она «чуть видна» в дремучей лесной чаще. Земля остается изувеченной войной потому, что не успели проторить по ней свои пути-дороги ни Мисак Машунян, герой французского Сопротивления, «чье монологическое «Слово перед казнью» завершает признание:
Я мечтал быть поэтом. Я грезил в свой срок
Нянчить сына в построенном мною дому.
…А оставил тетрадь незаконченных строк
Да пропахшее порохом имя в дыму.
Перевод М. Дудина
Ни безымянный солдат с черной повязкой на глазах, уподобленной черной плотине.
Он не вздыхал, он не стонал от боли,
Не звал тебя в свою глухую тьму —
Нет, ты сама, сама по доброй воле,
Без колебаний подошла к нему.
Он, жертвовавший всем, не ждал ни жертвы,
Ни жалости к лихой своей судьбе,
Сама, самоотверженно – по-женски —
Ввела его за локоть в дом к себе.
Иной стихотворец и оборвал бы на этом посвящение «Жене солдата». Но мысль и чувство Сильвы Капутикян достаточно зорки и проницательны, достаточно умудрены трудным опытом жизни, чтобы не довольствоваться одним лишь выражением сострадания в беде. Чутко угадывая приближение драмы, поэт не останавливается на ее пороге, отважно переступает черту, за которой чаще всего третий лишний. Не желая учить, а тем более наставлять или, того хуже, назидать, она не боится разбередить душу, страстно взывая к тому, что должно быть свято:
О, если вдруг тебя другие руки
Зовут – его, его не обмани!
Коль взгляд чужой зовет – ты в смертной муке
Закрой глаза: пусть не глядят они!
Себя не выдай ни единым жестом,
Себя стеной безмолвья окружи,
Неси свой крест! О, поступи по-женски!
Свяжи себя и сердце удержи…
Перевод Е. Николаевской
У Ольги Берггольц, поэта, во многом, пожалуй, близкого Сильве Капутикян по темпераменту и строю души, характеру дарования, есть пронзительные строки, выстраданные «в послевоенной тишине» – в первые дни после Победы. «Неженский ямб в черствеющих стихах» звучит как заклятие:
…И даже тем, кто все хотел бы сгладить
в зеркальной, робкой памяти людей,
не дам забыть, как падал ленинградец
на желтый снег пустынных площадей.
Свое «не дам забыть» знает и Сильва Капутикян. Она тоже могла бы сказать о себе, что «вмерзла в… неповторимый лед» – многотрудный и многострадальный след народной истории, который тянется через не годы и даже не десятилетия, а века. Доверительная исповедь в сокровенном то и дело выливается под ее пером в громогласную проповедь самозабвенной любви к отчему краю, чьи «камни, спавшие веками и время знавшие суровое», безмолвно свидетельствуют о ранах, кровоточащих в сердце народа и его поэта.
Армения!
Могу ли я измерить
Любовь к тебе?.. Так любят, не таясь,
Того, кого сама спасла от смерти
И кто тебя от верной смерти спас.
Люблю тебя, земля, с такою силой,
Из всех краев душой к тебе летя,
Как мать свою, что жизнь мне подарила,
Как в муках мной рожденное дитя…
Перевод Е. Николаевской
От постоянства чувства идет и неизменность интонации – открыто пафосной, ораторски проповеднической. Тяготея к лирическому исповеданию, Сильва Капутикян, как правило, предпочитает не напрягать голос. Но только не в тех стихах, которые посвящены Армении, ее многовековой истории, не поскупившейся на страдания и беды, потребовавшей от многих и многих поколений готовности к подвигу самоотречения и самопожертвования. В таких стихах она не избегает и самых высоких регистров патетики, в которой настоятельно нуждается монологическая форма обращений к родине и народу. Вот повод сказать, что патетика патетике рознь. И если она проникнута неподдельным гражданским пафосом, то и сбивы на декламацию и риторику ей не угрожают. Чтобы убедиться в этом, вчитаемся хотя бы в такое короткое стихотворение:
Где ни встречу его: на лице ль малыша,
У крестьянки, морщинистой и седоглавой, —
Узнаю этот взор: в нем сияет душа.
О армянские очи, прекрасны всегда вы!
Отразившие древних времен маету,
Сквозь беду и бесправье, сквозь боль вековую,
Как смогли пронести вы свою красоту,
Задушевность такую и ясность такую?..
Перевод Эм. Александровой
Прочесть историю народа во взгляде ребенка – все равно, что увидеть солнце в капле росы. С этого начинаются художественные открытия.
В творчестве Сильвы Капутикян они тем масштабнее, что ее чувство патриота родной земли неотрывно от интернационального «чувства семьи единой», которое выводит художественную мысль на широкие просторы современного мира, как и самого поэта ведет по многим и разным дорогам. В равной мере пролегли они в Севанских горах и через «проспект над спокойным теченьем реки» в Ленинграде, привели под киевские каштаны и в московский весенний говор, чтобы «давним, дальним откровеньем» прозвучал в нем акцент армянской речи. Под стать этой широте географического мира, открывшегося поэту, плотная населенность мира духовного, в котором как бы подают руки друг другу Саят-Нова и Джамбул, Микаел Налбандян и Ян Райнис, Аветик Исаакян и Кайсын Кулиев. Так раздвигает Сильва Капутикян границы родины, в самом этом слове сливая, если говорить названиями ее стихотворений, и «голос Еревана» и «песню дорог», что протянулись от армянских нагорий в самые дальние дали Советской страны.
Здесь снова уместно вспомнить Ольгу Берггольц. В одном из ранних ее стихотворений в один нечленимый синонимический ряд встали «Республика, работа и любовь». Не так ли и Сильва Капутикян спустя годы сблизила Родину и Любовь?
Любовь – как Родина! Умей ее беречь!..
2
Но почему – может удивиться читатель – так много о стихах в послесловии к книге, которую составляет проза?
Отвечу на вопрос вопросом: а как отделить поэзию ли от прозы, прозу ли от поэзии, если то и другое написано одним пером? Не случайно сама Сильва Капутикян называет свою прозу не иначе как «книгой жизни», к которой она не могла не прийти за почти сорок лет литературной работы. А это значит, что и «Караваны еще в пути», и «Меридианы карты и души» были не просто подготовлены поэтическим творчеством, но выросли на его прочном фундаменте. Оттого так много прямых, непрерывных нитей тянется к обеим прозаическим книгам от отдельных стихотворений, которые им предшествовали.
Одно из них – «Наш пантеон» – хотелось бы привести полностью.
Наш пантеон не пышен, не просторен:
Всего лишь несколько простых могил.
О мой народ, богатый смертью, горем,
Где ж ты других великих схоронил?
Веками в горьких думах об отчизне
Они трудились от нее вдали:
Родного крова не нашли при жизни,
По смерти не нашли родной земли.
Теперь на старых кладбищах чужбины
Покоятся они меж трав и мхов,
Одни – под небом дальней Аргентины,
Другие – возле Сены берегов.
А сколько их под острым ятаганом
В немой пустыне обрело конец!
Могилы их – сухой песок с бурьяном
Да боль живущих, раны их сердец.
Наш пантеон… В безмолвии, в забвенье
Разбросан он по всем краям чужим.
Лишь слезы, слезы и благословенье
Наш дар могилам дальним дорогим!..
Перевод В. Звягинцевой
Да, это случилось на памяти ныне живущих поколений. На добрую четверть века предвосхитив изуверства фашизма, правители тогдашней Турции занесли «беспощадный ятаган… над жизнью тысяч и тысяч жителей Западной Армении», на уровне государственной политики учинили в 1915–1916 гг. первый в человеческой истории геноцид. Жертвой кровавого истребления нации стало до миллиона людей. И столько же было отторгнуто от родных жилищ, насильно вышвырнуто в аравийские пустыни, «ставшие огромной братской могилой. А те, что чудом уцелели, разбрелись по миру, осели в Египте, Ливане, Сирии, обосновались в Европе, добрались до Канады и Америки». Так пришло в многовековый словарь народа «новое жесткое слово «спюрк», от корня «спрвел» – рассеяться, расстилаться, – слово, которое стало синонимом разбросанного по свету армянства».
Впервые об армянах сшорка Сильва Капутикян рассказала в книге «Караваны еще в пути», написанной по следам поездки на Ближний Восток. «Книга эта, – писал, обращаясь к читателю, Мартирос Сарьян, – не обычные путевые заметки. И хотя перед тобой раскинется Восток, с его солнцем и пальмами, пустынями и пирамидами, чаще всего на твоем пути будут вставать армянские глаза. Ты увидишь и познакомишься с людьми, которые чудом уцелели из караванов смерти, разбрелись по всему свету, имеют разное гражданство, но сверхчеловеческими усилиями стараются остаться жителями одной и той же «духовной территории» – остаться верными своему происхождению, своей истории, языку, культуре, своему опаленному Беками духу и справедливым чаяниям. Ты увидишь также отражение той истины, что никогда, ни в какие века нельзя умертвить народ, когда он не хочет умирать. И, значит, тщетны старания всех тех насильников, которые хотели или хотят неволить свободу и права, пойти против человека, против естества и разума. Все равно рано или поздно побеждает человек, естество и разум, побеждают лиловые горы, пурпурный рассвет, стремительные зеленые тополя и Арарат, вечно чистый и величавый».
В «Меридианах карты и души» продолжен этот рассказ о разбросанных по свету соплеменниках, но только на поверхностный, приблизительный взгляд может показаться, будто книгу от книги отличает лишь география: там – Сирия, Ливан, Египет, здесь – Канада и США. «Ведь первую книгу от второй, – напоминает писательница, – отделяет не только океан, но и десять лет, в течение которых столько изменилось и в спюрке, и в самой Армении, и во взаимосвязях спюрк – родина. Что говорить, и меня время не миновало. Прибавились не только годы, но и опыт души, жизни, глаз стал трезвее и острее…»
О том и проза Сильвы Капутикян. Не просто о встречах на дальних широтах, но о движении времени, как в жизни вокруг, так и в самой душе. Не путевой дневник, предполагающий хроникально точное воспроизведение впечатлений, но проза поэта, как и стихи, исполненная сокровенного лирического исповедания и открытой публицистической проповеди в их лучших и высших образцах, созданных «по неправильным правилам мозаики», сопрягающих «разные меридианы карты и души». Наблюдения дня, когда в Егварде, селе под Ереваном, пишется та или иная страница, и оживающие в памяти впечатления от поездки сливаются в обостренном эмоциональном переживании одного чувства.
Еще раз назовем его высоким национальным, глубинным патриотическим чувством. Содержательное и емкое, оно одинаково просторно для исторического знания и современного мироощущения, для выражения трепетной любви к родной земле и понимания кровной причастности к народу, в многовековые судьбы которого вплетена и сегодняшняя судьба писателя.
Многогранное, как жизнь, это чувство полнозвучно утверждает себя в многоразличных душевных проявлениях. И знает не только радость, но и печаль, не только просветленный настрой, но и драматическое напряжение. Ничего не поделаешь: драматичны пути и судьбы многих зарубежных соплеменников, хотя не все из них понимают свою драму. Но ее видит, осознает автор. За те годы, что разделяют обе книги, в мире происходили перемены, которые не всегда были к лучшему. Людям доброй воли прибавилось и забот, и тревог. Поэтому во второй книге куда меньше солнца, чем в первой: дело тут в климате не столько географическом, сколько политическом и нравственном.
«Необъяснимая горечь» неотступно сопровождает даже «приятные, милые отзвуки дней», проведенных, например, во Фресно, этом самом «армянском» городе Америки, который «хранит еще отсвет воспоминаний, хранит дыхание Уильяма Сарояна». Сорок – сорок пять тысяч армян живут здесь, есть в городе культурные союзы, открывается ежедневная школа, но «пульс бьется не так четко и наполнение. Молодежь, большей частью говорящая по-английски, уезжает в Лос-Анджелес, перебирается туда и много семей. Газеты «Нор ор» и «Аспарез», основанные во Фресно, теперь также издаются в Лос-Анджелесе»…
Добро еще – издаются. Ведь, как свидетельствует Сильва Капутикян, воздействие армянского печатного и устного слова в Америке ослабевает день ото дня. «Просим больше не высылать вашу газету, наш отец скончался», – такие письма все чаще приходят к редакторам изданий, основанных еще в конце прошлого века. И «на всей шири Канады и Америки» совсем мало остается этих старых отцов, хранителей национального самосознания, исторической памяти народа. «Отцы комьями земли стелились под ногами детей и внуков, стремясь напитать их теплом и влагой родины, дать возможность прорасти родным корням. Но иссохшими были уже эти корни, скудными их влага и тепло. И сыновья переступили через эти выветрившиеся комья». Так обмелел горный ручеек, бегущий из века в век, и «вот-вот должен был совсем уйти в песок. А где-то рядом уже взял свое начало другой ручей», который звенит на другом языке и торит себе русло в других берегах…
«Я проиграл битву за армянский язык, чтобы выиграть битву за армянскую душу», – приводит Сильва Капутикян слова одного из собеседников. И тревожно задумывается: разве не отступает, не проигрывает битву и душа, томясь в том мире, в котором сбывается давнее пророчество Уолта Уитмена об опустошении сердец, пожираемых драконом наживы? Слишком часто прямолинейная деловитость американца, пишущая доллар с большой буквы, сопутствует тоске армянина по далекой земле родины и любви к ней. Но для того, чтобы бескорыстно постичь, почувствовать, нести в себе душу народа, «нужен такой человеческий сплав, когда рядом с щедро бьющим родником ощущаешь неутоленную жажду по глотку воды, когда за гнущимся от яств столом тоскуешь по обломку просфоры…»
Как замечает однажды Сильва Капутикян, «сколько армян в Америке, столько и биографий». Среди множества людей, встреченных ею на поэтических вечерах и литературных собраниях, на концертах, спектаклях, выставках, официальных приемах и товарищеских застольях, были писатели и издатели, художники и актеры, журналисты, учителя, врачи, инженеры, ученые, предприниматели-бизнесмены, религиозные проповедники, государственные чиновники, политические деятели. Колоритные фигуры схвачены в «калейдоскопе разнобойной молодежи», привносящей свою самостоятельную тему «крайностей, болезненных полярностей» умонастроений, где всего вдосталь – расхристанной бездуховности и сумбурных поисков выхода из ее тупиков, слепого бунта против действительности, безрассудного бегства от нее и компромиссного примирения с ней. Среди соотечественников, которые, пережив трагедию геноцида, «вынуждены были оставить свои исконные земли», среди их детей и внуков, выросших на чужбине, находились и люди, уже в наши дни «присудившие себя к лишению родины».
Разные, таким образом, лица и характеры населяют прозу Сильвы Капутикян, разные судьбы вторгаются в сюжет повествования. Одни удачливы и благополучны, другие не очень, одним в чужих краях «повезло» больше, другим меньше, с одними легко устанавливались открытые, доверительные отношения, достигалось взаимопонимание, в общении с другими «надолбы вставали сплошняком, как стена». Но сквозная, напряженная, беспокойная мысль автора становится как бы магнитом, притягивающим к себе многоразличные биографии-судьбы, образующим то силовое поле, в котором сливаются все наблюдения и впечатления, вынесенные из поездок. Эта мысль – о современном нам мире, в котором «взрываются не только ядра атомов, но и ядра образованных веками человеческих устоев…загрязняются не только воздух и вода, но и нравственный климат на земном шаре».
Тем выше непреходящая ценность, созидательная сила национального, патриотического чувства, для полноты которого совсем недостаточно «жить только прошлым и курить фимиам только музейным экспонатам. В музее можно простоять несколько часов, испытывая восторг и преклонение, но жить в музее нельзя». И нельзя довольствоваться всего лишь признанием своей родословной, что в условиях спюрка нередко ставится в заслугу и доблесть человеку, который «не скрывает, что он армянин». Национальная гордость, утверждает писательница, естественное состояние человека, нравственная опора его души. Лишись душа своей опоры – ей тут же будут грозить те самые крайности, между которыми зачастую разрываются, не находя выхода, армяне спюрка: «либо скорлупа национальной ограниченности, либо полнейший отрыв от корней, забвение того, что кроме Пикассо есть средневековая армянская миниатюра, кроме небоскребов – храм Рипсимэ».
Этот поэтический мотив родных берегов – почвы, которая питает национальное самосознание, корней и истоков духовного бытия народа, нации в их историческом прошлом и в современности, обретает под пером Сильвы Капутикян актуальное и острое звучание, наступательно направленное против идеологии буржуазного национализма. Не забудем: «спюрк многослоен и разнороден», наряду с общинами, землячествами, культурными союзами и обществами в нем активно действуют и несколько партий, в том числе буржуазнонационалистическая партия Дашнакцутюн.
Иные из ее членов – и таких немало встречалось писательнице– прозревают до осознания идейного кризиса партии, которая, давно утратив «почву под ногами, соотносит реальную действительность со своими заданными моделями, трактует все по своему усмотрению, как ей удобнее». Другие самоослепленно отстаивают прежние позиции антисоветизма. «Если глаза не видят, а уши не слышат, – говорится о них, – если более чем полувековое существование Советской Армении, ее сегодняшний облик ни в чем не убедили, ничего не опровергли, то любые доводы здесь излишни», броня крайней «ограниченности и самоуверенного бахвальства» останется непроницаемой. Не удивительно: идеи, как живые существа, нуждаются «в постоянном питании, и это питание не приходит само по себе, оно приходит от земли, от ощущения почвы под ногами».
Выше говорилось уже о том, что дневник своего путешествия по Канаде и США Сильва Капутикян писала в Егварде под Ереваном и строила так, что в него то и дело включались события жизни в Армении «за такой же отрезок времени, за такие же четыре месяца». Конечно, как разъясняет она сама, есть в этом условность художественного приема, но «отнюдь не художественный вымысел те причины, из-за которых я прерывала работу над книгой и уезжала из Егварда». В одном случае это были Пушкинские дни в Ереване, в другом – поездка с зарубежными друзьями в Ленинакан, в третьем – вечер армянской поэзии в Тбилиси. И еще шире раздвигаются границы повествования, когда в рассказ писательницы о событиях нынешнего дня вклиниваются ее воспоминания о строительстве туннеля Арпа – Севан, о Нурекской ГЭС в Таджикистане или Хатынском мемориале в Белоруссии. Поистине «Армения выходит из своих теснин и ущелий, распрямившись, шагает по открытым просторам мира с песней и стихами, эхом разлетевшимися на разных языках, с круговым сасунским танцем, спустившимся по горным крутым тропинкам в бескрайние степи и равнины, с радугой сарьяновских красок, перекидывающейся от кремнистых оранжевых скал к синей глади дальних стран и материков…» И все это проходит через сердце поэта, нераздельно живет в нем, переплавляясь в идеи и образы стихотворных строк. Как важно и как дорого, восклицает Сильва Капутикян, «почувствовать, что ты частица этого могучего целого…что радиоприемник твоей души настроен на опоясывающую земной шар волну радостей и тревог».
Больше или меньше становится национальное чувство от этой кровной сродненности с огромным миром общенародной советской жизни?
Для автора книги нет в этом вопроса. «Думать кичливо, что наша нация имеет свое особое место в мире и должна жить обособленно, значит не возвышать, а умалять народ, превращать его в племя, в род, а следовательно, мешать ему меряться со стоящими рядом, равняться на передовых, то есть лишать основного стимула движения вперед, прогресса». Если с детства растешь и воспитываешься в постоянном общении с другими нациями и культурами, то воспринимаешь их как родственные. «И это создает такую крепость души, такую стойкость, которой не грозит напор стихии более мощной культуры, ничто не может оторвать эту душу от своих берегов». Как ничто не может и удержать ее в одних лишь этих берегах. Предлагая читателям прочертить карту их дружб, Сильва Капутикян непоколебимо убеждена, что «день ото дня на ней обозначаются все новые места, появляются все новые краски и рельефы, новые люди, новые языки. Это не только география, не простое прибавление людей. Это оказывает прямое воздействие на наш душевный мир, расширяет его меридианы, накладывает на него свои цвета, незаметно отливает новый духовный сплав». Так преломляется в повседневном бытии современного человека многонациональный уклад советской жизни, так входит в его сознание интернациональное единство советской культуры.








