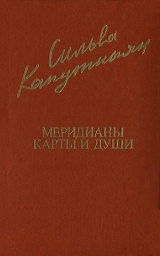
Текст книги "Меридианы карты и души"
Автор книги: Сильва Капутикян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)
К сожалению, сам Квебек, словно инстинктивно, принял нас не очень радушно. Раскинутый на прибрежных холмах, он был окутан густым туманом, моросил дождик. Свободных номеров не оказалось и в прославленной гостинице «Шато Фронтенак», которая изображена во всех альбомах, почтовых открытках и является как бы гербом города. Но ужинали мы все-таки в ресторане «Шато Фронтенак». Построенная 100–150 лет назад, стилизованная под средневековую крепость, эта гостиница, расположенная в центре Квебека, на одном из самых высоких холмов, и поныне владычествует над городом.
Официант в пиджаке из красного сукна с важностью подносит каждому из нас огромное, ярко расписанное меню. И через пять – десять минут официанты, теперь уже вдвоем, сосредоточенно, торжественно, словно жрецы во время священнодействия, подкатили объятый пламенем столик на колесах и, дождавшись, когда погаснет пламя, переставили сковородки на наш стол. На сковородках было не что иное, как обыкновенное, вполне реалистическое филе, а точнее, на жаргоне ереванских мясников, «чалагач». В Канаде и Америке оно называется «стейк», и так же, как английское слово в сравнении с нашим «чалагачем», звучит мягче и нежнее, так и само мясо было тоже и мягче и нежнее. Когда ужин близился к концу и господин Кестекян вытащил из кармана бумажник, я обнаружила, что в Америке для некоторых людей это слово обрело свой первоначальный смысл. В бумажнике господина Кестекяна были не деньги, а целая кипа каких-то бумажных талончиков. Из этой кипы Кестекян извлек один, величиной со спичечный коробок, и отдал официанту.
– Это жетон компании «Америкен экспресс», – не без гордости пояснил мне Кестекян, – В какую бы страну мира я ни поехал (конечно, речь идет о капиталистических странах), взамен денег я могу пользоваться этими талонами, будь то отель, торговый дом или ресторан… Номер и фамилию переписывают с этого талона и посылают в компанию. Она учитывает и затем отправляет мне чек. Удобно и не боишься потерять деньги.
На улице дождь стал меньше, и мы пешком спустились по старым и узким улочкам к центру города. После натужной торжественности ресторана на улице мне сразу стало проще и уютнее. Молодежь группками и, конечно, парами. На одной стороне тротуара стояли парни и девушки. Одна из них затянулась сигаретой и тут же передала ее соседу.
– Это не сигарета, это наркотик, они любят так вот, дружно, за компанию, губить себя.
Доходим до гостиницы «Виктория», тоже старой, но более демократически выглядевшей. Дождь вновь усилился, и мы решили войти внутрь. Там несколько баров и кафе. Вошли в один из них и сели. В зале полумрак и почти безлюдье. В углу на рояле кто-то тихо наигрывал. Официант принес заказанный Акопом «алкол», и мы постарались настроиться на приятное времяпрепровождение, но – увы! – и полумрак зала, и тихая музыка предполагали более «узкую» программу… Мы сидели, уверяя себя в том, что, мол, жизнь прекрасна, прекрасен мир, эта вот музыка, этот день, эта минута, но чувствовали, что все не совсем так и что нам просто-напросто скучно. Положение не изменилось и после того, как мы перешли в другой зал. Здесь шумная стереомузыка, но, к сожалению, та же скука. Нет, насильно такое «мероприятие», как радость души, не организуешь. Для этого требуется собственный внутренний настрой, подлинная созвучность…
Выходим на улицу и, так как дождь продолжается, останавливаемся под козырьком у входа в гостиницу. Рядом с нами и другие прохожие. Французская веселая легкость была в этот дождливый вечер на улицах Квебека. То и дело попадались люди уже явно под градусом. Один из них, в рабочем комбинезоне, с крупным добрым лицом, стоял рядом с нами и явно жаждал общения. Оглядывался, искал себе собеседника и среди всех, укрывшихся от дождя, выбрал не кого иного, а именно меня. Я улыбаюсь в ответ на точность его выбора. Респектабельный господин Кестекян даже не глядит в нашу сторону, стоит, будто аршин проглотил. А пьяный, приняв мою улыбку как признак полной солидарности, разговорился вовсю.
– Уйдем отсюда, – в сердцах требует Кестекян.
– А что он говорит? – интересуюсь я.
– Говорит: «Давай пойдем выпьем где-нибудь».
Я смеюсь и, бросив своему новоиспеченному другу «оревуар», следую все же за господином Кестекяном. Кто знает, может, именно здесь были зарыты ключи счастья… Но мой строгий соплеменник не разрешил даже шевельнуть лопатой.
Внимание наше привлекла толпа у двери, освещенной яркой рекламой. Подходим. Гастроли американского джаз-оркестра. У входа необычайное оживление. И мы решаем войти, надеясь, что авось тут-то и окажется гвоздь вечера. Оживление в зале неописуемое. Да и сам зал выглядел необычно. Скрепленные на скорую руку, как купол, белые полотнища делали его похожим на планетарий. Вопли и выкрики певцов, взрывы джаза, стрелы прожекторов будто сражались друг с другом. Зрители, исключительно молодежь, участвовали в этом бою, кто как и чем мог. Часть ребят танцевала, часть, сидя на месте, стучала ногами в ритм музыке, а остальные что-то орали. Господин Кестекян, который в других местах и особенно в филиалах всемирно известного великосветского клуба «The playboy club», членом которого он состоял, обычно присоединялся к танцующим и спокойно, без толкотни, взимал причитающуюся ему долю удовольствия, здесь не сделал даже попытки. После того, как минут десять – пятнадцать наши глаза и уши подвергались несказанному испытанию, мы вышли и, хотя не было еще двенадцати, сразу же двинулись к своему мирному отелю «Нептун», окончательно отказавшись от первоначальной программы вкусить все наслаждения ночного Квебека.
На следующее утро в маленьком автобусе вместе с другими туристами поехали осматривать достопримечательности города. Самым интересным для меня были памятники, воздвигнутые в тех местах, где в 1756–1763 годах шли жестокие бои между французами, которые уже заселили Квебек, и англичанами, пытавшимися завладеть им. Битва закончилась победой англичан.
Слово «памятник» подразумевает гранит, мрамор, базальт– в общем, сооружение из камня. Здесь же все создано из дерева. На полянках в парке беспорядочно свалены темные, обгоревшие стволы, будто прошел тут лесной пожар. Те стволы, которые, как объяснили мне, символизируют английскую армию, высятся вертикально, отчужденно, холодно-неприступно, чуть в отдалении от других. Стволы же, призванные увековечить память поверженных французских воинов, лежат вповалку, один на другом, перекрещиваясь, как в огромном костре, горевшем, но недогоревшем, где черные, печальные деревья словно еще дымятся.
3 апреля, Егвард
В Монреале ко мне в гостиницу пришли познакомиться Акоп Карлозян со своей женой. Едва поздоровавшись, он вытащил из кармана фотографию.
– Помните?
Всмотрелась и вижу – группа детишек и среди них я. – Это в Бейруте. В школе Месропян. Ровно десять лет назад. А вот девочка рядом с вами, кто она, как вы думаете? – И, не дождавшись ответа, делает широкий жест в сторону жены: – Пожалуйста, перезнакомьтесь. Мадлен.
Жму руку его жене и думаю: «Боже мой, неужто эта дородная женщина та самая девочка?» А мне казалось, что только вчера я вернулась из Бейрута.
– Добрые вести привез вам из Армении. Я только что оттуда. «Арарат» после выигрыша кубка стал еще и чемпионом Советского Союза. Я счастливее вас – присутствовал в Москве на игре за кубок, и вся группа со мной была. Говорили: «Акоп, если бы мы ничего больше не увидели, одна эта игра стоит свеч. Не жалко денежек».
Акоп работает в местном обществе по страхованию и заодно возит туристские группы в Армению.
– Конечно, это мне выгодно. Без выгоды вообще ничего с места не сдвинется. Но этой работой я приношу и пользу. Чем больше армян посетит родину, тем лучше будет. Ряд дефектов вам надо обязательно исправить. Обязательно…
– Ах, этот лифт, этот лифт в «Ани»! – вступает в разговор Мадлен. – Наверное, он сейчас уже в порядке, но когда мы были, никогда не работал.
– Пришли в Дом художников, на выставку чешского стекла, – продолжает Акоп, – из объяснений, написанных под экспонатами, ничего не поняли… Зашел к директору, говорю: «Почему нет рядом по-армянски?» Отвечает: «Из Праги так получили». – «Ну, из Праги так прибыло, а здесь перевели бы по-армянски, трудно, что ли?»
Акоп предлагает мне поехать с ним в так называемый армянский квартал.
Уже не раз, проезжая по Монреалю, я видела вывеску над маленьким магазинчиком в полуподвале: на зеленой жести рядом с «Armenian» неумелой рукой было выведено по-армянски: «Хай». И вот сейчас наша машина остановилась у этой вывески. Разглядываем ее долго и входим в магазин. Полно всяких фруктов, овощей, круп, пряностей. Но нет того порядка, какой обычно здесь бывает. Хозяин – хилый, флегматичный человек. У входной двери, под вывеской, он сфотографировался с нами, а потом так же безучастно попрощался, ни о чем не спросив.
На противоположной стороне тротуара другая вывеска, с надписью «Тамарина». Зашли.
– Здесь на продуктах даже надписи по-армянски, – попытался обрадовать меня Акоп, – поглядите…
Взглянула – в мясном отделе на висящем почти под потолком большом куске картона крупными буквами по-армянски выведено: «Покупайте вкусную ветчину «Тамарины»…
Акоп представил мне сидящего за конторкой безулыбчивого господина Албера, лет пять-шесть тому назад он переехал сюда из Каира.
– Мы, возможно, виделись там, – сказала я, чтобы что-нибудь выдавить из себя.
– Я в армянские клубы не ходил, – холодно отрезал он, – больше бывал в иностранных кругах.
– Каким же образом вы так обармянились? – показала я на картонку со вкусной ветчиной «Тамарины».
– Да приехали сюда и обармянились, – в сердцах ответил хозяин и повернулся к Акопу: – Проводите лучше мадам туда, где ей наверняка будут рады…
Рядом с «Тамариной» еще одна вывеска. Под английскими снова знакомые буквы: «Армянская мастерская». Это была химчистка.
Мимо нас по улице проходят две молодые девушки.
– Они армянки, – сказал Акоп и остановил их.
Девушки были его знакомые, они обрадовались и стали щебетать С ним по-английски. Акоп познакомил нас, предложил вместе сняться. Они охотно откликнулись на это, а затем, бросив небрежное «гуд бай», удалились…
Итак, «армянский квартал» в Монреале. Широкие, многолюдные улицы, невысокие, благоустроенные, но какие-то немые, неприветливые дома, девушки-армянки, рыжеволосые, чужеватые, с чужеватым английским, с чужеватой улыбкой. Магазины с их хмурыми хозяевами и армянскими вывесками. Да, армянскими, но всего лишь для рекламы, для привлечения армян-покупателей…
Бедные наши месроповские буковки! Начавшие шестнадцать веков назад свой путь с призыва «познать мудрость и опыт», столько перенесшие, гонимые, на этих сытых, ублаготворенных берегах зажатые «Freshfruit’-ами», «Delicatassen’aми», ставшие «вкусной ветчиной «Тамарины», наши выхолощенные, ощипанные буковки…
Я еще несколько раз встречалась с Карлозянами. Акоп принес множество фотографий, сделанных им в тот день в «армянском квартале», познакомил меня со своим братом, который жил в Торонто, но в этот день приехал в Монреаль.
– Жили бы хоть в одном городе, – шутя упрекнула я.
– Тикин Сильва, мы не хозяева себе. Как дела велят. Должны за делами следовать, – ответил Акоп. – Но скоро, если бог поможет, соединимся.
– В Монреале или Торонто?
– В Америке, – бодро уточнил Акоп, – мать живет в Нью-Джерси, добивается и для нас разрешения.
Как не похож этот ухватистый, разворотливый Акоп на тех Акопов, которые встречались мне в Бейруте, Алеппо, Каире и о которых я писала в моих «Караванах». В нем нашли какое-то свое отражение самые разные социальные сдвиги и нюансы, возникшие за это время и внутри самого спюрка, и в отношении к Армении.
Нет, за десять лет изменилась не только маленькая девочка из бейрутской школы Месропян…
4 апреля, Егвард
Редко в моей егвардской комнате дает о себе знать дверной звонок. Однако сегодня он зазвенел, причем звенел долго, требовательно. Открыла. Пришли подключить плиту к магистральному газу.
– Чья это квартира? – спросили и, когда ответила, удивились: – Как это случилось, что вы здесь?
А случилось так. Лет пять назад в егвардском Доме культуры был мой вечер. Под конец председатель ни с того ни с сего оповестил, что «население Егварда избирает товарища Капутикян почетным гражданином села Егвард».
– Ну что ж, если так, то гражданину полагается и жилплощадь, – пошутила я.
– Пожалуйста, – с готовностью улыбнулся сидящий рядом в президиуме Размик Петросян, директор машиноиспытательной станции. – Мы строим много домов, у местных свои собственные, так что спрос у нас не столь уж велик.
Так шутка неожиданно обернулась ордером на «однокомнатную квартиру со всеми удобствами на четвертом этаже новостройки МИС». Вот уже четвертый год эта небольшая комната стала моей обителью и спасительницей. Если мои ереванские душегубы-звонки, дверной и телефонный, сливаясь с уличным шумом, неотступно преследуют меня, не позволяя и полчаса провести у письменного стола, то здесь все наоборот: я сутками бываю наедине с собой и листом бумаги. Даже не выхожу на улицу – так жажду одиночества. С миром общаюсь лишь с балкона и через соседей, живущих на той же площадке, через семью Маркосян.
С балкона видна гора Ара. Она так близко, такая маленькая, такая домашняя, что кажется, входит в комнату, вписывается в интерьер. Видна и старая церковь Егварда. Несколько лет она была в строительных лесах, а сейчас, сбросив их, стоит посветлевшая, обновленная. И, невзирая на свой почтенный тысячелетний возраст, обгоняет ростом юнцов – молоденькие новостройки села. Древний Егвард молодеет изо дня в день. Деревня, пятьдесят лет назад не отрывавшая глаза от неба, молящая о дожде, ныне приглядывается ко всему новому, что есть у соседей, с тем чтобы и самим иметь все это – и водопровод, и каналы, и сады, и добротные дома, и широкие улицы, а также больницу, школу, сыновей-студентов, а главное – побольше детишек. И все это в Егварде уже есть. Особенно дети. Они шумят у меня под балконом – все разные, всех возрастов, – но, как ни странно, совершенно мне не мешают.
Иногда деревня затихает. На улице ни души. Догадываюсь, что все сидят по домам, у телевизоров. И как бы я ни была равнодушна к футболу, считая его просто упражнением для ног, все равно на сердце у меня теплеет, когда со всех балконов и окон, подобно птицам, взлетающим из гнезд, несутся возгласы, свистки, аплодисменты. «Еще один гол!» Я прерываю работу и считаю очки, забитые «Араратом». Но больше всего я радуюсь тому, что радуется Егвард.
В деревне кроме местных старожилов есть и переселенцы, те, что, спасаясь в пятнадцатом году, бежали из Муша и Битлиса и обрели здесь приют. Есть и семьи, которые в последние годы переехали из Ахалкалаки, Ахалцихе, Карабаха, Кировабада. Скалистая земля Егварда нуждается в трудовых руках, в людях, которые освободят ее от камня, вырастят пшеницу и виноград.
Я вижу с балкона, как холмы, не так еще давно изуродованные грудами труб для канала Арзни – Шамирам, избавились от своего временного груза и приняли на себя добрый, вечный груз плодоносных садов. Вижу, как деревня взбирается уже на соседние бугры, карабкается вверх, а впереди шагают стройные, подтянутые мачты электропередач. И как все это движение останавливается у четырехэтажного, не завершенного еще корпуса сельской больницы. Вижу спешащих в новую школу мальчиков и девочек в пончо и джинсах и, наконец, с балкона, как с галерки, вижу внизу, во дворе, Сируш. Ее дом прямо напротив нашего.
Когда я приехала в Егвард, Сируш с семьей занимала половину одноэтажного домика. Во дворе были конура, курятник и, конечно, тондир под навесом. За эти три-четыре года рядом с домом у Сируш появилось семь «подсобок», и все они уже заселены: коровой, телятами, овцами, свиньями, курами, легковой машиной, которая попала к ним, правда, после не такой уж легкой жизни – вся она в свежевыкрашенных заплатах. Даже собак стало две вместо одной. Если к этому добавить, что младший сын Сируш, который в школе занимается в кружке аккордеонистов и своей игрой и пением – при полном отсутствии слуха – ежевечерне собирает ораву деревенских мальчишек, а также и то, что рядом, за моей стеной, недавно появившийся на свет малыш чрезвычайно бурно протестует против только ему ведомого неустройства мира, то, как бы ни была я преисполнена толстовского всепрощения, трудно все-таки счесть мою здешнюю обитель сейчас самым тихим уголком на свете…
Не так давно пополнилась и семья Сируш. Старший сын, работающий, как и отец, шофером, «Похитил» из соседней деревни Ара девушку, правда, не без согласия «похищенной». Его отец и мать ринулись туда, чтобы утихомирить разгневанных родичей. И вот теперь, когда Сируш уходит на работу, вместо нее, прикрикивая на путающуюся под ногами свою двухлетнюю Гоар, хлопочет по хозяйству ее быстроногая невестка с короткой городской стрижкой…
По воскресеньям у крыльца дома появляется пятнадцати-шестнадцатилетний паренек с ниспадающими на плечи волосами, в джинсах и сабо. Я догадываюсь, что это тот мальчик, о котором еще года два назад рассказывала Сируш:
– Ну, а мой средний учится в аштаракской русской школе. Когда был маленький, он заболел, и совхоз послал его в Анапу, в санаторий. Там он и учился на русском. А выздоровел, привезли домой и решили: этот пускай учится в русской школе. Нам повезло – отдали в интернат в Аштараке…
Все это Сируш поведала мне с победной улыбкой, и я понимала ее простодушную гордость. Но вот гляжу с балкона на сына, приехавшего погостить к родителям. Они копают огород, мать таскает тяжеленные ведра камней, извлеченных из земли, а сынок стоит тут же как посторонний. Родителям и в голову не придет поручить ему что-либо. Как можно, а вдруг увидит кто из аштаракских ребят?!
Итак, растет, ширится Егвард, уже второй год он не деревня, а центр недавно созданного района Наири. Растет из месяца в месяц, но при этом иногда бывают промашки…
Несколько дней назад арестовали какого-то продавца сельмага.
– За что его взяли, Седа? – спрашиваю я соседку, жену учителя Маркосяна.
– Видите ли, тикин Сильва, – охотно объясняет Седа, – и хапать тоже ведь надо в меру… Я вам так скажу, главное – это совесть и доброе имя. Ну, к примеру, директор совхоза «Зейтун» Ноемберянского района Баграт Варданян. Жаль, что умер человек… Весь район, кого ни спросишь, клянется его именем… Мои родители там живут, знают. Подруга у меня жена агронома совхоза «Зейтун». Говорит: «Седа-джан, такого человека не было и не будет. Он болел, и мы решили взять со склада два ящика персиков и пойти проведать его. Приходим, жена накрыла на стол, поставила коньяк, печенье. А мы боимся сказать, что привезли ему кое-что… Наконец муж решился: «Товарищ Варданян, ты болен, мы тут тебе малость персиков принесли». Не успел он это сказать, как Варданян вскочил – и прямо к ящикам, пронумеровал их и приказал: «Сейчас же отнесите обратно на склад, завтра проверю…» Вот, тикин Сильва, потому народ и чтит имя Варданяна. А этот наш продавец – ну, скажите, чего ему не хватало? Дом как дворец, участок приусадебный, машина «Волга»… Хапают и думают, что управы на них нет, в крайнем случае всучат взятку, отделаются… Так ведь и с Тем шофером было. Десять лет ему дали за две жизни…
Бодрый голос Седы вдруг сник, она опять вспомнила о своем горе…
Сама Седа из села Садахлу, а муж из села Чардахлу. Познакомились в Ереване, поженились. Оба и работали, и заочно учились – она на английском отделении Института имени Брюсова, а он в сельскохозяйственном. Вот уже много лет учительствуют в егвардской средней школе. Давно встали на ноги, жили счастливо со своими четырьмя детьми, как вдруг грянула беда. Старшая дочь Амест шла с подругой на репетицию школьного хора. И вдруг – грузовик. Говорят, водитель был пьян, ехал по деревне с недозволенной скоростью и наскочил на девушек, идущих по тротуару. Обе погибли. Маркосяны были надолго выбиты из жизни. Их вернуло к ней время.
Как-то я заметила, что платье соседки тесно ей. Спросила. Седа покраснела, как девчонка. Сейчас в семье Маркосянов еще одна дочка. Новорожденную назвали Амест. В соседней квартире плачут, шумят, смеются, просят есть, ходят в ясли, детсад и школу снова четверо детей. Седа все больше и больше погружается в заботы о них, но и все больше и больше берет часов в школе. Муж жалуется: «Ох, эта женская ненасытность, интересно, придет ли ей конец?» – и потчует кашей Нунэ, укладывает спать Аместик, проверяет дневник Астхик, пока жена не вернется из вечерней школы…
Четырнадцатилетний сын Маркосянов Гамлет, отличник, послушный и молчаливый паренек, летом подрабатывает в сельской пекарне и каждый вечер возвращается домой с румяным хлебом – матнакашем – под мышкой.
– Есть люди, осуждают нас, – жалуется Седа, – мол, не хватает, что ли, у них денег, мальчишку заставляют работать? Дело не в нехватке. Пускай смолоду привыкает к труду, разве я неправа, тикин Сильва?
Хватает, всего хватает Маркосянам. Четыре комнаты обставлены новой мебелью, только что куплено чешское пианино марки «Петроф», посуды и белья – навалом («Ах, эта женская ненасытность! Интересно, придет ли ей конец?»). Но, как говорит Седа, дело не в том, хватает или не хватает. В этой семье чувствуется какая-то извечная сила, почерпнутая из земли и укоренившаяся здесь, на четвертом этаже, какая-то вошедшая в кровь основательность, трудолюбие, ставшие неколебимой нормою жизни. И родители, получившие высшее образование, и дети сохранили тот удивительный сплав скромности и достоинства, тот врожденный такт и душевную культуру, которые вырабатываются веками и которыми наделены лишь подлинные люди из народа.
За эти три-четыре года между мной и семьей Маркосянов установился тесный контакт. В мое отсутствие они хозяева моей квартиры, и я знаю, что она в верных руках. Когда я в Егварде, при всех больших и малых неполадках они тут как тут. После моего возвращения из Америки функции «скорой помощи» Маркосянов возросли. Когда мне необходимо для работы что-то срочно перевести – проспекты, подпись на плакате, – я уповаю на Седин английский. Правда, она не Даль, не Ачарян, но выручает. Начавшая с этой весны ходить Аместик тоже вовлечена в шефство надо мною и, выполняя наказ матери, приносит то мацони, то лаваш. А пока я писала книгу, платье Седы что-то опять стало ей тесновато…
Как из раскаленного тондира, тянется из квартиры Маркосянов в мою комнату горячий запах хлеба, добрая теплота – и, пожалуй, именно это больше, чем усердно рекламируемое количество ученых степеней и премий, наполняет меня верой в душевное здоровье и постоянное обновление нашего народа, в его извечную силу.
6 апреля, Егвард
Керовбе Птукяи тоже из здешних старожилов, из подобранных на острове Корфу и отправленных в Канаду на работу сирот-беженцев. Несмотря на преклонные годы, Птукян еще бодр и строен.
– Не понимаю, почему поездки в Армению стали у нас тут мерилом патриотизма? Это несерьезно. Я, правда, не был еще в Армении, однако полагаю, что немало сделал для своих сородичей. Если хотите, поедемте в мой офис, я покажу вам досье примерно на три тысячи людей, всем нм я помог перебраться в Канаду…
– С АНЧА[9] сотрудничаете, что ли?
– Прежде – да, а потом рассорился.
– Стало быть, против Армении действовали?
– Нет, ни одного человека я из Армении не переманил. Помогал армянам из Греции, Турции. Что было им делать, если нет возможности уехать в Армению? Бедняки есть среди них! Пока куда-нибудь их пристроят, я из своего кармана деньги тратил. Не такой уж тут рай. У Канады тоже два лица… Если хотите, покажу вам второе ее лицо…
И вот мы отправляемся смотреть «второе лицо» Канады. Конечно, звучат эти слова самонадеянно. Для такого дела нужны месяцы и даже годы. Во всяком случае я благодарна господину Птукяну, приотворившему мне форточку, из которой я кое-что могла разглядеть.
Едем в зеленой новой машине Птукяна, но уже со вмятиной на крыле.
Свободно, просторно раскинулся Монреаль. Небоскребы высятся только в центре, да и то лишь с недавнего времени. Остальное – выстроившиеся вдоль широких и длинных улиц, большей частью одно– и двухэтажные кирпичные дома, снаружи ничем не примечательные. Едем по этим кажущимся бесконечными улицам, и господин Птукян рассказывает мне о жизни монреальских армян.
– Обычно новоприезжие, в особенности переселенцы с Ближнего Востока, адаптируются с трудом. Разница в образе жизни, в психологии очень уж велика. Часто случаются срывы, наступает душевный кризис… В одной такой семье, недавно осевшей здесь, дочь, молодая еще девушка, пыталась покончить с собой. Я стал ходить к ним, всячески старался завоевать ее доверие, помочь разобраться в жизни. Надеюсь, что это мне удастся.
– Уж не миссионер ли вы? – спрашиваю я, вправду заинтересованная разносторонней деятельностю моего спутника.
– Нет, не миссионер, – смеется он, – просто хочу помогать людям.
Птукян рассказывает об учреждении, именуемом «Конторой социальной службы», с которой он поддерживает тесную связь. Задачи ее действительно обширны и необычны. И служащие, и такие, как Птукян, «внештатные», можно сказать, болельщики, участвуют в работе этой конторы, помогают, как могут, всевозможными способами нуждающимся в материальной и душевной поддержке – многодетным матерям, детям, оставшимся без помощи, больным, одиноким старикам. Бывают у них, подчас просто звонят, поддерживают дух.
Мы останавливаемся у двухэтажного дома, в первом этаже которого вроде бы магазин. На стекле витрины написано по-английски:. «Ресторан «Стамбул».
Поднимаемся по ступенькам, и перед нами нечто похожее на просторный коридор, забитый всяческим хламом. В одном углу коридора, за дощатой перегородкой, как бы кладовая. Входим туда.
– Здравствуйте, господин Етерян, я привел вам гостью из Армении.
С табуретки с трудом поднимается трясущийся старик, здоровается, пригашает сесть. Садимся, и я оглядываю «комнату». Маленькая, асимметричная, с кривыми углами, в ней едва умещаются кровать и стол. Но нет, есть и холодильник, и электроплитка. Какая-то странная эта нищета – «технизированная», что ли? Птукян хочет, чтобы хозяин сам рассказал мне свою историю. Старик делает это неохотно. И Птукян вынужден вмешаться в разговор.
Аршавир Етерян был в Каире шофером, так и состарился на этой работе. Обе его дочери переехали в Канаду, а потом вызвали к себе родителей, заверили официально, что обеспечат их содержанием. Старики взяли да и приехали. Через какое-то время дочери повыходили замуж и, забрав с собой мать, отплыли в Америку… Отец остался один-одинешенек. Сын в Кувейте, присылает старику 50–60 долларов в месяц. Почти половина их идет на квартирную плату (за эту комнату еще и платить надо!)… Субсидии он не получает, потому что приехал по гарантии дочерей.
– Хочешь, привлечем их к суду? Раз дали гарантию, обязаны заботиться о тебе. Таков закон, – пробует вызвать на разговор старика Птукян.
– Нет, нет, не хочу злом отвечать на зло…
На щеке у Етеряна красно-синий рубец – только что выписался из больницы, подозревали рак кожи, сделали операцию. При всей убогости его положения сохранились еще какие-то старые замашки. Он достает бутылку сока и, несмотря на мое сопротивление, открывает ее, угощает. Я дарю ему ереванские открытки, армянские сигареты. Он обрадован.
– Врачи разрешают курить?..
– Запрещено, но это единственное, что мне осталось… Ничего не поделаешь. Обязан исполнить свой долг перед богом – обязан жить, пока жив…
Птукян шепчет мне на ухо:
– Скажите, что будете посредником и попросите благотворительное общество помочь ему… Скажите, скажите, я потом все объясню.
– Господин Етерян, я поговорю в благотворительном обществе, вам помогут, – говорю я.
Етерян выжидательно смотрит на Птукяна.
– Конечно, гостю трудно отказать… Хотя ты сам знаешь, что виноват… Но все же надеюсь, что сможем выдавать ежемесячно по сорок долларов пособия.
Обрадованная мгновенным результатом моей «благотворительной деятельности», я прощаюсь со стариком. Выходя, Птукян поясняет. Сын из Кувейта прислал старику несколько сот долларов, чтобы потом приехать самому и начать на эти деньги здесь «дело». Однако отец опередил сына. Самовольно вместе с живущим в том же коридоре соседом, армянином из Египта, арендовал внизу ресторан «Стамбул».
– Но разве в этом волчьем мире две такие облысевшие овцы могут пастись?! Конечно же через несколько месяцев обанкротились в пух и прах… До этого я хотел помочь ему. Надо было хлопотать о пенсии, а он, видите ли, опередил. Ну, раз так, сказал я, умываю руки. Вот тебе бог, вот и порог. А увидел сейчас, сердце сжалось. Но чтобы виду не подать, к вам воззвал.
У входной двери мы столкнулись со вторым «дельцом»– вторым арендатором ресторана. Это был крепкий, краснолицый, лет под шестьдесят человек, который, видимо, никак не реагировал на провал операции «Стамбул»…
– Ничего, ничего, – ответил он на мой соболезнующий намек, – что-нибудь еще предпримем, придумаем.
Сей оптимист пригласил нас к себе, поспешил сообщить, что работал в Каире наборщиком в дашнакской газете «Гусабер», видел меня в Каире, в клубе, где я выступала.
– Прошу, оставьте здесь вашу подпись, – и протягивает вырванный из блокнота мятый листок.
Я заменяю ереванской открыткой и подписываюсь.
Комната его все-таки комната, а не «коридор в коридоре», но все равно выглядит жалко. Дети живут отдельно, предоставив отцу в одиночестве «ставить опыты», наслаждаться всеми прелестями «свободного предпринимательства». Вот папаша и экспериментирует.
Не знаю, почему, увидев этих двух погоревших «предпринимателей», я в первый и последний раз за время своего путешествия по Америке сказала:
– Почему не приехали в Армению? Не докатились бы до такого.
Мой собеседник воспринял мои слова иначе и, словно делая мне одолжение, снисходительно утешил:
– Приедем, приедем, бог даст, когда-нибудь навестим Армению…
Я прощаюсь с ним, обнадеженная незадачливым арендатором «Стамбула», бывшим наборщиком газеты «Гусабер», что он когда-нибудь «удостоит» Армению своим визитом…
Зеленая машина с покореженным крылом домчала нас на другой конец города. Новые однотипные пятиэтажные дома. В маленькой комнате на первом этаже на кровати полулежит старая женщина с выпуклыми черными глазами, бледная до белизны. Другая, помоложе, в блеклом платье, почтительно здоровается с Птукяном и робко спрашивает:
– Господин Птукян, как с нашим делом?..
– Помню, помню, надеюсь, что скоро все уладится…
– Да будет над вами благословение божье. Не забудут вас наши дети…








