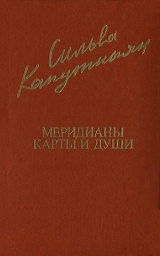
Текст книги "Меридианы карты и души"
Автор книги: Сильва Капутикян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Маленькая стрелка часов близится к четырем. Надо отправляться в клуб министерства. Уже у дверей меня догоняет телефонный звонок. Из молодежного журнала «Гарун». Просят откликнуться на выступление в их журнале председателя горсовета: «Каким хочется видеть Ереван». Соглашаюсь.
Нет, иначе я не могу. Бьющаяся во мне жилка должна сплестись, слиться с жилой моей земли.
19 апреля, Егвард
За границей мне не раз выражали удивление нашим застольям: мол, очень уж много тостов и речей. Ну что ж, им тоже можно предъявить свои претензии. Если у нас, за столом кавказцев, бокал и тост с первых же минут трапезы сливаются и так, слитно, «действуют» до конца, до тоста за тамаду, то здесь речи – да какие основательные! – начинаются сразу после того, как закончен обед, словом, – проводится организованное, «полнометражное» собрание.
Здесь, в Филадельфии, это собрание с его центром, правым и левым крылом прямо-таки не отставало от Конвента Великой французской революции. Я слушала все выступления с большим интересом, потому что в их разноречивости отражались именно те процессы, о которых говорилось раньше.
Филадельфия была не только первой столицей Соединенных Штатов, но и одним из самых старых центров спюрка в Америке. Именно здесь энергично действовали все партии, и прежде всего «Прогрессивный союз американских армян», связанный тут с самыми левыми кругами.
– Еще в черные маккартистские времена, – так начал свою речь в тот день старый деятель этого союза Лерон Казначян, – когда хоть одно сочувственное слово о Советской стране вызывало зловещее внимание «охотников за ведьмами», в то самое время наш союз твердо отстаивал свои политические позиции, продолжал издавать газету «Лрабер» («Вестник»), рассеивая муть и дымовую завесу, повисшую между Советами и Америкой, продолжал свое благородное дело сплочения вокруг Армении ее далеких сыновей.
Едва окончил свое слово представитель «якобинцев», как справа от меня поднялся седой сухопарый старик и без всякого предисловия выпалил:
– Как вы знаете, Филадельфия город провозглашения свободы. Пожелаем же, чтобы наша гостья увезла отсюда в Армению хоть немного свободы…
Сказал и сел.
Сказанное было настолько внезапным, настолько не связанным с мирным ходом этого обеда, что мне показалось, будто эти слова произнесены с юмором, нечто вроде малоудачной шутки. Но нет, оказалось, что оратор настроен вполне серьезно и представляет «жирондистское» крыло стола. После него встал зубной врач господин Махсуджян, представитель «центра», и в своей речи счел нужным вернуться к заявлению предыдущего оратора.
– Свобода очень относительное понятие, – сказал он. – Для армянина это гарантия физического существования, гарантия того, что ночью никто не нападет на твой дом, не убьет твою мать, жену и детей. Вот в этом свобода армянина…
Со стороны «жирондистов» снова «выступил» один из старейшин колоний, дашнак, господин Бозаджян. Я еще больше напрягла слух, ожидая, что «центру» будет нанесен контрудар. Однако насколько удивительным было решительное предложение экспортировать из Филадельфии свободу, настолько же удивительной показалась и речь господина Бозаджяна.
– Я был в Армении, – сказал он, – своими глазами все повидал и должен сказать, что увидел больше, чем предполагал. Об экономическом и культурном подъеме мы уже знали. Меня больше всего порадовала спокойная жизнь народа, установленный там порядок дружелюбия, товарищества с другими народами.
То, что многие из дашнаков после посещения Армении отмечают «экономический и культурный подъем», мне было известно. Что для меня было неожиданно, так это оценка и дальновидное приятие этим старым человеком новых начал нашей жизни.
По-видимому, господин Бозаджян уже давно не читал редакционные колонки своего центрального органа «Айреника», а если и читает, то прошел мимо злобных издевок и нападок именно на это дружелюбие в самых разнообразных его проявлениях. И это тогда, когда сами они от мала до велика заискивают перед иностранцами, будь то американец или француз, сладко уповая на то, что авось тот обронит где-нибудь в «сферах» сочувственную фразу по поводу бедолаг армян. Уместно здесь привести слова писателя из спюрка Андраника Царукяна, давно уже порвавшего с «Айреником».
«Когда мы нацеливаем «стрелу» в сердце большевизма, – пишет со свойственной ему едкостью Царукян, – надо помнить все же, что именно во времена этого большевизма родились и выросли армянские советские поэты, стали тем, кем они являются сегодня, – поэтами, переведенными на десятки и десятки языков, поэтами, которых знают десятки и десятки народов, книги которых выставлены повсюду – от Чехословакии до Узбекистана. Стоило французскому писателю перевести на свой язык какой-то клочок из Григора Нарекаци, как во всех наших колониях правили пиры, организованные теми же «стрелками»… Кричали об этом на все лады с восторгом, сопредельным унижению: «Чужестранцев знакомят с армянской культурой!» Манна с небес свалилась! А разве не эти злополучные большевики переводят на столько языков книги армянских писателей от Раффи до Чарен-ца и делают их достоянием миллионов?!»
20 апреля, Егвард
…Говорит «Голос Америки». По вашингтонскому времени одиннадцать часов две минуты. У нас в Вашингтоне ясная, солнечная погода… После последних известий о положении на Голанских высотах сделает сообщение наш сотрудник Арсен Саян».
И знакомый голос с западноармянским произношением рассказывает о столкновениях между Израилем и Сирией… Из далекой Америки, о таких далеких высотах, а голос со знакомыми интонациями звучит здесь, в моей егвардской комнате. Странно, невообразимо – и грустно, необъяснимо грустно…
Арсен Саян – руководитель армянского хора «Кнар» («Лира») в Филадельфии. Пять-шесть лет назад он приезжал в Армению, учился в Ереванской консерватории, на хоровом отделении, у Фатула Алтуняна. За это время Арсен несколько раз бывал у меня, с жаром рассказывал о консерватории, о своих планах. Потом вернулся в Филадельфию, а в мой почтовый ящик частенько опускали длинные нарядные конверты. Саян периодически присылал печатные свидетельства деятельности своего хора: броские афиши, программки, разукрашенные фотографиями певцов и певиц «Кнара». Настал и тот долгожданный день, когда Саян привез свой хор в Армению. Для художника из спюрка что может сравниться с радостью встречи со зрителем, слушателем, читателем на родной земле?
В Филадельфии именно об этом чувстве рассказала мне певица Тагуи, приезжавшая тогда с «Кнаром». На следующий день после приезда в этот город меня пригласил филадельфийский врач Тигран Микаэлян. Среди гостей был и Арсен Саян, с которым мы встретились как давние знакомцы.
– Сколько дней я уже в Филадельфии, а ты не показываешься.
– Я был в Вашингтоне. Прости, что на твой тамошний вечер не смог прийти. Но ребята наши были, рассказывали.
«Какие ребята?» – хочу спросить, но к нам приближаются люди с бокалами в руках, с разговорами, и Саян, мне показалось, доволен тем, что беседа прервалась.
– Выпьем, Сильва-джан, – предлагает он.
А когда отошел к бару, чтобы снова наполнить бокал, Тагуи, стоящая рядом, тихо сказала:
– Здесь, в Филадельфии, у него дела шли неважно. Работа хормейстера тут не кормит. Занялся было коммерцией– не получилось. Не тот характер. Предложили заведовать музыкальной частью «Голоса Америки» на армянском. Долго колебался, да и ехать не хотел в Вашингтон, однако… хлеб-то насущный требуется.
– А «Кнар»?!
– Он его не бросил. Вашингтон не так уж далеко отсюда, уедет – приедет… Завтра на вашем вечере будем петь.
Саян снова подошел, и я не удержалась:
– Значит, сотрудничаешь в «Голосе Америки»?
– Да, заведую музыкальной частью, а что?
– Ничего.
– Решил, что и там могу быть полезен своему народу… Буду знакомить с армянской музыкой.
– Рассчитываешь из Вашингтона знакомить Армению с армянской музыкой?
– Почему только Армению? В спюрке тоже слушают.
– Но основной адрес, кажется, Армения?
Смеющиеся глаза Саяна тускнеют.
– Выпьем, тикин Сильва…
И опять наполняет опустевший бокал.
Поблизости от меня сидит архимандрит Завен Арзуманян– глава филадельфийской армянской церкви. Одновременно он слушатель исторического факультета Колумбийского университета. Серьезный, собранный, он увлеченно рассказывает о последних изданиях Матена-дарана, недавно полученных им. Нашу беседу прерывает пьянеющий голос Арсена Саяна. Стоя в центре комнаты с бокалом в руке, Арсен громко возглашает какой-то тост. Лицо возбужденно пылает, он не может сосредоточиться, в его тосте все: и зарубежные армяне, и тяжкая судьба зарубежного армянского художника, и Армения, и гостья из Армении. Кое-как справившись со всем этим, Саян подходит ко мне.
– За тебя, за Армению… Ты что, не хочешь пить со мной?
– Почему не хочу? Пожалуйста.
Уже поздно, около часа ночи. Нужно собираться домой, тем более что плавное течение вечера нарушено. Саян по-прежнему в центре комнаты и все время с бокалом в руке. Блестящие глаза его окончательно помутнели, в голосе какие-то грубовато-вызывающие интонации. Я понимаю, что сдружился он с бокалом не от добра, а чтобы потопить в вине тревожащие его голоса, и сейчас больше, чем с окружающими, он сражается с собой, со своей совестью, со своей слабостью…
«…Говорит «Голос Америки». Сейчас наш сотрудник Гурген Асатрян сделает небольшой обзор внешней политики Америки…»
С Гургеном Асатряном я познакомилась после литературного вечера в Вашингтоне. Он сказал, что видел меня в Ереване в дни американской выставки, и, значит, наше вашингтонское знакомство – перезнакомство, правда, на этот раз в «американской зоне». Ему около пятидесяти, подвижный, с хитроватыми глазами. Он уроженец Ирана, и говор у него протяжный, по-персидски мягкий. Вот так, между прочим, мягко, вкрадчиво он и пригласил меня посетить «Голос Америки».
– Нет, – сказала я.
– Почему? Видно, очень заняты? Но наш офис близко к тем местам, где вы завтра должны быть.
– Не в этом дело, просто нет охоты наносить вам визит.
– Наверно, вы нашу станцию путаете с другими,
– Не путаю.
– Мы теперь изменились, тикин Капутикян, Америка и Советский Союз теперь друзья.
– Знаю. Но погожу, еще немножко изменитесь, тогда…
– Ну как пришлась вам по душе Америка, Вашингтон? – после паузы интересуется Асатрян.
– Я уже сегодня на вечере говорила, что нельзя не отдать дань взлету человеческой мысли, рукам человека, создавшим все это.
– Значит, не так уж гнильцой попахивает? – раздается сбоку чей-то иронический голос.
– Когда входишь с парадного подъезда, то ступаешь только по коврам, по мраморной лестнице. Но что касается меня, предложи мне все эти ковры и мраморы, эти небоскребы, ничего не получится. Я должна ступать по своей жесткой, каменистой земле, по ней, иначе задохнусь.
– Кому что, конечно, – язвительно улыбается Асатрян. – Я, к примеру, задохнулся бы, если бы должен был жить, зажав себе рот, заглушив свой голос.
«Тем более если это «Голос Америки», – вертится у меня на языке, но ни к чему тут, на ходу, в этой сутолоке, вступать в пререкания…
У Акопа Карапетяна тоже акцент армянина из Ирана. Только говор попроще, что так не вяжется с его тонкой, фиксирующей каждое душевное движение прозой.
С Акопом Карапетяном, по книгам – Акопом Карапенцем, я незнакома. В Вашингтоне говорили, что он уехал в Ереван сопровождать выставку «Отдых и туризм в Соединенных Штатах». Я жалела, что не встретилась с человеком, о котором знала больше, чем о тех, с кем мне пришлось провести там немало дней.
Ведь он настоящий писатель, и, значит, он – в своих книгах. Их строки – кардиограмма биения его сердца, рентгеновский снимок самых сокровенных помыслов о последней станции скитаний – Ереване.
…Вачик и чернокожий Джордж были друзьями. От деда, иранского армянина, Вачик без конца слышал рассказы о далекой Армении. Мальчиком завладела мечта– увидеть ее, от него она передалась и маленькому Джорджу. И вот ребята достали билет на пригородный поезд, прочли надпись «Final destination» («Последнее пристанище») и отправились в путь.
Вачик родился в Нью-Йорке. «У него большие черные глаза, в которых Нью-Йорк не смог высушить ручейки печали. Чем дальше, тем больше он ощущал в себе свою изначальность: хотел смести все границы и заглянуть за эти небоскребы, дойти до Техаса, до Индии, до Арарата. Особенно до Арарата. Про Арарат и Араке он слышал постоянно и теперь решил на изумрудных крыльях жар-птицы долететь до Еревана». И вот, «освободившись от тесных пригородов Нью-Йорка, поезд повернул к заливу Лонг-Айленд, стремительно несясь среди густозеленых лесов.
– Вон то море видишь? – сказал Вачик. – На другой его стороне – Ереван…
Джордж испугался, он не умел плавать, но Вачик утешил друга:
– Плыть не понадобится, через море есть мост. Он тянется до самого Еревана. На поезде и доберемся туда.
– А если мост рухнет?..
– Не рухнет, он крепкий.
– Ты уверен?
– Уверен.
– Клянешься?
– Клянусь!..»
Невозможно без волнения читать этот маленький рассказ и удержать слезы в конце, когда счастливые мальчики подъезжают к последней станции и с отчаянием обнаруживают, что это «Последнее пристанище» – всего-навсего маленький приморский городок Порт-Джефферсон, в нескольких часах езды от Нью-Йорка.
«Незнакомые души» – так озаглавлен сборник рассказов Акопа Карапеица. В нем мне впервые приоткрылся сложный, исполненный противоречий внутренний мир родившегося и выросшего в Америке молодого человека, в душе которого противоборствуют Америка и Армения, английский и армянский, скрежещущая металлом улица и дом, рассказывающий старые сказки, реальность и мечта… Причем эти реальность и мечта сосуществуют и в самом понятии «Армения». Реальная, входящая в Советский Союз, состоящая из заводов, земли, туфа, зерна, электрокабелей, живая, из плоти и крови, Армения – и та, иная, оторванная от нее историей и пространством Армения мечты, которая манит тебя жар-птицей, огненным скакуном, деревянным конем, обыкновенным поездом… несущимся к Порт-Джефферсону. Вот такая постоянная многослойная борьба происходит в душах его героев и в нем самом. Сложные, едва уловимые движения души, тонкие сердечные нити, тянущиеся через океан к родной земле, родным горам и долинам, и эти сухие, безразличные слова, также через океан летящие из этих же уст, к той же земле, тем же горам и долинам…
Я сама не слышала, но мне говорили, что, возвратясь из Армении, Карапенц по «Голосу Америки» систематически рассказывал о своих впечатлениях, причем весьма доброжелательно. Хотелось бы, чтобы каждая его новая встреча с реальной Арменией помогала талантливому писателю приблизиться к ней больше, чтобы с каждой встречей еще одна тяжелая волна откатывалась назад от его беспокойной души.
«…Говорит «Голос Америки». А сейчас, дорогие слушатели, наш нью-йоркский корреспондент Норайр Степанян расскажет о событиях культурной жизни армян в Нью-Йорке…»
Снова ирано-армянский говор, но какой-то еще более равнодушный, с ленцой. Будто сам говорящий витает где-то совсем в иных сферах.
Норайра Степаняна я увидела на приеме в ресторане «Арарат» в Нью-Йорке. Он хотел договориться со мной об интервью. Были уже последние дни моего пребывания здесь, и единственный удобный час выкраивался в крайне неудобное время – в тот же день, после приема, около одиннадцати вечера.
– Только пусть не будет никаких интервью, – сказала я. – Очень уж устала сегодня.
Условие было принято, и мы на такси отправились в кафе «Сахара».
Называлось оно «Сахара», но принадлежало иранцу и обставлено было в соответствующем стиле. Полумрак, восточная музыка. Наш столик на некотором возвышении, каком-то подобии балкона, прямо против оркестра.
– Что будем пить? – осведомился Степанян. – Виски? Коньяк?
– Коньяк, – не колеблясь отвечаю я, решив, что коньяк, пусть даже не армянский, во всяком случае, не подведет.
Мой спутник оказался верен слову, и наша беседа протекала без особых «проблем», без напряжения. Какая-то восточная дремотность витала вокруг, и трудно было представить, что за окном – Нью-Йорк, вскипевшая бетоном и металлом пучина. Оркестр играл, молодой смуглолицый певец исполнял какую-то тягучую песенку.
– Армянин, – сказал Норайр, – тоже из Ирана. Я его сюда пристроил. До него здесь пел другой мой земляк и тоже по моей рекомендации. Сейчас он вроде бы в Калифорнии.
Что же ваша дашнакская партия, хочу спросить я, которая претендует на главную роль в сохранении нации и так кичится этим, особенно в Иране, оказалась бессильной сохранить там прочную колонию? Ведь в тех местах и школы, и печать, и даже церковь в ваших руках.
Певца сменяет певица, в задачу которой входит воздействовать на зрителя совместными усилиями приятного голоска и до предела откровенного декольте. Во мне ее ультрабодрое пение вызывает обратную реакцию.
– Когда я вижу таких, становится грустно. Жалко их. Кто знает, с какой мечтой начинали они жизнь – стать Марией Каллас или Эдит Пиаф…
– Жалко, – подтверждает Норайр. – В конце концов, они несчастны. Несчастны, как и мы все…
Легкая наша беседа уже давно незаметно перешла в изредка прерываемое молчание. Мой собеседник все больше и больше во власти коньячных паров.
– Я только вернулся из Испании. Ездил по своим личным делам. Конечно, мог и не ехать, распорядиться отсюда, но… никак окончательно не привыкну к Америке. Наверное, Восток очень силен во мне… Если хоть раз в году не махну за океан, просто загнусь тут.
– В Армении были?
– Нет.
– Почему?
Минуту он колеблется и с улыбкой, обозначающей тысячу и один оттенок, произносит:
– Меня тоже жалко.
Поздно. Зал почти опустел. Певица, а за ней и оркестр уже сошли со сцены. Вдруг где-то в полутьме зазвучала песня. Женский голос, тихий, прозрачный. Оборачиваемся на голос – вокруг столика несколько парней и девушка.
– По-персидски поет, – говорит Норайр, – наверное, персиянка.
– Подойдем к ним, – прошу я. – В конце концов, мы тоже с Востока.
Тихонько пристраиваемся у края их столика. Девушка поет, и кажется, все пространство вокруг заткано тоской. Когда она кончила, Норайр по-персидски благодарит ее.
– Вы армяне? – вдруг по-армянски спрашивает она. – Я тоже армянка. По матери. А отец персиянин.
Зовут ее Сабрина. Смуглая, крепкотелая, она похожа на деревенскую девушку. Глаза беспокойные, ищущие. Ребята вокруг персы.
– Армянский знаете? – спрашиваю.
– Знаю и даже петь могу, мать научила, она очень любит вашего ашуга Ашота. – И, не дожидаясь моей просьбы, девушка начинает:
Эх, ашуг, не знаешь ты,
Где твоя любимая…
Смотрю на нее, на едва проступающее из сигаретного дыма лицо. Норайр уже весь в алкогольном тумане. Щепки, качающиеся на воде близ берега, не могут они ни пристать к нему, ни вернуться назад, на глубину… Как напоминают они – до сих пор! – тех бездомных и отверженных, о которых еще много лет назад писал болгарский поэт Пейо Яворов:
Изгнанники, жалкий обломок, ничтожный
Народа, который все муки постиг,
И дети отчизны, рабыни тревожной,
Чей жертвенный подвиг безмерно велик,
В краю, им чужом, от родного далеко,
В землянке, худые и бледные, пьют,
И сердце у каждого ноет жестоко:
Поют они так, как сквозь слезы поют[21].
«…Говорит «Голос Америки». По вашингтонскому времени одиннадцать часов две минуты. У нас в Вашингтоне ясная и солнечная погода…»
Странно, очень странно звучит по-армянски это «у нас в Вашингтоне». И еще притом «ясно и солнечно».
Нет, не так уж ясно и солнечно для вас в Вашингтоне.
21 апреля, Егвард
Вечер в Чикаго был назначен прямо в день моего приезда, через два часа после посадки самолета. Так что я даже не успела ни с кем познакомиться.
Собравшимся представлял гостью человек лет за пятьдесят, с тонким, мягким лицом.
– Кто это? – просила я у сидящих рядом.
– Этян, химик, но пишет тоже, дашнак…
Я слушала его, ожидая, что вот-вот он начнет славословить исключительность «армянского племени и армянской души». Но смотрю – слова какие-то другие.
– Началась вторая мировая война, и наши храбрецы, покинув свой семейный очаг, ринулись на поле битвы, хорошо понимая, как жизненно необходим победный исход для существования и будущего нашего народа.
Я вслушиваюсь, и вдруг еще более неожиданные слова, – оказывается, вот за что он меня хвалит.
– Один известный наш деятель, – говорит Этян, – поехав в Армению и поглядев на все, восторженно выступал в Ереване, но как только пересек границу в обратном направлении, тут же отрекся от всего сказанного, тогда наша гостья гневно ответила ему через газету, устыдила за двоедушие. А когда некие патриоты в кавычках репатриируются будто бы созидать отечество и спустя несколько лет, как настоящие дезертиры, удирают назад, в статье «Два письма в тот же адрес» она опять-таки публично воздала им по заслугам…
В конце Овик Этян прочитал не что иное, как мое стихотворение, посвященное Советской Армении.
Ты огонек над безлюдною степью зимой,
Крик материнский, зовущий из плена домой,
Имя твое прозвучало над полем сражения,
Имя твое словно знамя победы – Армения!
…Нет ничего для армянского сердца священнее
Родины нежной, великой Советской Армении[22].
На следующий день, согласно программе, Этян должен был показать мне достопримечательности Чикаго. Гостиница, где я жила, находилась довольно далеко от центра. В часы «трафик», а по-нашему «пик», для поездки в город или возвращения на машине надо было потратить на дорогу полтора или даже два часа… О, эти расстояния и «трафики»! Они отняли у меня почти половину и без того ограниченного времени, не позволили увидеть то малое, что мне было предназначено… Так получилось и в Чикаго. Утром выходишь из гостиницы с обширными планами – музеи, библиотека, университет, – но пока доберешься до города, пока что-нибудь увидишь, смотришь, уже стемнело, а еще целых два часа на обратную дорогу.
В Чикаго есть своего рода уникальное сооружение, так называемая церковь единоверцев. Я, честно говоря, не слышала о существовании такой религии. Выяснилось, что она не только существует, но и протянула свои ветви во все части света и, следуя учению своего пророка Баха-Уллы, явившегося миру в 1863 году в Иране, проповедует объединение всех верований: «Существует единый бог и единое человечество, потому есть и одна религия». Эта религия, которая называется Бахай, признает девять вероисповеданий, в том числе и Христа, и Будду, и Магомета, и для совершенства человеческой души предлагает что-то вроде их «коллегиального руководства». Пожалуй, по этой-то причине круглое здание церкви имеет девять дверей, купол состоит из девяти соединяющихся в центре секций. Все это сделано несколько эклектично, в основном в восточном стиле. Но изнутри храм красив – белый, легкий, приветливый. С оконных сводов, словно занавеси, опускается белая лепная узорчатая вышивка. Огромный купол весь тоже ажурный, будто затянутый белым кружевом. На круглой кайме купола начертаны заповеди – от каждого вероучителя по заповеди. Внизу нет алтаря, лишь небольшое возвышение и скамейки. Религия Бахай не допускает жрецов, священников, пастыря. Каждый бахайист должен сам знать учения Баха-Уллы, «своими силами» постигать бога…
Вот в этот храм и привел меня Овик Этян, показал мне все закоулки, прочел заповеди, в том числе и цитаты на стене зала нижнего этажа. Мы долго стояли перед молитвой новоявленного пророка Баха-Уллы: «О ты, творец добра, объедини нас всех, сделай так, чтобы все религии стали единой и единственной. Объедини народы, сделай их одной общей семьей, а весь земной шар – одним общим домом. Сделай так, чтобы все жили вместе, в любви и согласии. Господи, развевай флаг человеческого единства. Господи, сплавь все сердца и сделай одним сердцем…»
Если бы от господа зависело все это!..
Овик Этян из Греции, но уже лет пятнадцать – двадцать живет в Америке. На мое удивление по поводу его вчерашнего выступления он ответил с грустной улыбкой:
– Ваше недоумение напоминает мне один случай в Ереване. Был прием в Комитете по связи, пришлось от имени нашей туристской группы поблагодарить. Я с волнением говорил о расцвете родины… В конце ко мне подошла пожилая женщина: «Брат мой, ты хорошо говорил, хоть бы здесь были дашнаки и слышали сказанное тобой…»– «Мать, – ответил я, – я и есть дашнак и уверен, что они сказали бы то же самое…»
– Вы действительно уверены? – спрашиваю я.
– Да, кто на самом деле любит родину, – а если дашнак не любит ее, то для меня он не дашнак, – его не может не воодушевить теперешняя Армения…
– Советская Армения?
– Другой Армении пока что нет…
– Рядовых – может быть, а руководителей?
– Я как раз из руководителей… По возвращении из Армении написал цикл статей и опубликовал в «Айренике».
– И напечатали?
– Да, но к концу душа у них не стерпела. Дали столбец от редакции, постарались все свести на нет. Я им сказал: «Тогда незачем было храбриться, раз без этого столбца вам не прожить».
Этян предлагает пообедать у него дома, а потом пойти в музей. Я соглашаюсь. Однако дорога отнимает больше часа. Дом его за городом, в Барингтоне, где он и работает в каком-то центре химических исследований.
Вокруг одиноко стоящего дома притихшие, все в снегу, леса. Ощущение одиночества рассеивается от тепла в доме, от радушия и улыбки хозяйки.
В отличие от подавляющего большинства американских домов, здесь главенствуют книги. Со стеллажей, со стен, с полок меня окружает Армения, ее древние и новые реликвии, альбомы, картины, керамические тарелки и кувшины. На журнальном столике среди других и наши издания– «Советакан граканутюн», «Гракан терт», «Гарун»…
– Я хотел бы показать вам тоже. – И Этян протягивает мне номера «Айреника» и выходит в соседнюю комнату.
Около десятка очерков, заглавия которых сами говорят о себе: «Чудотворная земля родины», «Родина – центр армянской культуры», «Все это дышит Арменией». Один из очерков посвящен живущим у нас курдам и дружбе народов. Эпиграфом к нему строки Расула Гамзатова:
Как армянин, я Арарат люблю,
Как армянин, с ним вместе я скорблю.
Туман его, дыхание его
Сгущаются у сердца моего[23].
На минуту возвращаюсь к действительности: пригород Чикаго, далекая, заморская зима, потонувший в снегах чужой, незнакомый дом, более чем чужая газета – и вдруг так неожиданно мой аварский друг Расул Гамзатов со всеми реалиями той, нашей жизни. Действительно странно и занятно.
Но вот и слова самого Этяна: «За много лет наша бессмысленная борьба во всех кругах спюрка настолько углубилась, столько ржавчины скопилось в наших сердцах, что зачастую люди из одного рода, люди, проведшие детство в одном и том же селе, таят злобу и вражду друг к другу. И что более трагично – их умонастроение и нетерпимость они внушают и передают детям. Так создается скверная и удушливая атмосфера, в которой мы живем. Однако на чудотворной земле родины произошло что-то неописуемое. День ото дня мы стали лучше понимать друг друга, сдружились и в проявлениях нашего восторга старались превзойти друг друга. Сообразили вдруг, что самопроизвольно, без всякого нажима, здесь происходит то, о чем мы мечтали годами, – все вместе и каждый в отдельности».
Я уже успела прочитать почти все, когда в комнату вошел Этян. Он вопросительно взглянул на меня.
– Будь я на месте ваших вожаков, исключила бы вас из партии, – почти серьезно сказала я.
Этян улыбнулся.
– А меня исключали. На год, по аналогичному случаю… Всего несколько месяцев, как с меня сняли «наказание».
– Почему же окончательно не порвете с ними?
Этян ответил не сразу. Только потом, когда, простившись с миловидной хозяйкой, мы сели в машину, по дороге Этян поведал мне о своем смятении и сомнениях:
– Те, кто стараются понять современное состояние Дашнакцутюна, порой не до конца осведомлены. Во-первых, у дашнаков сейчас нет единой тактики, единых форм деятельности. Все действуют вразброд. Каждая колония по-разному. Каждый деятель по-своему. Это уже признак слабости… Брожение происходит не только в массах. И среди ветеранов есть люди, которые мыслят теперь иначе. Один из них – герой ваших «Караванов», доктор…
– Хатанасян?.. Знаю. Когда он приехал в Ереван, мы встретились в гостинице «Армения». Это было в дни 2750-летия Еревана.
– Вы спрашиваете, почему я не рву окончательно?.. Тот же вопрос я задаю доктору, хотя лично по себе знаю, что на такой шаг решиться крайне трудно. С детства я вырос в этой атмосфере. Моя жизнь прошла с моими товарищами, с моими единомышленниками. И теперь, в эти годы… Не могу, сил, мужества не хватает…
Влажная лента асфальта едва прочерчивается в сплошной снежной белизне. Мы молчим. Слышится лишь голос дороги, голос, который для каждого путника разный, потому что каждый слышит в нем свое.
– Не будь у меня детей, взял бы жену и приехал в Армению… Не беда, если даже вместо этого дома у меня была бы лишь комната. Здесь мне все уже не по душе, все потеряло свой смысл…
Перед нами в молочном тумане уже чернеют зубастые очертания небоскребов. Автомашины вокруг ткут металлическую паутину, и мы почти не двигаемся. Однако голос дороги все еще звучит, и каждый из нас слышит в нем свое…
24 апреля, Ереван
Пометила эту дату на чистой страничке, как и всегда перед началом работы, вот уже около двух месяцев. Но такая всколыхнулась во мне волна боли и смятения, которую я никак не могу унять, утишить, запрудить этот поток, чтобы затем по строчкам выплеснуть на бумагу.
Почему так сложилось? Почему все другие люди вырывают из календаря этот листок – 24 апреля – спокойно, как и во все остальные дни, а мы?.. Почему этот весенний месяц, этот апрель жизни стал для нас символом смерти и смертью остался в наших летописях? Ответить на эти «почему» – значит написать историю Армении и после этого вновь спросить, почему на нашу долю выпала такая история…
Я пытаюсь из этой запруды чувств извлечь и предать бумаге ощущение именно данной минуты, но из глубины потока упорно выплескиваются строки, написанные мною уже давно, и я чувствую, что сказать по-иному о том, что неотвязно тревожило меня все последние годы и побудило написать поэму «Раздумья на полпути», я не смогу.
И когда же проснулась ты в венах моих,
Вековая печаль нашей прошлой дороги?
Может, с пылью пергаментов, нам дорогих,
Ты осела в душе, возле темной тревоги?
Или рухнула вдруг, сердце отяжелив
Капители обломком и раненым камнем?
Иль, сквозь песню пролившись, сквозь горький мотив,
Стала морем во мне и дана на века мне?
Или ты пролежала в глубинах души
Долго-долго – кувшином, закопанным в Двине?
Но тебя раскопали, укрытья лишив,
И ты белому свету явилась отныне[24].
Да, существует собирательная память поколений, которая переходит из века в век, из крови в кровь. И чем народ древнее, тем сильнее века закаляют, тренируют его память, потому что именно памятью, этим цементным раствором, соединяются, скрепляются долгие разнобойные века, именно через нее, через память, созданное в одном столетии может быть донесено до следующего. Конечно, весьма существен и сам душевный склад народа, его судьба, его история – в данном случае армянского народа.








