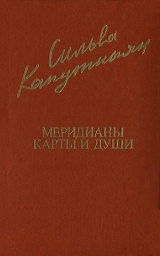
Текст книги "Меридианы карты и души"
Автор книги: Сильва Капутикян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Однако независимо от стихов и переводов, выполненных и невыполненных обещаний, наши встречи, взаимное узнавание, связи, переводы, выход вширь насущно необходимы для такой, казалось бы, не имеющей к этому прямого отношения цели, как сохранение нации. Увы, сейчас в «западном» спюрке, то есть во Франции, Соединенных Штатах, в Южной Америке, особенно среди молодежи, где главенствует французский, английский, испанский, все армянское, как это ни парадоксально, большей частью сохраняется не в армянском. Но дело не только в языке. Разительно изменился и социальный состав спюрка, его психология, общий уровень.
Достаточно сказать, что в 1700 колледжах Америки 2500 ученых и преподавателей армян, сотни врачей, инженеров, государственных чиновников, людей искусства. Завоевали они положение и в деловых кругах. Конечно, немало и таких, которые своей жизнью и делом подтверждают истину, что «капитал не имеет родины». Такие давно отошли от всего «национального». Но и те, которые еще тянутся к своим истокам, требуют нового, с поправками на время, подхода. Бывает в спюрке так, что молодой человек с детства привык к Месропу Маштоцу или монастырю Ахтамар, чьи изображения он видел висящими на стене еще у постели деда, а сейчас приобщается ко всему этому заново, когда вдруг у друзей, или в университете, или в английской газете прочтет и услышит невзначай о нашей тысячешестисотлетней письменности и литературе, о самобытности армянского зодчества, когда в зале Карнеги-холл или в Мюзик-центре Лос-Анджелеса местная публика нескончаемо аплодирует Араму Хачатуряну, ансамблю танца Армении, когда вдруг по телевидению покажут Ереван или Цахкадзор, где заседает международный симпозиум физиков. Все это вызывает новую волну интереса, пробуждает чувство национальной гордости, сопричастности.
Еще в начале нашего века студент университета в Генте, в Бельгии, молодой поэт Даниэл Варужан, увидев сборник армянской поэзии, изданный Аршаком Чобаняном на французском, окрыленный этим, стал читать там лекции о родной культуре, заверяя, что «мы способны не только гибнуть от ножа, но и творить, да уже и сотворили прекрасное».
Сейчас у нас гораздо больше оснований и возможностей показать миру, что мы не только «гибли от ножа», но способны создать и создаем храм Рипсимэ и кольцевой ускоритель, способны рождать Тороса Рослина и Мартироса Сарьяна и в вечных поисках света с той же истовостью вгрызаться в скалы Гегарда и твердь туннеля Арпа – Севан.
24 июня, Егвард
Несколько лет назад в Будапеште мне показали армянскую церковь. Это небольшое помещение на четвертом или пятом этаже. Когда я вошла, служба уже закончилась, но прихожане еще не разошлись, стояли, беседовали. Я подошла и, уверенная, что раз церковь армянская, то и они армяне, бодро поздоровалась. Черноволосые, с темными глазами и бровями, крупноносые мужчины с типичной внешностью не смогли ответить мне на армянском даже на приветствие. Это были потомки переселенцев из нашей древней столицы Анн. Обосновались здесь после ее разрушения, постепенно забыли свой язык, обычаи, нравы, но вера инстинктивно продолжала жить в них и каждое воскресенье поднимала на четвертый этаж этого помещения, побуждала подойти и склониться перед армянским евангелием этих Иштванов и Шимонов, которые когда-то были Ованесами и Симонами.
Пессимисты утверждают, что такая же участь ожидает всех зарубежных армян, тем более американских. Однако в смутном водовороте жизни американских армян хоть и не очень явно, но где-то в самых глубинах замечаешь еле уловимое движение, какой-то ручеек, который внушает надежду на то, что однажды он сольется с другими, станет ручьем, рекою. Это оживление здешней национальной жизни, когда в колониях кроме церквей стали энергичнее действовать и другие силы, когда один за другим возникают молодежные клубы, ансамбли песни, танцев, спортивные объединения, театральные труппы, когда кроме воскресных школ постепенно открываются ежедневные и давно забывший язык своих дедов, целиком поглощенный житейскими делами отец жадно заучивает первые слова из букваря сына, возвратившегося домой из армянской школы.
Что же произошло, как случилось, что на засохшем, казалось, погибшем стволе пробиваются вновь зеленые ростки?
Некоторые это считают лишь временным явлением, возникшим под влиянием армян, которые перебрались сюда из Ирана, Стамбула и Ближнего Востока. Конечно, это обстоятельство нельзя игнорировать, хотя оно и малоутешительно, поскольку свидетельствует об ослаблении старых, уже сложившихся колоний. Но кроме этого временного стимула есть еще ряд причин, которыми можно объяснить перемены в жизни американского спюрка.
Мне думается, что имеет значение та атмосфера, которая сейчас существует в мире. Впервые в истории человек оторвался от земли, ее притяжения, пролетел по Вселенной к Луне, к неизвестным планетам, и все языки мира, казалось, давно уже сложившиеся, были вынуждены принять в себя новые слова, новые словосочетания и понятия, такие, как «спутник», «космонавт», «луноход», «прилуниться», и многое другое. Казалось, что этот отрыв от земли должен был укрепить в человеке лишь одно чувство – любовь и привязанность вообще к матери-земле, должен был всех людей мира сделать «всеземлянами», не оставив места для национальных чувств. Но произошло неожиданное. Может быть, оторвавшись вдруг от земли, держа путь к другим планетам, человек внезапно испугался: а не затеряется ли он в бездонности космоса? Не обезличится ли мир от натиска НТР, от масштабности ее открытий, от всеохватывающей информации? Инстинктивный этот страх продиктовал ему еще крепче прильнуть к своим основам: к своей земле, к месту своего рождения, к своему роду и племени, заставил его отыскивать свои корни, чтобы ухватиться за них, противостоять любой невесомости, в прямом и переносном смысле слова.
Важнейшую роль сыграло существование Советского Союза и социалистические преобразования в значительной части мира. Это, а также расцвет и развитие наций, входящих в социалистическое содружество, пробуждение народов Азии и Африки, сбросивших колониальное иго и встающих на собственные ноги, способствовало повсеместному росту национального самосознания. Этот процесс распространился и за океаном, активизировал там борьбу негров за гражданские права, способствовал тому, что в Америке оживились разные этнические группы, хотя это «оживление» вряд ли отразится на характере и общем облике страны, где нивелировано подлинное лицо населяющих ее наций и племен.

Так или иначе, эти изменения пошли на пользу западному спюрку. Многие из тех, кто давно уже распрощался со своими истоками, теперь делают попытки вернуться к ним. Один из самых американизированных армян в Бостоне, Стив Мукар, который вложил много личных средств в библиотеку местного университета, теперь вдруг снова стал Степаном Мкртчяном. Свое «духовное преображение» он объясняет так: «Я до последнего времени был далек от всего армянского и нейтрален, однако потом понял, что быть нейтральным по крайней мере бессмысленно. В конце концов, нейтральный – это человек, который ничего не делает, и грош ему цена. Когда я оглядываюсь вокруг, то вижу, что каждая нация гордится своим прошлым и делает все возможное, даже невозможное, чтобы сохранить себя. Почему нам не поступить так же, когда за нами века, когда нам есть что сохранять? И вот я, духовно уже преображенный, теперь среди вас со всеми своими возможностями «делать невозможное».
Вот это «оглядывание вокруг» и способность видеть, что «каждая нация гордится своим прошлым», заставляет сегодня американского армянина обратиться к прошлому своего народа, его корням.
Эмигрировавшие когда-то в Новый Свет скитальцы, большей частью лишенные образования, тяжким трудом зарабатывали себе на хлеб насущный. Тоскуя по родному краю, они тем не менее считали «честью» получить американское гражданство, овладеть английским, «американизироваться». Людей с такой психологией, может, и огорчало нараставшее отчуждение их подрастающих детей от родного языка, от них самих. Но комплекс уничижения, который был у отцов в те годы, невольно толкал на содействие «перелицовке» сынов. Теперь, через столько лет, положение иное. Родившиеся в Америке и занявшие свое «место под солнцем» сыны больше не боятся, что их – не дай бог! – не сочтут американцами, что их английский смешон. Наоборот, теперь у них порою даже считается «изыском» знание родного языка, то, что печать предков все же лежит на их детях. Отсюда и стремление этих сынов вернуться «к себе», открывать школы, клубы, поддерживать связь с родиной.
Но, конечно, самая весомая причина оживления национальной жизни – это наличие Советской Армении, мечта, претворенная в действительность.
Маленькая эта страна на Армянском нагорье – источник духовной энергии для своих сынов, раскиданных по всему свету, своего рода кибернетическое устройство, которое издали направляет вышедший на орбиту космический корабль, упорядочивает его движение.
25 июня, Егвард
Еще раз, но теперь в последний, вернемся в Америку,
вернее в Нью-Йорк, а после этого уже домой, в Ереван. Вернемся на Америкен авеню, в гостиницу «Нью-Йорк Хилтон», поднимемся на ее тридцать седьмой этаж в 52-ю комнату на короткое, очень короткое время, потому что скоро уже придут люди, чтобы проводить меня, провести всем вместе этот последний, предотъездный вечер.
Поехали в ресторан «Арарат». Были прощальные слова, взаимные благодарности, пожелания. Когда мы шли оттуда, был поздний вечер, но я поняла, что не смогу сейчас пойти в гостиницу складывать вещи, не смогу заснуть, пока не пройду хоть по самым ближайшим улицам, не попрощаюсь – пусть бегло – с Нью-Йорком. Конечно, хотелось бы пройти по улицам одной, побыть наедине с ними, но увы, это желание для меня– чистая фантастика после всего того, что я здесь наслышалась о ночной, подстерегающей опасностями жизни Нью-Йорка. Как обидно! Обидно, что эта красота, сотворенная человеком, что это парение камня, ливень огней, сверкание витрин и вывесок, стремительная гладь тротуаров – все это сейчас оставляет ощущение какой-то оцепенелости. Каждый уголок, каждая щель, даже ярко освещенная, ощетинилась, напряглась в колючем ожидании внезапной беды. Почему это так? Неужели человек так несовершенен, если столь рекламируемая «свобода» может превратить его в игрушку в ее же тисках? Так, значит, не эта свобода нужна человеку, а свобода от самого себя, высвобождение от своих ненасытных инстинктов, от извечных искусов вещного?..
Несмотря на такую репутацию ночного Нью-Йорка, тем не менее мы шагаем по его улицам, мы, три женщины– Вава Хачатрян, Лусик Меликян и я, художница, писательница и поэтесса, идем медленно, останавливаясь, так, как ходили бы в Ереване. Прошли по Амери-кен-авеню, потом свернули направо, на 33-ю стрит, которая поуже и постарше. На изможденных лицах облупившихся зданий зевают арки, внутри виден дворик, лестницы, у подъездов сложены пластиковые мешки для мусороуборочных машин. Заходим в знаменитый книжный магазин Ризоли, торгующий до этого позднего часа. Два просторных этажа заполнены книгами, альбомами, пластинками. Преобладает классика. Тихо звучит Скрипка. Мне кажется, будто я зашла в какой-то очень знакомый дом, и книги, хоть все они и на английском, тоже мне знакомы. Чуть подальше от магазина две негритянки, молодые, длинноногие, в мини-юбках, стоят, ждут. Мимо проходит группа белых мужчин, один из них подошел к девушке; обменявшись с ней несколькими словами, он присоединился к товарищам и продолжил путь. Наверное, сделка не состоялась. Сворачиваем в Парк-авеню, на улицу старых, маленьких и самых аристократических гостиниц. Вошли в кафе «Сен-Мориц» при одной из таких гостиниц: обитая красным бархатом мебель, на стене овальные зеркала в рамках в стиле рококо. Сели, выпили чай, смакуя, не торопясь. Разговор шел об Исаакяне, о первом армянском переводчике Шекспира Хан-Масеяне, об армянской персидской колонии. Потом по тем же улицам вернулись домой…
Так прошел мой последний вечер в Нью-Йорке – лениво, покойно, – и даже две ждущие негритянки на углу не вклинились в мягкую прощальную грусть этих часов.
На следующее утро я улетела. На аэродром пришли человек десять – пятнадцать, самые близкие. Вместе с их последними словами и объятиями уношу с собой весь собранный мной за четыре месяца тяжелый груз встреч, лиц, событий, груз перевиденного, перечувствованного, и настолько тяжел он, что мне трудно не только подняться с ним по трапу в самолет, но и в продолжение почти двенадцатичасового перелета хоть на несколько минут взмахом ресниц сбросить его и вздремнуть.
Нет, не удалось мне поспать над Атлантическим океаном ни по дороге туда, ни обратно…
Приехав в Ереван и начав уже писать книгу (потому что все перевиденное и перечувствованное я не могла не выплеснуть на бумагу), все еще не представляла себе ясно, что станет тем стержнем, который будет держать «тело» книги, вынесет на себе все бремя моих мыслей и чувств.
И вот один, казалось бы случайный, толчок помог мне во всей ясности увидеть этот хребет, отчетливо понять, что я хочу сказать своей книгой.
Третьего марта по телевидению должна была быть передача, посвященная пятидесятилетию со дня рождения Паруйра Севака. Я попросила мою егвардскую соседку Седу, когда начнется, позвать меня. У нее собрались соседи по подъезду, у которых еще нет телевизора. Это простые люди, крестьяне, и среди них семья пастуха– он сам, его жена, мать и дети.
Передача началась. Целых два часа звучали слова– воспоминания, речи, стихи. Целых два часа эти люди – пастух, безмолвная маленькая старуха мать с натянутым по старинке на рот платком, детишки-школьники с пытливыми глазками – сидели как пригвожденные к месту, не отводили глаза от экрана: не дай бог что-нибудь упустить! Я видела, что не все из услышанного они полностью воспринимают – Севак одновременно и прост, и очень сложен, – но я чувствовала, что здесь кроме сознания действовал еще инстинкт, какая-то добрая радиация, которая, казалось, растворяет, делает доступной сложную мысль, понятным непонятное слово. И одновременно я чувствовала, что от присутствия этих людей, от токов, идущих от их сердец, слова поэта как-то еще больше одухотворяются, словно прорастают, созревают, создается та животворная взаимосвязанность, которая извечно существует между народом и его великими сыновьями, землей и парящим над ней кислородом.
Народ – это не просто определенное количество людей с общей историей и географией. Вот сейчас более миллиона людей, сидящих у экрана, слушают одни и те же слова, причащаются к одному и тому же чувству, живут одной и той же радостью и печалью. В этот миг нет ни домов, ни улиц, рушатся стены и перегородки, сравниваются этажи, стираются расстояния. В эти минуты есть лишь одно дыхание, жар его, который сплавляет людей в единый слиток. Это и есть народ, этот единый слиток, сотворенный духом, историей, веками, сегодняшним и завтрашним днем.
Случилось так, что судьба разметала наш народ по свету, что только часть его осязаемо, непосредственно включена в эту живительную взаимосвязь.
Мы должны объединить, собрать вместе духовную энергию народа и, как бы ни был разбросан спюрк – в Азии или в Европе, в Америке или в Австралии, – должны сделать так, чтобы его дыхание сливалось с дыханием людей, приникших в тот самый вечер к телевизору, сливалось с духовной атмосферой, исходящей от Арарата, от озера Ван и Сасунских гор, от развалин Ани и строк Нарекаци, из монастырей Гандзасара и Гегарда, от Вечного огня Цицернакаберда, от смеющегося Еревана, от всей новорожденной Армении. Мы должны сделать так, чтобы энергия, которая подымается с расстелившейся по свету шири спюрка, чтобы она не рассеялась, не пролилась дождем над чужими океанами, а вошла в общий созидательный потенциал народа, из которого набирают силу его великие сыны, его культура, его вклад в общечеловеческое…
Так вот раздумывая, продолжала я свой путь на страницах книги, уже твердо зная, куда и зачем иду. Я попыталась рассказать о том, как и в какой мере спюрк вовлечен в эту духовную атмосферу и как Армения, Советская Армения насыщает ее постоянными излучениями света и надежды. Я буду счастлива, если моя книга хоть немножко да уплотнит силу этих излучений и поможет еще больше поверить в возрождение древней страны Наири.
…Была далекая осень в очень далекой стране. В этот сентябрьский день состоялась моя первая встреча с канадскими армянами, первая на западном полушарии. Зал «Плато» в Монреале был переполнен. И вот в конце вечера, когда я кончила говорить и со сцены сошла в зал, из затихающей волны аплодисментов стихийно возникла другая волна – песня «Эребуни-Ереван». Пели все съехавшиеся сюда с разных концов огромного канадского города. Волна набегала, ширилась, захватила весь зал. И вот воздух с минуты на минуту сгущался, наполнялся какими-то непостижимыми мельчайшими частицами– трепетом, тоской, болью, радостью, надеждой, затаенными в сердце, в легких, в крови, долетевшими сюда из далеких веков и земель, долетевшими и одухотворившими все вокруг.
И если случится так, что из недр нашего народа снова явится миру еще один Хачатурян или Сарьян, я знаю, что и те частицы, сгустившиеся в воздухе зала «Плато», пересекшие океан, смешались, влились в дыхание гор и долин Армении, из которого, как из пламени и дыма, родились и будут рождаться наши легендарные и подлинные Ваагны[48], чтобы продолжить слово, обращенное к человечеству, – о свете, добре и справедли-вости…
26 июня, Ереван
Старое ущелье, все изрезанное, изборожденное… Утром от края утеса отвалился огромный кусок скалы, сорвался и грохнулся на дорогу. Моя бабушка то ли пешком, то ли на тележке добиралась сюда помолиться и поставить свечу, чтобы отогнать беды. Когда я попала сюда впервые, не помню, только помню, что дорога была каменистой и голой. И сама дорога, и все вокруг было цвета глины, и называлось это место Гарни-Гегард. И как на киноэкране, когда едва заметная вдали точка постепенно приближается и, увеличиваясь с каждой следующей секундой, становится наконец зданием с колоннадой и встает перед тобой, так и Гарни и Гегард где-то в глубине прожитых мною лет шли и шли вместе и, чем дальше, тем больше, наполнялись мыслями, чувствами, воспоминаниями.
Гарни и Гегард. Два храма совсем близко друг от друга. Гарни – еще языческий, двухтысячелетний, весь в желтовато-дымчатой пыли развалин. Из них мачтами тонущего корабля тянулись ввысь полуразрушенные колонны, словно взывая о спасении. Гегард – христианский, лет на тысячу помоложе, высеченный в ущелье, в скале, в жестком, обожженном ее склоне, уходящий весь вглубь, но как будто все выше и выше вздымающийся к небу.
Сегодня, как, впрочем, и всегда, у храма Гегард многолюдно. На просторной площадке, на подступах к ней автобусы, разномастные легковые машины. Люди приходят, приезжают изо всех уголков Армении, со всего света, приезжают причаститься к таинству Гегарда, к его древнему величию. И само ущелье с его каменными, стремящимися ввысь склонами – тоже словно рукотворный храм, еще не войдя внутрь, ты охвачен молчанием благоговения.
Гегард – скальные врата в Армению, в душу Армении. Построен он в тринадцатом веке, хотя слово «построен» тут явно не подходит. Здесь не закладывали фундамент, не воздвигали колонн, не возводили стен и не брали их «под крышу». Все высечено из одного камня, вернее, в одном камне, а еще точнее – на одном дыхании. Иначе невозможно представить, как люди в те незапамятные времена пробили, высекли сбоку в горе отверстие величиной с окошко и стали вгрызаться вглубь и вглубь, стали расширять его и руками в течение многих лет превратили в конце концов скалу в огромный монастырь, вернее, в несколько монастырей с высокими круглыми сводами, стройно-гладкими колоннами, с нишами и ризницами, с венчающей все филигранной резьбой на карнизах и капителях.
Стоим под этими величавыми сводами и молчим. Но, кажется, у молчания здесь есть эхо, исполненное звуков, шепота. У подножия закопченных хачкаров дрожащие желтоватые язычки горящих свечей.
Я приехала сюда сегодня с молодым поэтом Кари-ком Памачяном. Карик с Ближнего Востока, учился в Ереване, окончил филологический факультет нашего университета, а сейчас живет в Париже. Мы выходим из ворот Гегарда, чтобы ехать дальше, в Гарни, и вдруг откуда ни возьмись перед нами возникает деревенского вида человек, предлагающий пакетики американской жвачки.
– Удивительный мы народ, – в сердцах говорю я, – так просто соединяем жвачку и ладан…
– Ладана все-таки больше, – задумчиво говорит Карик и, отойдя на несколько шагов, уже у машины продолжает: – Недавно был в Нью-Йорке. Ездил гостить к брату, но еле вынес эти несколько недель. А впрочем, я благодарен этому городу, он помог мне еще больше полюбить Париж. Первые два-три года после Еревана я ведь места себе не находил. Когда сейчас снова приехал сюда, показалось, что никуда и не отлучался. Опять студент, опять живу в общежитии в Зейтуне. Знаете, что меня особенно радует? Встречаю знакомых ребят, девушек, здороваются и между прочим спрашивают: «Слушай, где это ты пропадал? Почему это тебя не видно было?» Удивительно, – когда учился здесь, никак не предполагал, что настанет день – и я буду радоваться тому, что я частичка этой вот обычной уличной толпы, всех этих куда-то спешащих, простых, даже грубоватых людей. Нет. не предполагал…
По узким улочкам села Гарни, затененным разросшимся старым орешником, приближаемся к полуразрушенным воротам. Я подхожу к фанерке, воткнутой в землю слева уже внутри крепости. «Работы по восстановлению храма Гарни производятся специальной научно-производственной мастерской по реставрации памятников при Госстрое Арм. ССР». За последние годы я много раз проходила мимо этой таблички, но даже не читала ее. Лишь теперь сообразила, что потускневшая фанерка с на скорую руку, простыми белилами написанными словами, наверное, должна храниться в местном музее. По сути, она возвещала о событии века, о том, что армянская земля, которая тысячелетиями привыкла к тому, что ее разрушали, к тому, что все воздвигнутое рушится, а порушенное ровняется с землей, стала свидетелем иного, до неверия собственным глазам необычайного явления. Античный языческий храм, который во всех книгах по истории искусства, во всех альбомах и справочниках был изображен в своем, казалось, присущем ему от века полуразрушенном виде, вдруг является миру первозданным, по-юношески стройным, сияющим.
В первую минуту кажется, что здесь что-то не так. В моем воображении первоначальный образ храма был грандиознее и мощнее. Казалось, что в те давние времена колонны упирались прямо в небо. Казалось, что храм всей своей каменной громадой царил над ущельями и горами, подчинял их своей языческой стихии.
Сейчас же удивительно маленьким, почти умещающимся на ладони выглядит это воссозданное сооружение и удивительно живым, зовущим, приветливым. И ущелья, и скалы вокруг тоже посветлели, смягчились, будто вместе с ним помолодели на две тысячи лет, вернулись к своей юности. Ведь на склонах этих ущелий и скал резвилась детская тень тогдашнего новорожденного храма, лишь они видели его изначальный облик.
Минуты, действительно исполненные величия. Я вхожу в те двери, куда двадцать веков назад входили наши длиннобородые прапраотцы, где всевластные жрецы зажигали огни на алтаре, поклоняясь богине любви и плодородия.
– Видел бы это Варужан[49] – тихо говорит Карик, – какие песни написал бы он.
– Ничего, напишет мой друг Ваагн Давтян, он у нас тоже язычник, – посмеиваюсь я.
И все же в эти минуты я не в прошедших веках. Я гляжу на карнизы и потолок, ищу знакомые мне камни. Вот капитель в ионийском стиле, а вот камень с орнаментом – гроздью винограда, а эти куски карниза с высеченными на нем гранатами. Я знала место, где эти обломки всегда лежали. Все годы моего детства, юности, зрелости они были на земле и вот теперь вознеслись наверх.
Я знала также одного паренька, который жил в низеньком, покосившемся домике на окраине Еревана. Вместе с родителями приехал он сюда из Лори, из села Вардаблур. Был, как и мы, студентом, окончил институт, стал архитектором. У него были большие карие глаза, волнистые волосы. Девушки засматривались на него, а он не поднимал головы, не замечал их. Глаза его прикованы были к страницам книг Стрижковского и Тораманяна, к репродукциям базилики Касаха и полуразрушенного храма Гарни. Не с тех ли дней возникла в нем дерзкая мечта поднять валявшиеся на земле капители и снова водрузить на колонны?
Он подходит к нам в рабочем комбинезоне, весь в пыли от обтесываемых камней, с уже совсем седыми, но по-прежнему густыми, волнистыми волосами. Друг нашей трудной молодости, выросший с нами, застенчивый и немногословный Алекси, Александр Саинян, руководитель восстановительных работ в храме Гарни. Вот уже сколько лет он живет здесь, неподалеку от своего «объекта». С рассвета он на строительной площадке вместе с надежными друзьями – мастерами-каменотесами Саргисом, Цолаком, Богдасаром.
Идея восстановления Гарни возникла еще сто лет назад, в восьмидесятые годы прошлого столетия. Известный археолог граф Алексей Уваров, председатель Кавказского археологического общества, предложил перевезти обломки храма в Тбилиси и восстановить его возле дворца царского наместника. Затем в последующие годы было разработано несколько проектов реставрации, но подлинную реальность эта идея обрела лишь в 1966 году, когда правительство Армении государственной гербовой печатью скрепило и утвердило последний проект и выделило для работ необходимые средства.
Академик Бабкен Аракелян возглавил раскопки в Гарни. Археологи и мастера-каменщики два года отыскивали в ущелье поблизости от храма рухнувшие туда после землетрясения обломки стен и колонн, чтобы потом, подняв их наверх, восемь лет подряд тщательно, со скрупулезностью ювелира, соединять с новыми кусками базальта, добытого в том же ущелье, из того же двухтысячелетнего карьера. Искали и собирали остатки древних камней и пионеры села Гарни, обшарившие буквально все окрестности.
Удивительный покой в лице Саиняна, во всем его облике. Покой землепашца, который, невзирая на все тревоги мира, бушующие вокруг, упорно пашет и засевает свою землю, и упорство это не только его личное, оно в нем от этой земли, от этих гор и ущелий, от народа.
В то время, когда скопившихся в арсеналах мира бомб хватит на то, чтобы вдребезги разрушить земной шар, превратить его в дым и пепел, когда достаточно одного нажатия кнопки, чтобы укрытые в засаде бомбы выскочили из своих тайников, – маленький, выстрадавший свою нынешнюю жизнь народ поднимает из руин, вызывает почти из небытия свои храмы и продолжает свой путь в века. Сколько еще тысячелетий собирается жить этот народ, земля этого языческого Гарни, этого чуда человеческих рук – Гегарда, земля космической обсерватории «Орион»…
Словно по какому-то велению свыше все это находится рядом, на одном пятачке, на каменной кромке ущелья над рекой Азат. И мне чудится, что астрофизик Григор Гурзадян, пятидесятилетний человек, голубоглазый, со взъерошенными огненными волосами и порывистыми движениями, нетерпеливо принимает из рук Александра Саиняна факел, передающуюся из века в век эстафету, эту современную Лампаду Григора Просветителя, лампаду легендарного Лусаворича, и уносит в свои владения.
Мы во владениях Гурзадяна. Здесь неподалеку его лаборатория.
– Взгляните, взгляните, какая красота, какая игра красок на этой горе, – говорит хозяин, – будто она только затем и явилась на свет, чтобы позировать художнику. Наверное, раз сто я ее писал.
И хотя наш с Кариком собеседник не профессиональный художник, а исследователь космоса, живописи он отдает много времени и на всех его полотнах – Армения и ее горы.
– На этом камне над обрывом, где вы сидите, – улыбается Гурзадян, – сидела Терешкова. Сюда приезжали наши космонавты.
Я оглядываюсь по сторонам: эта краснокаменная, вся в извечной виноградной лозе гора, эта кувыркающаяся вниз речушка, болтающая на гарнийском диалекте, эти ржаво-пергаментные холмы, где, подобно полустершейся строке, еще прочерчивается старая-престарая стежка, ведущая из древней столицы Арташата в Гарни, и космонавты!
– Значит, они бывали здесь, в Армении? – спрашиваю я.
– Да, почти все. Перед полетом приезжают, чтобы свыкнуться с повадками нашего «Ориона». В семьдесят первом году тут был Волков. Он впервые должен был взять в космос «Орион-1». Прощаясь, сказал: «Григор Арамович, до чего же здорово у вас! После полета приеду сюда работать, примете?» Я был потом на полигоне в Казахстане. Снизу, из Центра, мы, прямо не дыша, следили за полетом. После официальных сообщений Волков оттуда, с космического корабля, обещал: «Первый полет «Ориона» отметим армянским коньяком. Готовьте свои звездочки, а мы прихватим вам небесные. Звездочка за звездочку! Словом, Григор, за ваше здоровье!» А спустя минуту крикнул: «Ребята, какая там погода?» Был сильный дождь с ветром, так ударял в стекла, что казалось, они сейчас разлетятся. «Льет как из ведра», – пожаловались мы. «Эх, – застонал из космической пустоты Волков, – как бы мне хотелось под дождь!» Через несколько дней его не стало. С того дня всегда, когда идет дождь, в Ереване или в Москве, где бы я ни был, хоть минуту да постою под дождем.
– А «Орион»?
– Все приборы «Ориона» отлично работали, все записанные ленты в целости и сохранности вернулись на землю… На полигоне, – помолчав, продолжает он, – я целыми днями не говорю по-армянски, да, впрочем, и по-русски разговаривать некогда. Но тогда, когда из огня и грохота вдруг вырвался корабль, я, сам не знаю, почему, крикнул по-армянски: «Аствац им! – Боже мой!»
С таким жаром произносит он это «по-армянски», что я невольно вырываю эти два слова из общего потока и думаю: вот ведь человек. Все время общается с бездонностью Вселенной и так привязан к этой горсти своей земли, к ее горам, ущельям, к ее языку!
Мать Григора из села Манджелах в Себастии, Западной Армении. В 1915 году она с толпой таких же изгнанников дошла до сирийской пустыни, до Тер-Зора. Тот же стон: «аствац им!» стоял в воздухе. Позже, в Багдаде, курдская семья удочерила осиротевшую девочку. Там она потом встретила Арама, единственного оставшегося в живых юношу из села Деврик. В Багдаде же родился Григор. В 1924 году до Багдада дошли добрые вести об Армении, и шесть семей решили во что бы то ни стало уйти туда. Шли всю дальнюю дорогу пешком и добрели до Еревана. Саргис, теперь известный архитектор, появился на свет уже здесь, в Ереване. Отец Григора и Саргиса был бетонщиком. В стенах Ереванского политехнического института есть и замешанный им цементный раствор. «Ах, Мариам, одного я хочу, – говорил он, придя с работы, – увидеть своих сынов среди студентов этого института». Жаль, не пришлось ему порадоваться славе сыновей.








