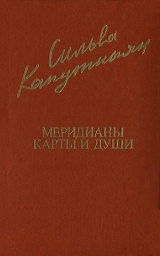
Текст книги "Меридианы карты и души"
Автор книги: Сильва Капутикян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Когда я была в Америке, книгу Болдуина я еще не прочла. Я свободно, легко ходила в негритянские кварталы, и мне казалось, что я, воспитанная по-другому, чуждая этому злополучному расовому неприятию, смогу хоть и без языка, но своим откровенным дружелюбием проложить к ним дорогу, отпереть двери к веками не отпирающимся сердцам. Но американские века сделали свое: так долго скапливалась недоверчивость к белому человеку, что развеять ее дело долгое и трудное. Трудное, но не безнадежное. И я, как громоотвод тому напряжению, дошедшему, по словам Болдуина, до невероятных высот, вспоминаю улыбки детей в школе Гарриет Табмен, вспоминаю их учителя, высокого, по-детски яснолицего Френсиса, вспоминаю радушие пуэрториканки Дульсии Байкан, вспоминаю мою подругу по перу, поэтессу Лу Ла-Тур, которая твердо верит в то, что людей можно объединить вокруг идей добра, любви, мира.
…Когда мы вышли из школы в Гарлеме, на улице было холодно. Шел снег. Замерзшие, мы втиснулись в машину. Я забыла перчатки дома и сразу же сунула застывшие руки в карманы. Вдруг вижу – Лу Ла-Тур снимает перчатки и протягивает мне. Говорю, что у меня есть, что эти мне велики. Не помогло. И теперь у меня на столе также и эти большие, из крепчайшей черной кожи перчатки. Кажется, что ничто другое не могло бы напомнить мне о наших встречах вещественнее и самоличнее, чем эти перчатки: словно две черные большие руки, протянутые для рукопожатия…
«Руки, глаза, сердце, мысль» – эти четыре слова написаны на той желтоватой визитной карточке, которую дала мне художница Валери Мейнард. Я познакомилась с ней в двухэтажном кирпичном здании Дома культуры Гарлема, где была выставка негритянских художников, – Валери обучала там рисованию чернокудрых детей. Девушка рассказала мне о судьбе своего брата. В ночь на 3 апреля 1967 года в Нью-Йорке, районе Гринич-Вилледж, неизвестные люди убили некоего капитана, «героя» Вьетнама. Двести человек были допрошены по этому делу, и виновным был признан журналист Вильям Мейнард. Множество фактов, опровергающих обвинение, не было принято во внимание судом. Мейнарда приговорили к двадцати годам тюремного заключения. Тогда был создан «Комитет по освобождению Мейнарда». Прошло уже семь лет, однако борьба не прекращалась, и теперь «Комитет» добился того, что дело обещали пересмотреть. Валери вручает мне плакат с портретом брата, с призывом: «Свободу Вильяму Мейнарду!», а также листок, где подписавшийся присоединяется к петиции протеста, направленной суду. Валери знала: та, что пришла в Гарлем вместе с Алис, не могла не сочувствовать юноше, глядящему с плаката. Чистое, вдумчивое лицо, горький взгляд глубоких глаз. Нет, этот не мог быть убийцей.
Несколько дней назад в Ереване меня навестила одна из моих американских знакомых. Еще в коридоре она поспешила сообщить:
– Алис велела передать тебе, что брата той черной девушки освободили!
Кроме радости за Мейнарда я пережила и другое чувство. Мне показалось, что в этой победе над несправедливостью есть и моя, пусть крошечная, доля. Правда, будучи гостьей, я не могла подписать тогда воззвание «Комитета», но строки моих стихов, мое сострадание и боль – это тоже участие моих, белого человека, рук, глаз, сердца, мыслей…
2 июня, Ереван
Все газеты и журналы заполнены Пушкиным – стосемидесятипятилетие со дня его рождения. Всюду в пушкинских местах – Михайловском, Ленинграде, Москве, Одессе, Кишиневе – литературные вечера и празднества, на которые съезжаются поэты со всей нашей разноязычной огромной страны.
Путь великого поэта пролегал и по Армении, поэтому и к нам приехали гости, и у нас тоже пушкинские дни.
Началось все с Ленинакана. Когда-то по дороге в Эрзерум Пушкин на несколько дней остановился в старом городишке Гюмри. В маленьком чернокаменном домике хлебосольные гюмрийцы тепло приняли поэта, угощали лавашем, стеснительные девушки по дороге к роднику наливали ему воды из глиняных кувшинов. И вот Гюмри наших дней – Ленинакан – артистично воплотил все это в установленном на центральной площади обелиске. Когда на городском митинге объявили об открытии памятника и была разрезана ленточка, неожиданно для всех забил скрытый в постаменте родничок, и прибывшие на праздник гости пригубили воду – ту же, что текла и в пушкинские времена.
Вода! Символ жизни, чистоты, справедливости, вечности. «Пусть жизнь твоя будет долгой, как вода», – говорят в Армении. Вот жизнь, которая вечна, как вода, как вода, насущна, – это Пушкин. Поэзия Пушкина. Я не знаю, есть ли в мире другой поэт, который был бы для своего народа тем, чем стал Пушкин для России.
Приходят новые поэты, стареют, становятся историей. Пушкин же всегда молод, он на устах каждого ребенка, присутствует за семейным столом, в письмах влюбленных. В Москве у своих друзей я с удивлением и восхищением вижу, как любое новое слово о Пушкине, статья, публикация переходят из рук в руки, обсуждаются по телефону, становятся предметом беседы так живо, будто лишь вчера графиня Воронцова крадучись спешила на тайное свидание с влюбленным поэтом или только сегодня утром Дантес выпустил свою роковую пулю. Может, именно поэтому юбилейные даты Пушкина и не носят той академической торжественности, какой окрашены иные литературные годовщины, призванные всего лишь еще раз напомнить об авторе. Пушкин не нуждается в напоминаниях, потому что он никогда не забывается…
После Ленинакана наш автобус двинулся к тому перевалу по дороге на Тифлис, где когда-то Пушкин встретил телегу с телом Грибоедова. Сейчас перевал остался наверху, под ним прорыли тоннель, и нет нужды больше подниматься над пропастью по крутым извилинам, а потом спускаться в Степанаван. Тоннель сократил не только дорогу, но и возможность аварий.
У этого тоннеля в ущелье тоже собрался народ, там в память о трагической встрече поэтов открыт мемориальный камень – плита из черного мрамора. Хозяева и гости произносили речи, читали стихи Пушкина, дети из соседних сел пели, звучали зурна и дудук[40]. А сверху, усевшись в ряд на краю обрыва, крестьяне-лорийцы в папахах, чабаны, спустившиеся с альпийских лугов, внимали пророческим словам поэта.
Пушкинские дни в Ереване закончились торжественным вечером в оперном театре.
– Я не знал, что в Армении такие каменистые горы, такие бесплодные, пустынные земли, – изумляется кабардинский поэт Максим Геттуев, вспоминая наш путь от Аштарака до Ленинакана.
– Вот, Сильва Барунаковна, наш подарок Армении, к этому празднику поэзии. – И сидящий напротив латвийский поэт Имант Аузинь протягивает только что изданный в Риге сборник произведений армянских поэтов на латышском.
Меня провожает домой украинский поэт Иван Драч. Невысокий молчаливый Драч, по-видимому, лишь в тишине малолюдья может разговориться.
– Прочел Нарекаци в русском переводе и во что бы то ни стало решил повидать Армению. И вот я сегодня здесь… Как это хорошо, что Пушкин стал посредником между нами… Удивительная страна у вас, какой-то концентрат земли, камня и духа. Нужно время, чтобы понять ее. Я непременно снова приеду сюда, поживу подольше…
Возвращаюсь домой после двухдневной поездки, и во мне новый заряд бодрости не только от как бы заново увиденной родной стороны и ее людей, но и от общения с друзьями, такими разными, казалось бы, бог знает из каких мест, но ставших частицей и моей жизни.
На протяжении веков человечество складывалось из пестрой мозаики больших и малых наций и рас. На протяжении веков в этих нациях и расах утверждались отношения покорителя и покоренного, угнетателя и угнетенного, в лучшем случае – спасителя и спасенного. Это все вызвало в душах людей, с одной стороны, национальный эгоизм, надменность, порочное чувство расового превосходства, с другой – рабство, страх, затаенную злобу угнетенного. Так было веками, и «великие мира сего» в великих книгах, полотнах, скульптурах, памятниках и симфониях пытались уравновесить полярность, умерить эти столкновения в человеческой душе, вселяя в нее чувства любви, понимания, братства.
И сейчас за рубежом много таких людей, которые стремятся поставить культуру, литературу и искусство на службу духовному сближению людей, стиранию преград между нациями и расами. Но с кардинальным решением этих проблем мы все-таки, несмотря на все сложности, встречаемся у себя дома. Все эти наши декады, конференции, симпозиумы, встречи, огромный размах переводов и изданий – все это стало привычным, обиходным, введено в государственное русло. Это моральная позиция страны, ритм ее новой духовной жизни.
Если каждый из нас попробует нарисовать карту своих дружб, то увидит, что невольно день ото дня на ней обозначаются все новые места, появляются все новые краски и рельефы, новые люди, новые языки. Это не только география, не простое прибавление людей. Это оказывает прямое воздействие на наш душевный мир, расширяет его меридианы, накладывает на него свои цвета, незаметно отливает новый духовный сплав. Я это особенно чувствую, когда и дома, и за границей встречаюсь со своими зарубежными «сокровниками», с людьми искусства.
Разговариваем обо всем – вновь переживаем прошлые беды нашего народа, невзгоды спюрка, радость возрождения Армении. Но наступает момент – и я чувствую, как между нами образуется какой-то водораздел. Мои сородичи остаются на берегах Аракса, у подножия Арарата, у стен Эчмиадзина. А у меня в душе кромз этого еще другие, им непонятные, ими не воспринимаемые краски и оттенки. В моей душе живет Москва с ее исполинским дыханием и в то же время такая домашняя, привычная. Живет мой друг поэт Мария Петровых, которая для меня не только переводчик моих стихов, на и мерило честности, человечности; я радуюсь новой книге Кайсына Кулиева, его чудесным стихам об Армении, в которую он влюблен, как юноша; меня живо интересуют сроки окончания строительства преобразующей таджикскую землю Нурекской ГЭС, где я недавно была; я рада, что белорусские зодчие сумели создать такой поразительный памятник народной трагедии, как Хатынский мемориал; словом, кроме того, что я частица Армении, я – частица нашего могучего сообщества.
Становится ли меньше от этого во мне «армянская доля»? Расчленяется ли моя душа, раздваивается? Нет, она становится еще более целостной. В то время как в спюрке констатация факта, что тот или иной человек «не скрывает, что он армянин», вменяется ему в заслугу, для советских армян наша национальная гордость – естественное состояние. С детства воспитываясь в постоянном общении с другими нациями и культурами, душа приучается воспринимать и другие культуры как родственные. И это создает такую крепость души, такую стойкость, которой не грозит напор стихии более мощной культуры, ничто не может оторвать эту душу от своих берегов. А именно такое как раз зачастую происходит в спюрке. Стремясь сохранить свое «армянство», родители стараются изолировать детей, оградить их от мира, где они живут, и когда эти дети в конце концов выходят из «норы» на свет, он слепит их непривыкшие глаза. Не от этого ли там такие крайности: либо скорлупа национальной ограниченности, либо полнейший отрыв от корней, забвение того, что кроме Пикассо есть средневековая армянская миниатюра, кроме небоскребов – храм Рипсимэ?
Все эти мысли одолевали меня после новой встречи с друзьями в пушкинские дни. Когда я писала о Гарлеме, то привела распространенный там термин «эмоциональный расизм», а сейчас мне хочется сказать об «эмоциональном интернационализме». Правда, формулировка не очень научная, но окраска, думаю, точная.
Так рушатся ограды, разделяющие людей, и создастся эмоциональная общность сердец. Создается… Еще долгий путь должен пройти человек, чтобы окончательно победить в себе века и полностью принадлежать новому веку.
3 июня, Егвард
Наверное, как и всех приезжих, меня свезли подсмотреть главную достопримечательность Филадельфии, которая, собственно говоря, главная достопримечательность всех Соединенных Штатов Америки. Это находящийся в самом центре города мемориал, именуемый «Национальный парк». Вот уже два столетия, как стоит этот двухэтажный дом-крепыш, увенчанный невысокой башенкой, по залам которого я и прошла со своими спутниками. В истории Америки здание это известно как «Зал Независимости», поскольку именно здесь, в этом доме, 4 июля 1776 года была провозглашена Декларация независимости Америки – результат и завершение освободительной войны против Англии. Здесь была разработана и утверждена конституция Соединенных Штатов Америки. Здесь, в этом здании, приступил к исполнению своих обязанностей первый президент – Джордж Вашингтон. Декларация независимости на весь мир провозгласила: «Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены равными, и все они одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью».
Это был молодой голос молодой страны, раздавшийся с того берега океана. Голос страны, которая почти не имела истории, не была скована цепями привычек, закоснелых законов. Феодальные крепости и древние гербы не подавили ее революционного порыва, не обуздали экономической энергии. У нее, этой юной еще страны, имелись лишь бескрайние богатейшие земли, которые не были рассечены границами и разделены пошлинами, было множество перебравшегося сюда из Европы люда,? в ком бурлила неуемная жажда деятельности и кто восстал против колониальной зависимости, заявив, что она противоречит природе человека, что каждая нация имеет право на свое правительство, избранное ею по доброй воле.
Энергия людей, сбросивших с себя ярмо, принесла щедрые плоды. Ожили пустынные земли, выросли города, страна обстроилась мастерскими, заводами, фабриками. И уже в конце девятнадцатого века Соединенные Штаты, этот не объезженный еще жеребец, сорвался с узды и понесся вскачь, оставив позади стареющего британского льва и всех тех, кто встал рядом с ним на старт беговой дорожки.
Прошло, однако, не так уж много времени, как великий американский поэт Уолт Уитмен, могучий певец вольного расцвета человека и земли, забил тревогу:
«…При беспримерном материальном прогрессе общество в Штатах искалечено, развращено, полно грубых суеверий и гнило. Таковы политики, таковы и частные лица. Во всех наших начинаниях совершенно отсутствует или недоразвит и серьезно ослаблен важнейший элемент всякой личности и всякого государства – совесть.
Я полагаю, что настала пора взглянуть на нашу страну и на нашу эпоху испытующим взглядом, как смотрит врач, определяя глубоко скрытую болезнь. Никогда еще сердца не были так опустошены, как теперь здесь у нас, в Соединенных Штатах. Кажется, истинная вера совершенно покинула нас. Нет веры в основные принципы нашей страны (несмотря на весь лихорадочный пыл и мелодраматические визги), нет веры даже в человечество… Нажива – вот наш современный дракон, который проглотил всех других».
Читаешь эти строки и удивляешься, как сумел поэт так рано предощутить все то, что ныне так явно расшатывает здание, заложенное два столетия тому назад. Ныне это опустошение сердец, предсказанное Уитменом, приняло еще более угрожающий характер.
Америка занимает сейчас главенствующее место не только по количеству автомобилей, но и по числу пуль, направленных в душу и грудь американца. От этих пуль погибли или были тяжело ранены девять президентов, начиная с Авраама Линкольна и кончая Джоном Кеннеди. Америка, которой удалось в двух мировых войнах отделаться не такими уж тяжкими жертвами, эта самая Америка умудрилась за то же время, можно сказать, у себя дома, в «семейной обстановке», потерять восемьсот тысяч своих граждан, погибших от оружия, направленного из-за угла. Если, начиная с тысяча шестисотого года, Африка служила для американских плантаторов неистощимым источником, поставлявшим чернокожих рабов, то ныне гетто для чернокожих – неистощимый источник вечной ненависти, расовых столкновений и ярости, готовой взорваться каждую минуту. Преступность, наркомания, душевные заболевания, растление подростков, половая и всяческая прочая разнузданность, поощряемые кино и телевидением, – все это сплетается в такой клубок, в хаос, где трудно определить концы и начала. У Чикаго давно уже отнята «высокая честь» быть столицей гангстеров и поделена между всеми американскими городами. Вполне респектабельные чиновники всевозможных государственных учреждений – «белые воротнички» – занимаются всяческими махинациями, взяточничеством, нарушением законов, неуплатой государственных налогов… «Мы сильны и богаты оружием, но бедны душой», – благочестиво вещал еще не так давно Никсон. И не знал господин президент, обеспокоенный состоянием души американца, что через каких-нибудь два года небоскреб под названием «Уотер-гейт», приютившийся в центре Вашингтона, столь необычным образом помешает ему продолжать трудиться над тем, чтобы его нация стала богаче не только оружием, но и душой.
В Вашингтоне меня опекал певец и дирижер Тигран Жамкочян. Я знала Тиграна по Бейруту. Потом он переселился в Вашингтон, у него тут свой хор «Жамкочян», который состоит большей частью из американцев и пропагандирует армянскую музыку. Есть у Жамкочяна и своя маленькая обитель, на дверях которой знакомыми буквами написано: «Гай Тун» – «Армянский дом». У него жена-американка Джинни и годовалый сынишка. Джинни по профессии преподавательница, она преподавала раньше в университете другого штата. Из любви к мужу оставила работу и переехала в Вашингтон, где учительствует в школе. Многое оставила Джинни из любви к мужу – свой край, родителей, обычаи родных мест – и привилась, как веточка к чужому дереву, к «Армянскому дому», к этому крохотному клочку земли. А он всего-навсего цветочный горшок по сравнению с необъятными плантациями. Но как эта женщина сумела прижиться на этом клочке земли! Светлый, нежный стебелек. На лице никакой косметики. Гладкая прическа, прозрачная синева глаз. Джинни с какой-то робкой влюбленностью воспринимает все армянское – песни, шараканы[41] храм Рипсимэ, боль и радости Армении. У меня даже сердце защемило, когда я услышала, как она перед обедом шепчет слова молитвы по-армянски.
Эта пара и знакомила меня с Вашингтоном. Разумеется, бегло, так сказать, в порядке пробежки, поскольку в нашем распоряжении было только два дня. В самом начале машина Тиграна проехала мимо серого круглого строения.
– Это и есть «Уотергейт», – сказал он. – Видите здание напротив него?.. Из его окон республиканцы следили за демократами.
По правде говоря, хотя в Америке уже вовсю шли разговоры о событиях в «Уотергейте», я тогда не особенно задумывалась над этим, не воспринимала тогда эту проблему во всем ее объеме. Быстро посмотрела на этот комплекс с гостиницами, магазинами, конторами, на все это круговое строение и на прямоугольное здание напротив. И мы проехали. Тогда я, как и сам президент Никсон, не подозревала, что грядущее «уотергейтское дело» привлечет к этому тихому сероватому дому такое шумное внимание мира. Иначе– обязательно зашла бы внутрь, представила себе, что к чему. Уже позднее, когда я писала эту книгу, узнала, что «Уотергейт» – который можно перевести и как «дом, построенный на воде» – вывел кое-что и кое-кого на чистую воду и приоткрыл американцам глаза на многое. Спрятать концы в воду па этот раз не удалось.
Вслед за «Уотергейтом» мы осмотрели Белый дом. Это скромное двухэтажное здание выглядело невзрачнее, чем на фотографиях. Внутри все так же скромно, сдержанно. В 1800 году сюда из Филадельфии переместилось правительство федеральной республики, оно, так сказать, еще переживало медовый месяц демократических увлечений и, строя для себя резиденцию, не желало перенимать роскошь европейских дворцов.
Мы пришли в Белый дом рано утром, еще до начала работы, и потому имели возможность покружить не только по музейным, но и рабочим комнатам, кроме той части второго этажа, отделенной натянутым красным шнуром, где работали президент и его помощники.
А в остальном мы видели все: жилые комнаты, гостиную, столовую, детскую, личные вещи Вашингтона, Линкольна, Рузвельта.
Стены были увешаны портретами американских президентов и их жен. Рыжеволосый, смеющийся, в лице что-то мальчишеское, на лоб сползла прядь волос – смотрел на нас Джон Кеннеди. Чуть поодаль – Жаклин, Джекки, красивая, с четко очерченным крупным ртом, дерзким взглядом…
Я не ханжа, не собираюсь судить никого за изменчивость чувств, однако мне не хотелось почему-то видеть ее рядом с Кеннеди.
Когда в ноябре 1963 года в Далласе среди бела дня убили президента, я жила под Москвой, в Доме творчества «Переделкино». Работала над книгой «Караваны еще в пути». В течение нескольких дней все мы, кто находился тогда в Доме творчества, – писатели, их жены, уборщицы, повара – не могли прийти в себя. Не отрывались от телевизора, с болью и жалостью смотрели передачи из Америки – слушали речь, произнесенную Кеннеди несколько дней назад, видели Жаклин с двумя маленькими детьми у его гроба – и пытались понять: как все это произошло?.. И вот через какое-то время в печати появились фотографии: смеющаяся, сияющая, в подвенечном платье Джекки со своим новым мужем, греческим мультимиллионером, остроносым стариком Онассисом… Я восприняла это просто как вызов человеческой верности.
С такими невеселыми думами подходила я к памятнику Линкольну. Мраморная колоннада окружала здание с четырех сторон. В нише размером с комнату сидел великий солдат свободы, одинокий и старый. В лице его были сила и гнев. На стенах ниши высечены слова Линкольна. Был ли там его знаменитый завет, произнесенный еще на заре революции: «Свобода выше собственности, человек выше доллара»? Наверное, был! Такие заветы для того и существуют, чтобы быть высеченными в камне и зачастую, увы, окаменеть вместе с камнем…
Мы поднялись на окруженный зеленой стеной холм, где находилось Арлингтонское кладбище. Отсюда, с холма, видно поле, на котором тысячи одинаковых бетонных, в полметра, обелисков. Здесь спят вечным сном американские солдаты, в том числе и погибшие во Вьетнаме.
В Америке словно не желают произносить это слово – Вьетнам. И отнюдь не потому, что все связанное с Вьетнамом забыто. Скорее наоборот. Эта страна, лежащая в тысячах километров отсюда, неизменно присутствовала, ощущалась в жизни, в делах огромной, могучей Америки и американцев.
Выпестованная в Пентагоне, пятиугольном, гнетущего казарменного типа здании, благословенная Белым домом, эта самая черная и самая долгая из войн, которые вели Соединенные Штаты, обошлась американскому народу в четыреста миллиардов долларов. Однако громадный материальный урон несравним с теми неизмеримыми моральными потерями, которые понесли Соединенные Штаты, семь лет подряд без передышки с суши, с моря и с воздуха обрушивающие бомбы и беды на эту небольшую, непоколебимую в своей справедливости страну. Об этих же потерях и писал в газете «Нью-Йорк тайме» известный американский обозреватель Джеймс Рестон: «…В результате этой войны произошло резкое падение уважения к авторитетам в США – падение уважения не только к гражданскому авторитету правительства, но также к моральному авторитету школ, университетов, печати, церкви и даже семьи… Мало кто из американцев оспаривает мнение, что – на пользу ли это или во вред – с американской жизнью что-то произошло: что-то еще непонятное или невоспринятое, что-то новое, важное и, вероятно, долгосрочное по своему характеру».
Да. каждый шаг, каждый поступок, будь он справедливый или несправедливый, сделанный даже за тысячи миль от самой страны, оставляет след и на внутренней ее жизни, обновляет или расшатывает не только ее экономику, но и ее авторитет, вес, моральную крепость людей, заставляет пересмотреть, переоценить понятия, казалось бы не находящиеся в прямой связи с тем самым, сделанным вовне шагом.
4 июня, Егвард
Говорят, что в настоящее время по количеству преступлений Сан-Франциско шагает в первых рядах. Видимо, мастерам этого «бизнеса» надоел сумрачный Чикаго и такие же унылые города, они предпочитают Сан-Франциско, Лос-Анджелес и им подобные «райские» кущи. Тут и живут вольготней, и убивают с большей легкостью и артистизмом. Да и укрыться здесь легче – в дымке океана, в романтических горах… А Сан-Франциско, этот белоснежный красавец, растянувшийся на берегу синего океана, и в самом деле может вскружить голову. Никогда не скажешь, что в таком городе, где на зеленых холмах высятся богобоязненные церкви, где так по-домашнему уютно раскинулись еще с незапамятных времен китайские, русские, японские кварталы, где люди по старинке, с какой-то трогательной сентиментальностью, привязаны к своему столетнему трамваю и не дают городским властям убрать его, – не подумаешь, что именно этот город называют сейчас «городом дурных снов» и что на его улицах чаще чем где-либо попадаются хиппи, накурившиеся до одури гашишем, что именно здесь возникают одна за другой самые невероятные шайки. Такие, как «Ангелы смерти», «Черти Мэнсона», и среди них ультрасовременная «Освободительная армия симбионистов»… Эта «армия» через два месяца после моего отъезда из Сан-Франциско среди бела дня похитила дочь «короля печати» мультимиллионера Рандольфа Херста Патрицию, студентку университета Беркли. Последняя очень быстро не только примирилась с «симбионистами», но и стала бравым солдатом их «армии» – с пистолетом в руках она участвовала в ограблении банков, в убийствах и грабежах, объявив войну не только собственности, но и собственным родителям…
В дни моего пребывания в Сан-Франциско там широко отмечался «День благодарения». Это исконно американский праздник, во время которого американцы благодарят господа за то, что четыреста лет назад он открыл перед ними далекие и плодородные земли и сделал пришельцев из Европы хозяевами этих земель…
Когда я прилетела в Сан-Франциско, встречавшая меня Марго Оганисян тут же, в аэропорту, сообщила, что по случаю «Дня благодарения» армян в Сан-Франциско не сыскать, они почти все в разъездах, в гостях, а посему – передохните от них немножко. «Я обещаю вам, что скучать не будете».
Последняя фраза была сказана по-русски.
Я очень удивилась этому. А «ларчик просто открывался». Марго была ни больше ни меньше как китайской армянкой. В Сан-Франциско она переехала из Харбина, где много русских.
Марго оказалась, как говорится, вполне свойской. И не только потому, что не раз была в Армении (возила туда туристов), но и всем своим обликом и нравом: жизнерадостная, чисто ереванских габаритов, с кавказской щедростью души и кармана.
– Я сняла тебе отличную гостиницу, – тут же перешла она на «ты», – «Хилтон Тауэр». Это самое лучшее, что здесь есть.
Во время оформления в гостинице выяснилось, что служащий, занимавшийся этим, тоже армянин.
– А! Знаю вас по Бейруту. – Мой земляк оторвал свой крупный нос от бумаг и просиял в улыбке. – Поднимитесь пока наверх, я вам устрою номер получше…
Вскоре он действительно появился, очень довольный, и переселил меня в один из лучших номеров гостиницы, на самом верхнем этаже, распахнул окно, и очам моим предстал Сан-Франциско во всей своей красе: самый длинный мост в мире, словно летящий над заливом, именуемым «Золотые ворота», и Его Величество Великий, или Тихий, океан. Все это новоявленный бейрутский знакомец «устроил» мне по той же скромной цене, что и за прежний номер. Так что не хватало Америке топливного кризиса, бушевавшего в те дни, а тут еще компания «Хилтон» должна понести убытки из-за армянской солидарности.
Я была признательна «Дню благодарения», дня три армян на горизонте почти не появлялось, и по этой самой причине я смогла провести с Марго самые беззаботные, самые «разгрузочные» дни за все четыре месяца моего путешествия. Невзирая на угрозу встречи с «Ангелами смерти», на рискованность прогулок в поздний час, Марго дала мне возможность в эти несколько дней почувствовать, что такое «индустрия развлечений». Я, правда, не Патриция, наследница мультимиллионера Херста, и «Симбионистская армия освобождения» не имела особых оснований рассчитывать на крупный куш – выкуп с армянской колонии в Сан-Франциско. Но все-таки только сейчас, задним числом, до меня дошло, какому риску подвергались мы с Марго, когда поздно вечером бродили по безлюдным, плохо освещенным улочкам Сан-Франциско одни, без спутников, заглядывали в кафе, входили в сомнительные кинотеатры…
Вечером Марго, выйдя из кафе, решительно остановила машину, и мы, два увесистых колобка, плюхнулись на сиденье. Моя китае-армянская подружка нацелилась в этот день сбить меня с ног одним нашумевшим фильмом, который даже для американского экрана считался «клубничкой». Водитель, плотный, средних лет американец, простой и улыбчивый, долго плутал по улицам в поисках этого кинотеатра. Марго все время над ним подтрунивала, а мне переводила то по-русски, то по-армянски:
– Он говорит: «У меня жена, дети. Откуда мне знать такие места?»
И в самом деле, то, что нам привелось увидеть… Но в общем подобных мест и впрямь лучше не знать.
Я хоть и поверхностно, разумеется, но имела какое-то представление об американской «индустрии развлечений». Из всего, что я повидала такого в этой поездке, мне более или менее запомнилось чикагское кабаре «Шестиугольник». Танцовщица, исполнявшая «танец живота», – только это был не танец, а некое лишенное всяких эмоций моторизированное вибрирование, – двигалась по краю сцены, в самой непосредственной близости от уже порядком хвативших зрителей. Сцена была совсем низко, и сидящие за столиком мужчины, не стесняясь в выражениях, приподнимались и совали ей за переливающийся лифчик из парчи свои пропотевшие доллары. Зрелище было по-американски «конкретно» и без сантиментов. Восточные танцовщицы, которые довели «танец живота» до искусства, были бы оскорблены американскими «нововведениями»…
Но та мерзость, на которую мы попали с Марго в том самом кинотеатре Сан-Франциско, за гранью всяких эпитетов. Это было вне любви, вне страсти, вне стыда, даже вне похоти и тому подобных, все-таки человеческих чувств. А если уж употреблять слова «стыд», «стыдиться», чтобы определить психологическое состояние человека, то их следует отнести прежде всего не к тому, что ты видишь на экране, а к самой мысли, что человек способен подобное, чему и имени нет, преподнести как «искусство», воплотить, заснять, выставить напоказ…
Есть в Сан-Франциско еще одно прогремевшее варьете, которое там считается уникальным пристанищем искусств. В отличие от кинотеатра, где мы побывали накануне, где в огромном зале сидело всего человек восемьдесят, здесь зал был набит битком. Женщины, мужчины, молодые, старые – в общем все, как в обычном театре. А необычное было только на сцене. Полуобнаженные девицы из кордебалета исполняли и классические, и современные танцы. Певица в длинном платье, с обнаженными руками пела арии из опер и романсы. Полная, крупная женщина с копной рыжих волос рассказывала остроумные истории, зал смеялся, аплодировал. Все было честь по чести. И вдруг в конце представления танцовщицы скинули с себя лифчики вместе с бюстами, певица – свое длинное платье, толстуха юмористка – нежный тюль, прикрывающий глубокое декольте. Все сорвали с головы женские парики – из-под всего этого на свет божий предстали крепкие мужские, подтянутые тела, мускулистые руки и ноги. Одним словом, Евы вдруг заговорили низкими мужскими голосами, ухмыляясь во весь рот – то ли над зрителем, то ли над собой…








