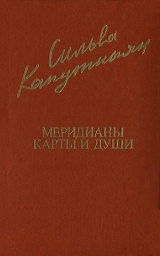
Текст книги "Меридианы карты и души"
Автор книги: Сильва Капутикян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Ничего не скажешь! Лас-Вегасу эта встреча двух «сокровников» вполне созвучна. Увидел нас – и мгновенно сработал автомат, одновременно зажглись в ряду четкие схожие картинки. Кругляки со звоном провалились вниз, обрадовав игрока. Понапрасну огород городили. Больше картинки одновременно не зажглись.
13 мая, Егвард
Сколько армян в Америке, столько и биографий. Еще до первой мировой войны некий молодой гюмриец Антикян приехал в Америку в поисках работы и счастья. Работу нашел в шахте, в забое, который, однажды рухнув, оставил под обломками и его, и его счастье. Два других его брата приехали сюда, чтобы увидеть могилу погибшего, позаботиться о ней. И тут вспыхнула война, невозможно было вернуться назад. Гриш Антикян, а по-нашему Гриша, один из тех двух братьев, живет в Лос-Анджелесе, ему уже за семьдесят. Крупный, отяжелевший, но еще очень подвижный, деловитый, он активный деятель Прогрессивного союза.
Сегодня он взялся показать мне Диснейленд.
– До тебя приезжал Геворг Эмин. И его я возил туда. Геворг говорил: «Дядя Гриш, если бы не ты, что сталось бы с приезжими из Армении…» А я отвечаю: «Слушай, парень, пока я ол-райт, буду всегда полезен родине, а после уж как хотите…»
В устах Гриши гюмрийско-ленинаканский диалект остался таким густым, первозданным, что кажется, никакому английскому не пробиться через эту густоту. Если бы не часто повторяющиеся «ол-райты» и соответственные этим «ол-райтам» некоторые изменения в характере, я подумала бы, что он не иначе, как «зав» какой-то ленинаканской столовой – хашханом – или один из игроков в нарды, просиживающих часы на узкой улочке Дзорибогаз.
Наше пребывание в Диснейленде должно было занять целый день. Я попросила Гришу пригласить и моего друга, редактора Андраника Андреасяна, с которым мы были в Лас-Вегасе. Антикян охотно согласился.
Приехали мы в Диснейленд через два часа. Автостоянку не охватить было глазом, казалось, это раскинувшиеся на десятки гектаров плантации, где вместо кустиков табака или чая рядами растут автомобили.
Дядя Гриш «сажает» автомобиль в одну из щелочек в рядах. Еще у входа в Диснейленд Андреасян неожиданно отошел и поспешил к кассе. Дядя Гриш сделал попытку помешать ему, однако три книжки с билетами-абонементами, которые стоили довольно дорого, были уже в руках Андреасяна… Мысль моя сразу полетела в Ленинакан – на родину дяди Гриша. Ленинаканец, кто бы он ни был, с достатком или без такового, скорей перевернул бы весь мир вместе с Диснейлендом, чем допустил, чтобы его гость оказался в роли хозяина…
Входим.
«Все началось с одного мышонка», – сказано в проспекте Диснейленда. Этот мышонок – Микки-Маус, «суперзвезда» мультипликационного фильма, большеголовый, с круглыми, выпученными глазищами, со ртом, доходящим до ушей. Самый счастливый мышонок в мире, ставший «суперзвездой», и где – в Диснейленде…
Режиссер Уолтер Элиас Дисней, создатель многочисленных мультфильмов для детей, создал и этот Диснейленд, вложив сюда все свое знание детской души, свой талант художника и фантазера.
Диснейленд, что означает страна Диснея, – это как бы концентрат пространства и времени, в котором соединены, собраны вместе река Миссисипи и Большие Каньоны, первые, ступившие на берег Америки поселенцы и типичный для начала прошлого века город Новый Орлеан, африканские джунгли и стойбище индейцев-абори-генов, разукрашенная ладья пиратов и космический корабль. Все это создано руками человека, все искусственное. Но кажется несправедливым ко всему этому применить слово «искусственный». С такой яростью стреляют и сопротивляются напавшим на их след пираты, так гибко извиваются у берегов Нила резиновые крокодилы, что всё – и реки, и водопады, и растения, и животные, дома и улицы Нового Орлеана, и индейские поселения, вытянувшиеся вдоль берегов Миссисипи, – все это кажется подлинным, вернее, ошеломляет иллюзией подлинности, неуемностью фантазии.
Часть территории здесь так и называют «Страна фантазии». Вот сооруженный то ли из пластмассы, то ли из дерева, легкий, почти невесомый, с несчетными башнями и куполами самой причудливой формы, белый замок из сказок о Спящей красавице, о фее-волшебнице, о Золушке. Вереница моторизованных экипажей везет вас туда, где куклы под музыку и пение разыгрывают почти все знаменитые сказочные сюжеты. Экипаж мчится по извилистым дорожкам– с обеих сторон тебя тянут к себе, хотят завлечь поющие, танцующие, читающие стихи куклы в костюмах всех племен и народов. Каждой сказке – свой колорит, свой антураж: если индийская, то храм Тадж-Махал, если египетская – пирамиды, арабская – пустыня и верблюды. Русские куклы поют и танцуют возле храма Василия Блаженного, у огромнейшего пузатого самовара. Самое занятное – конец этого удивительного путешествия. Глубокая, просторная пещера освещена с невероятной яркостью и пестротой. По обе стороны дорожки, сверху, справа, слева, спереди, – словом, отовсюду – голоса. Сто кукол в костюмах ста народов поют на ста языках. Песня называется «Малый мир». Уолтер Дисней так и пишет: «В конечном счете мир мал». В сказках всех народов – всегда мечта о прекрасном, поражение зла и победа добра. Дети всего мира одинаково любят сказку, жаждут добра, любят смеяться, танцевать, петь, и, следовательно, в «конечном счете мир мал…».
Если маленькие куклы подводят тебя к столь широкому выводу, то «Страна завтрашнего дня» добавляет к этому, внушает, что «в конечном счете и вселенная мала». Здесь уже не сказочные купола и воздушные башни завершают здание, а многоступенчатая ракета и состыкованный с ней космический корабль вонзается в небо. От здания, которое кажется крылатым, начинаются и возвращаются, входят и выходят из него различные трассы, мосты, канатные дороги. Люди и машины вперемежку на земле и в воздухе, словно включились в «perpetuum mobile» – в вечное движение. По канатным дорогам, по бетонным мостам, рельсам, протянутым в воздухе, по железным дорогам, по асфальту, каналам, эскалаторам несутся, мчатся, летят, качаются, гремят, дребезжат поезда, вагоны, ракетные устройства, корабли, подводные лодки, однорельсовые электровозы, во всех окнах и окошечках мелькают тысячи человеческих лиц. Кажется, что идут съемки какого-то научно-фантастического фильма и ты сам участник этого представления.
Входим внутрь крылатого здания.
Усаживаемся в некое сооружение, напоминающее космический корабль. Внутри все окутано тьмой. Тишина, только скрип от движения кабин. Кабины эти, конечно, не отрываются от рельсов, но так как вокруг тьма, кажется, что мы в воздухе, над землей. Так движется этот эшелон, извивается, сворачивает то вправо, то влево, то поднимается, то стремглав скатывается вниз, а вокруг – Вселенная, планеты Луна, Венера, Марс, Сатурн со своими спутниками, кометы, вспыхивающие и гаснущие звезды, туманности, – словом, представьте себе гигантский планетарий, где зритель не снизу смотрит на небо, а «летит» в этом небе от звезды к звезде, от галактики к галактике.
Описать Диснейленд выше моих возможностей. То, о чем я рассказала, лишь малая толика увиденного мною, а то, что я увидела, лишь частица того, что в нем есть. Видела же я только то, что преподнес мне дядя Гриш, что отвечало его вкусам.
Крупный, круглолицый, уже отрастивший брюшко, он носился по аллеям и площадям Диснейленда с такой гордостью, с таким детским удовольствием показывал его нам, будто все здесь построил сам.
– Зайдем сюда… Слышишь, как пищат птицы? Словно их живыми сюда впихнули… А это Жар-птица, видишь?
– А вот где тебе чудо-юдо. Будто на дне морском стоим. Гляди, гляди на этих рыб – не чешуя, а радуга. Сейчас знаешь что будет? Мы встанем посередине, а радуга со всех четырех сторон. Нам покажут кино, всю Америку, точь-в-точь будто в машине проедешь по этим местам: Нью-Йорк, Вашингтон… Смотри не бойся, сейчас пираты стрельнут. Это их торги, пленниц продают…
Жаль, что большая часть наших билетов-абонементов осталась неиспользованной, то есть очень большую часть Диснейленда я так и не могла увидеть. В Лос-Анджелесе вечером была назначена встреча, и мы вынуждены были пуститься в путь, хотя, говорят, вечерний Диснейленд еще более фантастичен.
Но еще больше жаль, что не все дети мира могут увидеть и радоваться этому. Как бы ни был «в конечном счете мир мал», все еще неизмеримо далеки друг от друга не только голодающие провинции Индии и Диснейленд, ной ребенок, открывший глаза в трущобах Гарлема, и прилетевший в Диснейленд с отцом на собственном самолете отпрыск династии мультимиллионеров…
16 мая, Егвард
Мягкая благодатная и благодарная земля в Калифорнии. Изначально это были дикие места, и сколько же пролилось пота, сколько потребовалось мускулов и сил, чтобы земля эта покрылась виноградниками, абрикосовыми и миндальными садами! В этих садах, особенно под Фресно, есть труд и армянских скитальцев – пандухтов, которые вынуждены были покинуть дедовские земли и приехать сюда в поисках заработка. Говорят, что именно армяне впервые привезли сюда абрикосовые косточки и вырастили в здешних краях абрикосы. Правда это или нет, не знаю, однако то, что армяне привезли с собой во Фресно и другие «семена» – жажду знаний, стремление жить сообществом, жить вместе, – видно хотя бы из того, что, начиная с 1892 года, в этой колонии, насчитывавшей всего четыре – пять тысяч человек, открывались школы, издавались газеты, было создано множество союзов и организаций. Одни названия этих союзов – «Армянское литературное объединение Фресно», «Чрагянская музыкальная школа», «Юношеский веселый клуб», «Дискуссионный клуб друзей», «Битлисское благотворительное общество», «Артистическая труппа «Евфрат», «Библиотека Акнуни» – свидетельство многообразной и поистине бурной национальной жизни. Надо полагать, что здесь разгорались дискуссии между разными партиями не только в «Дискуссионном клубе друзей», но и вне его стен, в том числе и в так живо описанном Уильямом Сарояном кафе «Араке».
Я долго искала это кафе «Араке», мне вообще хотелось увидеть ту среду, которая вырастила Уильяма Сарояна, питала его великолепные рассказы. Но от того Фресно почти ничего не осталось. Не было тогда там – увы! – и самого Уильяма Сарояна.
От старой колонии во Фресно остались несколько стариков, сухощавых, горбоносых, говорящих по-армянски на сугубо деревенском диалекте, стариков, которым так не подходило название «фермеры», хотя именно фермерами они и были.
Во Фресно жили несколько армянских писателей, и, среди них хорошо известный мне Ваге-Гайк. Скромный и молчаливый, он жил довольно далеко от центра, в лесистом месте, в просторном, но, как и он сам, «сдержанном» и молчаливом доме. Самой «несдержанной» частью его дома была библиотека, заполненная армянскими изданиями разных лет и разных мест. Среди железобетонной, грохочущей Америки эта заставленная книгами комната напоминала мне тайник в монастыре, берегущем, защищающем наши древние письмена и пергаменты от чужеземных набегов. Вероятно, именно здесь, за письменным столом, маленьким боевым бастионом, написал Ваге-Гапк свои знаменитые книги о его родном крае, о Харберде – «Золотое поле Харберда», «Дым отечества», книги о том, как здесь, за океаном, рушатся привычные устои народной жизни, меняется ее уклад, как постепенно от ветра неотвратимой ассимиляции рассеивается «дым отечества», исчезает в беззвездном небе страны, на флаге которой рассыпано так много звезд.
Боль и протестующий крик слышатся во внешне спокойном увещевании, с которым писатель обращается к старухе матери, отдающей последние центы сыну-бакалейщику за бутылку молока и кусок масла. «Мама, милая, покинутая мама, в следующий раз, когда придешь покупать молоко, не забудь напомнить этому твоему горе-сыну, чтобы сам он сперва уплатил за то давнее молоко, которое по каплям было выжато из твоего естества, из твоей плоти и вливалось в него. Вливалось бессонными ночами, колыбельными песнями, тихими сказками».
Эти строки из рассказа «Не забудь деньги за молоко, мама» я все время вспоминала, придя в дом для престарелых армян во Фресно.
В Америке дома для престарелых прочно вошли в обиход. Семья в классическом смысле этого слова, я бы сказала, перестраивается. Создаются нового типа семейные связи, складываются новые отношения между детьми и родителями, когда дети, едва переступив порог юности, стремятся к полной самостоятельности и независимости. После женитьбы эта независимость доходит до такой степени, что родителей покидают совсем, в лучшем случае сохраняются лишь внешние связи и денежные обязательства. И так как ослаблены нити, связующие сердца, то в старости, если мать и отец нуждаются в уходе и заботе, лучшим выходом из положения считается дом для престарелых. Там находят себе приют не только нуждающиеся старики, но зачастую и люди со средствами, которые, уплатив определенную, довольно высокую, сумму, обеспечивают себя жильем, уходом и питанием. В зависимости от вносимой суммы определяется и степень комфорта.
Помню, года два назад мы получили из Америки, от нашей дальней родственницы, письмо. Конверт лопался от набитых в него цветных фотографий. На фоне новеньких современных вилл смеющиеся лица, модно одетые женщины и молодые люди, дети в пестрых платьицах и костюмчиках. Под каждой фотографией родственница старательно надписала: «Это моя дочь перед своим до-дом», «Это мой старший сын рядом со своим автомобилем», «Это мои внуки в своем саду», «Это моя невестка», «Это мой старший внучек»… После долгого описания обеспеченной жизни своих сыновей и дочерей в конце письма родственница сообщала: «Теперь я живу в доме для престарелых в Детройте»…
В Америке я уже перестала удивляться, сталкиваясь с подобными случаями, однако все-таки с трудом приноравливалась к этой, быть может, и вполне разумной, но странно непривычной для нас форме решения вопроса. Всякий раз, приходя в дом для престарелых (здесь их называют «домом покоя для стариков»), как бы я ни была подготовлена к этому визиту, все равно что-то тревожно сживалось во мне. Тусклые глаза стариков, хоть и опрятно Одетых и живущих в чистых, прибранных комнатах, но все же таких одиноких, лишенных тепла семьи, детей и внуков, эти глаза то просяще смотрели на меня, то, словно ожидая чего-то, глядели в окно, будто искали, надеялись.
В детройтском доме для престарелых был намечен обед вместе со стариками. Все тут было как полагается – И дом, и часовня, и гостиная, и обед, – но еда застревала у меня в горле, я с трудом могла проглотить кусок. После обеда состоялось нечто вроде встречи. Говорили опекуны «дома покоя», говорил директор, говорила я. Все мы были взволнованы. Это волнение перешло в гнетущее, давящее чувство, когда старая женщина с высохшим, острым лицом резким, дребезжащим голосом запела «Крунка». А потом поднялся трясущийся худой старик.
– У меня вопрос, – сказал он. – В Армении есть яблоки?
Я не знала, плакать мне или смеяться.
– Есть, отец, конечно, есть.
– У меня еще вопрос. Ты на чем прилетела в Америку? На «МИГе»?
Это был один из тех случаев, когда ложь называют святой.
– Да, отец, на «МИГе», на чем я еще могла прилететь?
Старик сел, успокоенный тем, что в Армении есть яблоки и что я прилетела оттуда на «МИГе» – самолете, созданном армянином. Кто знает, в каких глубинах мозга сохранились эти «яблоки» и этот «МИГ», с каких времен, из каких источников информации… И вдруг теперь неожиданно всплыли, смешно соединенные, до слез смешно соединенные.
В «доме покоя» Нью-Джерси я долго стояла в комнате № 23 на первом этаже. Стояла безмолвно, с тяжестью и душе: здесь провела последние годы своей жизни видная писательница Заруи Галамкерян. В маленькой, с бело-холодными стенами комнате высокая по-больничному кровать, рядом низенькая тумбочка, настольная лампа. Из окна видны замкнутый колодец двора и какое-то неприглядное строение. Ни неба, ни горизонта. На двери мемориальная доска, а рядом другая, поменьше, – упоминание о том, что комната эта обставлена на пожертвования дочери и зятя Заруи Галамкерян. Пока директор, захлебываясь, рассказывал о щедрости зятя-миллионера, я с болью думала: неужели здесь должна была кончать свою долгую жизнь эта талантливая женщина, «последняя из могикан» в блестящей плеяде западно-армянских писателей?
«Когда пойдешь за молоком, мама, в следующий раз, не забудь деньги за то давнее молоко… Да, не забудь!..»
Нет, даже казной всего мира не расплатится сын с матерью, не погасит свой долг за материнское молоко. Этот долг можно погасить только сыновней любовью, только взаимным человеческим теплом.
17 мая, Егвард
В июле 1941 года в газете «Известия» был опубликован очерк «Сын Армении» писателя Геннадия Фиша, в те годы военного корреспондента этой газеты на Карельском фронте. Младший сержант артиллерист Саркис Казарьян, в мирное время артист ансамбля песни и пляски Армении, в те первые месяцы войны сражался в лесах Карелии, под Суистамо. Белофинны наседали на батарею со всех сторон, подошли уже совсем близко. Из всего расчета остался в живых только Казарьян. Он сам подносил, сам заряжал, сам наводил, сам давал команду «огонь». Враги были уже совсем рядом. Казарьян отлично видел их серовато-синие тужурки. Он зарядил орудие последним снарядом. Затем нагнулся и, вырвав вместе с черничными кустиками кусок дерна, бросил его в жерло орудия. Копнув саперной лопаткой, подбросил туда еще немного земли, затем дернул за шнур. Раздался последний выстрел. Ствол орудия был испорчен. И вдруг тут же, на площадке около орудия, Казарьян стал плясать, выкрикивая слова родной армянской песни, а когда враги были уже в нескольких шагах от него, метнул гранату, которая унесла с собой и жизнь Казарьяна, прервав песню на полуслове. История подвига Саркиса Казарьяна стала впоследствии темой поэмы выдающегося нашего поэта Наири Зарьяна. Рассказом о Саркисе Казарьяне я и начала свое выступление во Фресно.
Вчера в переполненном зале я видела, как несколько тысяч зрителей бурно аплодировали танцевальному ансамблю «Сардарабат». Когда здесь изо дня в день отступают язык, письмена, книги, даже песни, этот танец, страстный и гневный, все еще сопротивляется, удерживает, сплачивает.
И впрямь, на всех этих обедах, встречах армянский был лишь на устах забившихся в углы стариков, он был лишь трепетным огоньком свечи, еле мерцавшим, незаметным под мощным сверканием люстр, все вокруг было американским – и нравы, и повадки, и в тумане, в дыму от сигарет и виски люди переговаривались и даже смеялись по-английски. Но достаточно было охрипшему джазу вдруг сменить свою «поп-музыку» на армянскую, как изогнувшиеся в твисте руки непроизвольно распрямлялись, неумело сплетались с другими руками и начинался круговой танец, который, может, был и не таким уж армянским, но считался им, преображал лица, глаза, осанку. Люди словно кружились вокруг священного огня, отгоняя злых духов. Видимо, под давлением времени почти во всех городах, где живут армяне в Америке, возникли танцевальные группы, среди которых самая профессиональная «Сардарабат», действующая под эгидой Благотворительного союза.
В дни моего пребывания в Калифорнии «Сардарабат» выступал вместе с местным хором «Комитас». Любопытно было увидеть этого близнеца нашего ереванского алтуняновского ансамбля, рожденного и выросшего на здешней почве. Задник сцены оформлен был по мотивам мемориала– памятника Сардарабатской битве, где в мае 1918 года на подступах к Еревану были остановлены войска экспансионистов. Два каменных быка и колокольня, по замыслу автора, талантливого архитектора Рафаэля Исраэляна, символизируют упорство, твердость ополченцев, созванных в час опасности тревожным звоном колоколов. Мне показалось, что здесь, на сцене, этот замысел обрел иное звучание, об иной опасности предостерегали колокола. Иной смысл получил и памятник Давиду Са-сунскому. Стремительный всадник, который, с трудом сдерживая коня, остановился на скаку прямо в центре Фресно, «обармянил» город.
Хоть и поднабравшийся за последнее время высотных зданий, гостиниц, универмагов, Фресно в большей своей части одноэтажен, утопает в садах. Когда поздно вечером ребята из «Сардарабата» с зурной, бубном и песнями вышли из клуба на улицу, стали танцевать, мне почудилось, что вокруг старые, тихие переулки Канакера или Аштарака, которые в день крестин или свадеб становятся единым домом, двором, улицей.
Это был один из самых «армянских» вечеров за все мое четырехмесячное путешествие, и, наверное, так и должно было быть. Ведь Фресно – самый «армянский» город Америки, который, правда, несколько преобразился, но хранит еще отсвет воспоминаний, хранит дыхание Уильяма Сарояна. До моего номера в гостинице «Хилтон» тоже донеслось это тепло памяти: на столе, на подоконнике виноград, яблоки, груши, сушеные абрикосы – все из своих садов – с наивными, простосердечными записочками – приветами.
В моей душе и приятные, милые отзвуки дней во Фресно, и необъяснимая горечь. Хотя там и живут сорок или сорок пять тысяч армян, хотя и действуют там культурные союзы, хотя и откроется скоро ежедневная школа, но пульс бьется не так четко и наполненно. Молодежь, большей частью говорящая по-английски, уезжает в Лос-Анджелес, перебирается туда и много семей. Газеты «Нор ор» и «Аспарез», основанные во Фресно, теперь также издаются в Лос-Анджелесе. Свидетелем прошлой живой жизни остается, как это ни странно, кладбище, которое неизвестно почему называется «Арарат». Может, потому, что на этом кладбище лежат павшие за Арарат, павшие на пути к нему – Андраник, Согомон Тейлерян?..
Андраник, снова Андраник! Покинув Армению в девятнадцатом году, в дни правления дашнаков, не признав их бездумной позиции, он скитался по свету, оскорбленный, разгневанный. И вот после всех этих бурь – Калифорния, плоские равнины, пресное безмятежье устоявшейся изо дня в день жизни. Как чуждо было все это тому, чей мятежный дух более полувека восставал против бесправия, чья воля и дар полководца вели за собой вои-нов-освободителей, сражавшихся в горах Сасуна и на балканских хребтах за свободу народов, веками томившихся в тисках тирании.
А там, за океаном, росла, мужала новая Армения, его духовная опора, детище его мечты. В 1923 году, уже тяжело больной, он послал в дар Ереванскому музею свой меч, инкрустированный драгоценными камнями, который преподнесли ему армяне Египта. И написал: «Мой низкий поклон правительству Армении, строящей свою жизнь под сенью Арарата, моему народу – творцу и труженику, моим милым армянским сиротам».
Очевидец так рассказывает о последних днях Андраника: «Он много говорил о родине, с восторгом и тоской описывал ее горы и ущелья, безоговорочно верил в ее будущее, часто рисовал себе возвращение в Армению, представлял, в каком городе будет жить, на сколько дней съездит в Эчмиадзин. Бесконечные разговоры и мечты, но вдруг начинались боли, теснило в груди, и от этих страданий, теряя надежду, говорил: «Ах, колет у меня в сердце, сильно колет, боюсь, что конец. А как не хочется умирать здесь…»
Умер Андраник вдали не только от Армении, но и от своего дома в Фресно, в санатории, 31 августа 1927 года, на руках у своей жены Нвард. Похороны его во Фресно были воистину всенародные.
…По улицам тихо движется похоронная процессия. В гробу Андраник в военном мундире со всеми регалиями. За гробом медленно идет конь, к седлу привязаны оружие и сапоги. За ним идут солдаты Андраника, его боевые товарищи, идут армяне Фресно. Пришли все – старики и дети, фермеры и рабочие, писатели, крестьяне, ремесленники. А над кладбищем «Арарат», над гробом, перед тем как опустили его в открытую могилу, самолет сделал круг и, снижаясь, бросил сверху цветы… Словно грустящий журавль – крунк – пересек моря и океан и принес цветы от всех тех, в сердцах которых слезы и благодарность перед этой великой памятью…
Спустя годы прах Андраника перевезли в Париж, чтобы переправить дальше в Армению, но началась вторая мировая война, и французские армяне похоронили его на кладбище Пер-Лашез, поставили памятник.
…На зеленой глади кладбища «Арарат» рядами лежат надгробные плиты – все одинаковые, белые небольшие мраморные прямоугольники. И среди этого белого однообразия взмывает вверх белый мраморный обелиск. Он – словно побелевший от гнева голос всех этих немых плит.
Я кладу цветы у подножия этого памятника, на мраморе которого высечено: «Согомон Тейлерян»…
18 мая, Егвард
Я в Бостоне. Открываю двери домика на одной из самых тихих, отдаленных от центра улиц. Вхожу в комнату. Сидящий глубоко в кресле старик сразу меняется в лице, отбрасывает с колен в сторону пушистый в темную клетку плед, приподнимается, пытается встать, протягивает мне обе руки. Мы обнимаемся. Это Шаган Натали, мой давний знакомый, о котором я писала в своих «Караванах».
Он совсем уже старый, больной, но с тем же остро проницательным взглядом. Морщины съежили его лицо, волосы спутаны, растрепаны, как и его жизнь, как и его биография.
Его биография!..
Любой человек, если он принадлежит к народу, испытавшему много бурь, особенно если этот народ малочислен, разделяет его биографию. Когда мутнеет небольшое озерцо, трудно отыскать даже у самого его краешка прозрачную воду. Вот и этот худощавый старик в нервах своих, в крови своей несет эту помутневшую биографию армянина.
Впервые я увидела его в Ереване. Мы разговаривали с ним, стоя у гостиницы «Армения». Приехал он из Америки, но многие прохожие узнавали его и шептали друг другу:
– Согомон Тейлерян?..
– Нет, это Шаган Натали.
Родился Шагай в Западной Армении, в маленькой благодатной деревеньке Гусейник, губернии Харберд. Едва ему исполнилось одиннадцать, как начались султангамидовские погромы, жертвой которых пал его отец, деревенский священник. Вместе с матерью они вырыли могилу, с трудом дотащив тело отца, предали его земле. Сжимались от ярости бессильные кулачки одиннадцатилетнего мальчонки, и в сердце своем он принял священный обет: «Когда вырасту…»
Он вырос. С ним росло и ширилось чувство мести. Кровь трехсот тысяч жертв султана Гамида смешалась с кровью полутора миллионов, погибших в 1915 году. К последнему вздоху отца присоединились стоны двух сестер, похищенных аскерами, и четырех зверски убитых братьев. В Шагане, поэте, влюбленном в тончайшую изысканность слова, день ото дня, час от часу разгорался всепожирающий огонь, который в своем лютом горне переплавил такие пласты его души, как поэтичность, доброта, романтика, в один затвердевший сплав, имя которому – возмездие…
Напрасно неисправимые оптимисты полагали, что «христианская» Европа протянет руку древнему цивилизованному народу, над которым безжалостно занесли нож. Напрасно великие гуманисты Ромен Роллан, Карл Либкнехт, Фритьоф Нансен, Анри Барбюс, Джон Рид и многие другие со страниц газет, с кафедр университетов и парламентов требовали немедленного вмешательства. Напрасно разгневанный старец Анатоль Франс взывал из Сорбонны: «На Востоке умирает наша сестра. Умирает только потому, что она – сестра наша, чье преступление заключается в том, что она разделяла наши чувства, любила то, что любим мы, думала так, как думаем мы, верила в то, во что верим мы, и, подобно нам, ценила мудрость, справедливость, поэзию и искусство. Таково было ее неискупимое преступление».
Другие были времена, и «любовь к мудрости, поэзии и искусству», как оказалось, не тот капитал, владея которым какой-либо народ мог бы стать акционером банковского общества, именуемого «Право и Справедливость»… Хозяева этого общества – империалистические державы, не только кайзеровская Германия, ставшая оплотом султанской Турции в проведении геноцида, но и такие «покровители» армян, как правящие круги Англии, Франции и Америки, в критические минуты забыли о своих обещаниях и не пошли далее хладнокровных дипломатических демаршей… «Память воскрешает трагическую историю Армении конца XIX и начала XX веков, – пишет Максим Горький, – резню в Константинополе, Сасунскую резню, гнусное равнодушие христиан «культурной» Европы, с которым они отнеслись к истреблению их «братьев во Христе», ужасы турецких нашествий последних лет, – трудно перечислить все трагедии, пережитые этим энергичным народом».
Но была и трагедия трагедий. Хотя прогрессивные элементы в Турции устами Мустафы Кемаля осудили младотурок, ведущих страну к гибели, а военный трибунал приговорил Талаата и его сообщников к смерти, верная их союзница Германия любезно приютила палачей, создала все условия, чтобы под чужими именами они открывали магазины, кафе и богатели. И все это вместо того, чтобы виновников геноцида поставить перед международным судом и во всеуслышание потребовать возмездия…
Столпы, на которых держались «Право и Справедливость», рухнули окончательно, придавив своей тяжестью и молодого поэта Шагана Натали. Он восстал против мира и бога. Вот несколько строк из вопля, раздавшегося из-под обломков этого столпа:
Всемогущий владыка,
Вездесущий, всевидящий боже,
Где же был ты, великий,
Когда стал край армянский похожим
На геенну, на бойню?..
…К мщенью призванный кровью, мольбою,
И слезами, и болью,
Я стою сейчас пред тобою,
О судья справедливый,
Пока память моя не остыла…
Где ты был, молчаливый?
От сирот, справедливости ждущих,
Я взываю к тебе,
О всевидящий, всемогущий.
Я обязан понять:
Ты – палач или жертва, о боже?..
Ставший молитвой,
Народ мой почти уничтожен…
Адом стала земля,
Небо – пусто: где божья десница?..
Вера – в прахе моя:
Как молиться? Кому мне молиться?[32]
И поэт, отвернувшийся от бога и людей, взывает к одной только богине – Немезиде… К его зову присоединяются и другие молодые, с той же судьбой, парни из Ерзинка, Карина, Багеша, из других опустошенных и разоренных губерний – сироты, чудом спасшиеся.
Один из них, Согомон Тейлерян, застреливший Тала-ата на берлинской улице, был арестован. Второго и третьего июня 1921 года состоялся процесс над ним.
Раздвинулись стены областного суда в Берлине, и со дна Евфрата, из пустынь Месопотамии, из-под камней и пепла восстали и заполонили зал тысячи и тысячи теней, заняли кафедру прокурора, и на скамью подсудимых усадили тех, которые три года убивали, терзали, сжигали. А исхудалый, со сжатыми губами юноша превратился в обвинителя.
Глядя на него, старик адвокат сказал: «Перед вами мститель за миллион убитых, за целый народ, перед вами обвиняемый в убийстве убийцы этого народа. Это представитель духа справедливости против принципа насилия, человечности против нечеловечности. Он выступил от имени миллиона убитых, против одного, того, кто вместе с другими грешен в этом злодеянии. И сейчас вы, господа присяжные, должны решить, что произошло в его душе и сознании в момент свершения убийства. Имейте в виду – око человечества устремлено на вас… Это око Справедливости».








