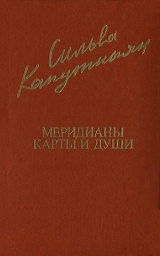
Текст книги "Меридианы карты и души"
Автор книги: Сильва Капутикян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
– Но, доктор, выясним прежде состояние моих зубов, – лежа вздыхаю я.
– Все тут ясно. Воспаление десны… Прошу смотреть в эту сторону, улыбнитесь чуточку, так, так… Очень хорошо! – наконец он щелкнул и вновь приступил к своим прямым обязанностям. – Необходимо основательно подлечиться. А пока вот капсула. Так по-армянски можно сказать?
– Можно, можно, – отмахиваюсь я.
– Нет, нет… Очень люблю чистый армянский язык. У вас есть другое хорошее слово, не капсула.
– Наверно, пилюля?
– Да, да… Минутку! – Доктор ищет блокнот и карандаш, находит и записывает: «Капсула – это пилюля». – Итак, возьмите эту пилюлю, опустите в полстакана воды и каждое утро обрызгивайте десны… Правильно я употребил слово, да?
Я вынуждена перейти к этимологии:
– Точнее было бы сказать «полощите». «Обрызгивать»– это от слова «брызги»: морские брызги, брызги дождя, можно брызнуть краской, чернилами. Солнце может брызнуть лучом.
– Как-как?.. Минутку! – Доктор хватается за блокнот. – Брызги, какое интересное слово! И какое многообразие в применении! – Он записал все мои варианты. – Язык – это моя слабость. Решил еще два изучить – русский и китайский…
«Как бы он, оставив меня в этой горизонтали, не перешел к изучению русского и тем более китайского», – уже отчаиваюсь я. Но, слава богу, доктор опустил капсулу-пилюлю в воду, сбрызнул, ополоснул мои злополучные десны и наконец поставил меня на ноги.
Прощаясь, я решила ему на память оставить маленький сувенир – медаль с Комитасом. Доктор был в восторге: еще бы, из самой Армении!
– Для таких штучек у вас хорошее слово найдено… Минутку! – С моим пальто в руках он хочет вернуться к блокноту.
– Памятка?
– Да, да, у меня в тетради так и записано…
У двери телефонный аппарат напоминает мне, что в этот день утром я должна обязательно позвонить в Оттаву, в советское посольство.
– Можно минуты две-три поговорить с Оттавой?
– Прошу, прошу, вот телефон, пожалуйста!
– Нужно выяснить насчет моего отъезда в Америку, – объясняю я и подхожу к телефону.
– Вы хотите звонить в советское посольство? – смутился доктор.
– Да. – И тут же догадываюсь, что к чему. – Здесь как-то шумно, позвоню из другого места…
– Да, лучше из автомата…
Наступило неловкое молчание, я поспешно взяла сумочку и, поблагодарив, вышла. Доктор, погрустневший, стоял в дверях…
На следующее утро вместе с моим здешним приятелем Грачем Пояджяном мы зашли в офис, чтобы продлить мою канадскую визу. Сидим в приемной, ждем своей очереди. На скамье крупный мешковатый парень, навострив уши, вслушивается в наш разговор.
– Армяне? – спрашивает он.
– Армяне, – отвечаем.
Обменявшись этим почти международным кодом и выяснив нашу принадлежность к армянству, парень, с трудом подыскивая слова, объясняет Грачу:
– Братец, я армянин, из Стамбула… Нурхан Манукян… Уже одиннадцать месяцев здесь. Хочу остаться – не разрешают. Говорят: «Принеси бумагу, что где-то работаешь», Пошел к здешним армянам, говорю: «Дайте бумагу». А они: «Ты дашнак? Если так, получишь». – «Никаких я этих вещей не знаю, братец! Какой я дашнак-машнак?! Я армянин». – «Иди тогда, из церкви проси бумагу». Пошел туда, дали мне двадцать долларов – и прости-прощай… А здесь, в офисе, говорят: «Ты из Турции, – значит, возвращайся в свою страну…» Я не турок, братец, я армянин…
– А что это за парень? С тобой рядом? – вступаю и я в разговор.
– Это мой дружок, грек. Я не знаю языка, и в таких местах он говорит за меня… Одиннадцать месяцев уже здесь, мамаша, – на этот раз обращается он ко мне, – все деньги, что были, утекли, как вода… Что я должен теперь делать, мамаша?..
Крупный мешковатый парень, жалкий и растерянный. Я подсказываю Пояджяну адрес землячества стамбульских армян в Монреале Может, они помогут. Пояджян на той же бумажке записывает и свой телефон, дает парню. Но вот входит служащий офиса и выкликает:
– Нурхан Манукян!
Грек подает знак, и наш сородич, крупный и беспомощный, следует за ним.
Во время своей поездки я бывала во многих городах, видела очень многих людей, со многими общалась подолгу, но эта минутная встреча с парнем по имени и фамилии Нурхан Манукян, его внешность, слова и голос прочно запали в мою память. Порой мне кажется, что два полушария, словно два гигантских корабля, заполнены людьми, разноязычными, разноцветными, разноплеменными, отыскивающими свое место на палубе. И вот Нурхана столкнули, сбросили с, палубы, а он, кое-как уцепившись за борт, еле удерживая в воздухе свое грузное тело, глядит на меня и в отчаянье повторяет: «Что я должен теперь делать, мамаша?..»
17 марта, Егвард
Сегодня мне захотелось рассказать о сестре моей мастери, о тете Арус, а если точнее – о мадам Аракси, которая приехала к нам в гости из Стамбула.
За несколько лет до этого, когда приходилось заполнять анкету, на вопрос: «Есть ли родственники за границей?»– я неизменно отвечала: «Брат матери Хачик Саркисян, в 1912 году уехал из Вана в Стамбул учиться, впоследствии коммерсант. Сестра матери Аракси Чубукчян, в 1921 году уехала из Еревана в Стамбул, к брату, домохозяйка. Муж тети Гайк Чубукчян, родился в Стамбуле, служит в страховой компании…» Писала все это, буквы от строки к строке становились мельче и мельче, так как трудно было уместить своих родичей в одну графу. Я никого из них не знала, разве что тетю Арус, которая неизвестно почему в Стамбуле стала Аракси. Помнить ее тоже не помнила. Она уехала пз Еревана, когда мне едва исполнилось два года. Но поскольку моя мать и бабушка часто вспоминали, что именно она нянчила меня, я мысленно воссоздавала образ тети Арус: вот склонилась над моей колыбелью, напевает песенку, вот вывела меня на прогулку, вот вышивает воротничок. В моем представлении она была светлолицей, полной, с большими зеленоватыми, как у мамы, глазами – такой ее описывали бабушка, соседка, а присылаемые тетей фотографии подтверждали это. Иногда на снимках было двое – дядя Каджер и тетя Арус. Бабушка глядела на них и качала головой:
– Почему эти оболтусы не обзаведутся семьями, чего еще дожидаются?..
Шли годы, и от фотографии к фотографии тетя Арус худела, исчезала округлость щек, глаза казались меньше.
– Слушай, агадуду, с чего это такую красотку никто замуж не берет? – растравляла рану Марна-хатум.
Они с бабушкой были замужем за двумя братьями и, как водится, недолюбливали друг друга. Моя бабушка была старшей невесткой в доме, и поэтому величали ее «агадуду», что означает «жена аги». На подковырку Марна-хатум она грустно, но с достоинством отвечала:
– Судьба придет – руки свяжет. Говорят, в этом чертовом Стамбуле без приданого девушку никто не возьмет…
Однажды, когда мы вскрыли конверт, из него выпала фотография. На ней в длинном подвенечном платье Арус, а рядом высокий, сухопарый мужчина в летах в черном парадном костюме. На фотографии подпись: «Господин и госпожа Чубукчяны».
– Слушай, агадуду, такая девушка, кровь с молоком, и такому хрычу долговязому досталась, – не то жалела, не то радовалась Марна-хатум.
– Не урод, так и красавец. Ах, Марна, – бабушка вздохнула, – сжалился бы господь над нами, оставил в живых отца ее, – бабушка кивнула в мою сторону, – была бы опора рядом. А этот что? Мы в Ереване, они в Стамбуле. Какой он там, нам от этого ни холодно, ни жарко…
Затем грянула война. Письма перестали приходить, застревали в колючей пограничной проволоке. И так несколько лет.
В сорок пятом уже пришла наконец долгожданная весть. Ликуя, открыли мы письмо и наткнулись на незнакомый почерк.
– Господи, да это же Каджер! – воскликнула бабушка, и все мы всполошились.
Каджер, который в Стамбуле также стал Хачиком Саркисяном, был братом моей матери. Впервые мы получили от него такое длинное письмо. Дядя писал, что наконец-то наступил мир и Красная Армия вошла в Берлин, что советский министр иностранных дел произнес прекрасную речь в ООН, что…
– Этот малый не женился еще? – прервала чтение бабушка.
Мама быстро пробежала глазами остальные строки.
– Нет еще…
– Чего это он волынит? – покачала головой бабушка.
Первое длинное письмо дяди оказалось последним. За ним наступило долгое молчание, на этот раз непонятное. Все дороги были открыты, люди находили друг друга, возвращались домой солдаты, а Стамбул все молчал и молчал. Затем изредка стали приходить открытки от Арус, которая коротко сообщала о себе, муже, о сыне Хоренике, и лишь время от времени где-то в уголке еле заметно было нацарапано: «Братец жив-здоров, шлет вам привет». А почему не писал сам, ума не могли приложить.
Бабушка давно уже перестала спрашивать: «Этот малый не женился еще?» Свыклась, молчала, утешалась тем, что «братец жив-здоров». Так и ушла она из жизни.
Еще один раз объявился дядя Каджер, еще раз высказался. Это было позже, в 1963 году. Из бейрутских газет он узнал, что я там, и на адрес газеты «Зартонк» прислал мне письмо, опять длинное, полное любви к родине. А почему не писал по ереванскому адресу и почему так и не выбрался в Ереван, узнала намного позже. То первое послевоенное письмо в Советский Союз дорого обошлось ему, да так дорого, что потом Хачик Саркисян боялся даже взглянуть в сторону Армении…
Лет семь тому назад пришло сообщение о смерти его. «Хоть он уходил из дому рано утром и приходил поздно вечером, все же была родная душа в доме, – сетовала тетя. – Сколько говорила ему: давай поедем в Армению, увидим своих, – все откладывал». Затем тетя Арус писала, что они с мужем решили осенью побывать в Ереване, «пока не отправились вслед за братом…».
Мы написали приглашение, отнесли в ОВИР и стали ждать. Ждали долго, потом пришло следующее письмо: «Родные мои, беда не приходит одна… Гайк тоже ушел вслед за братом… Остались я да Хорен… Я как будто не в себе: и года не прошло, как вторая утрата… Дом мой превратился в покойницкую…»
Скоро получен был ответ из ОВИРа: «Разрешается Гайку и Аракси Чубукчянам…»
Прошло еще несколько месяцев, и принесли телеграмму. В первый момент смысл ее не дошел до нас: «Буду с туристской группой пятого сентября, встречайте…» Пошла в «Интурист» навести справки. Там мне сказали, что действительно в этот день ожидается группа из Стамбула, которая летит через Москву. Почему же Арус едет с этой группой, ведь у нее приглашение на три месяца? После пятидесяти лет разлуки – и всего на пятнадцать дней? С таким вот недоумением мы и отправились в аэропорт встречать ее. Поехали всем родом, даже с соседями из нашего старого двора по улице Амиряна, 20,– ведь оттуда и отбыла Арус в Стамбул.
Вспотевший, притомившийся самолет опустился, коснулся наконец лапами земли, пробежал немного, фыркнул и успокоился. Туристы, сойдя с трапа, группой приближались к нам.
– Где Арус? Которая? – суетятся родственники.
Я молчу, изо всех сил стараюсь собрать воедино сложившийся из рассказов, писем и фотографий образ тети Арус, отыскать ее среди идущих к нам людей. В памяти упорно встает прежняя светлолицая полная женщина с большими зеленоватыми, как у мамы, глазами. Разумеется, она постарела, но в моем представлении все равно такая.
Мне разрешают пройти за барьер, навстречу туристам. Подхожу ближе и слышу:
– Вот она, ваша племянница. С вас презент теперь, мадам Аракси…
– Где? Где? Не вижу ее. – Голос тревожный, прерывистый, и маленькая женщина в очках кидается мне навстречу…
Маленькая, в очках, с короткими прямыми волосами, с худеньким потемневшим лицом, глаза тоже темные, движения резкие, нервные – такой явилась мне тетя Арус, с той минуты мадам Аракси…
Отделив от группы, мы отвезли ее в гостиницу «Ани». Сидим в фойе в ожидании автобуса с остальными. Родственники смотрят на приезжую и переглядываются. Чувствую, что у них та же, что и у меня, смена впечатлений. Нет прежней Арус, не та, не она, какая-то другая…
Подъезжает автобус. Арус сразу же оставляет нас, присоединяется к группе. Приносят багаж. Арус вся в поисках своего чемодана.
– Тетя, пойдем к нашим, они ведь ради тебя здесь.
– Проверь, здесь ли мой кофр.
– Здесь, здесь, не тревожься.
Покончив с формальностями и взяв кофр, мы отбываем к нам домой.
Моя мать ждет ее там. Я не однажды представляла себе тысячи вариантов их встречи. Сестры расстались, когда одной было двадцать шесть, а другой двадцать лет. И вот сейчас встретятся, когда одной уже семьдесят шесть, а другой семьдесят… Как это все будет? «Гонимые, судьбой» – так придумывалось мне «заглавие» этой встречи. И вот они уже обнимаются и целуются, мать плачет, и сестра тоже, но отчего-то сердце мое не ноет от боли, которой я ожидала. Грешным делом, чувствую, что встреча в чем-то не состоялась. Нет того смятения души, той вспышки в крови, которая бы сразу соединила нас всех, размела годы и расстояния… Видимо, за пятьдесят лет изменился состав крови…
– Давайте откроем кофр, – деловито предлагает гостья и, достав ключик, подходит к чемодану, открывает его. – Это тебе, Лиа, – обращается она к моей матери, – это для Астхик, а это Варсик и ее детям, – торжественно перечисляет она, извлекая из кофра и вручая сестрам подарки с приколотой заранее бумажкой, что кому. Здесь есть и надеванные платья и галстуки, есть джемперы, связанные ею самой из старых и новых ниток. – А это тебе, Сильва, – она протягивает цветастое полотно, которому наспех придана форма юбки, – я сшила это в виде миссо, чтоб не отобрали в таможне. Говорят, отрезы запрещено привозить.
Наивная моя тетя! Она возвратилась в Армению такую, которую оставила в двадцать первом году, разутую, полуголодную, когда наивысшим счастьем считались выданные из американских тюков платьишко и банка сгущенки.
Мать, быстро оценив ситуацию, потихоньку от сестры выговаривает девчонкам-племянницам:
– Ну-ну, не очень-то воображайте! Что нос воротите, тоже мне, принцессы нашлись!.. Особенно Асмик, корчит из себя дочь министра. Что, в вашей деревне не сгодится такой жакет, да? – И, повернувшись ко мне, тихо говорит – Бедняжка, она очень сдала. Легко ли – за год потерять и мужа, и брата…
То, что тетя действительно сдала после этих потерь, лежала в больнице, еле оправилась, рассказала мне приехавшая с ней соседка ее, которая тогда ухаживала за ней и уговорила поехать в Ереван. Что же касается нашего приглашения, то, когда соответствующее учреждение заинтересовалось подробностями, куда и зачем она едет, мадам Аракси струхнула и отказалась от приглашения.
Вместе с тетей мы едем в село Джрашат Эчмиадзинского района, где уже около сорока лет живет и учительствует младшая сестра моей матери Варсик.
– Молодчина Варсик, смотри, дом какой заимела! – восклицает Арус.
Варсик, довольная, улыбается и приглашает гостей к столу.
Гляжу на этих двух сестер: обе низенькие, обе уже в летах, обе вдовы. Написала это слово и вдруг почувствовала, что оно никак не вошло в обиход, не применимо к Варсик, которая уже семнадцать лет как потеряла мужа. Варсик – женщина на редкость спокойная, несуетливая. Муж ее умер, оставив четверых детей и камни, припасенные для будущего дома… Но все-таки дом этот построили, дети выросли, окончили вузы. Конечно, родня помогла, хотя и без этого они выстояли бы, дом все равно был бы построен. Под ногами Варсик земля, твердая родная земля, вокруг люди, которые всегда помогут встать на ноги. А у Арус… Есть у нее и дом, и деньги, и сын взрослый, но на ней лежит печать одиночества, какой-то обреченности.
На краю села, километрах в двух от Аракса, покоится моя бабушка. Последние годы свои она жила в деревне у Варсик. «Бабушка, почему ты не хочешь к нам в Ереван?» – часто спрашивала я. «Сильва, дитя мое, я им здесь больше нужна, а вы уже давно на своих ногах стоите…»
На могиле бабушки мы поставили надгробье – хачкар – из черного туфа, с орнаментом и надписью. И вот сегодня впервые все четыре сестры вместе с детьми, внуками и правнуками пришли к ее могиле.
Постояли, разожгли огонек, и каждый бросил туда ладан, как положено это у нас в память усопшего. Помолчали.
В нашем роду не принято плакать на людях, причитать, хотя много горького накопилось за годы. И тетя Арус не плакала. Энергично поправила очки в черной оправе на носу, твердо, мне даже показалось безучастно, прочитала строки, высеченные на камне.
И зачем, зачем только моя ванская бабушка отправила свою дочь тогда в Стамбул?.. Осталась бы дома, жила с нами, как и моя мать, работала бы на ткацкой фабрике, а по вечерам бегала на рабфак, вышла бы замуж за здешнего парня, обзавелась кучей детей. Пусть, как и мы, получала бы хлеб по карточкам, росла, мечтая о новом ситцевом платье, пусть в годы войны простаивала бы с нами в очередях и ездила в деревни, оставшиеся без мужчин, собирать смерзшийся под снегом хлопок. Только бы жила рядом, возле нас, с матерью, с Варсик, с Астхик, изо дня в день, из года в год старилась бы на глазах, чтобы мы постепенно привыкали к ее увядающему лицу, к тускнеющим глазам, к очкам…
Близился день разлуки. Мы хотели, чтобы она еще погостила у нас, но тетя отказалась: боялась оторваться от группы. Я собиралась послать ее сыну Хорену подарок– хорошие часы, фотоаппарат «Киев».
– Не надо, не делай этого! Хватит с него того, что имеет, не заслужил… – внезапно сорвалась Арус и тут же смолкла.
Кто знает, кроме утраты мужа и брата, какие еще беды обрушились на нее, какие обиды хранила она в душе своей, обиды, о которых в суете своего двухнедельного пребывания не успела или не захотела рассказать… И уехала, так и не поведав о своей пятидесятилетней жизни вдалеке, не стерев белых пятен в ее редких пугливых письмах, не посидев час-другой наедине с сестрами, не открыв им своего сердца и даже не оставив после себя боль разлуки.
Уехала, возвратилась обратно к себе моя тетя Арус – нет, моя тетя Аракси, суетливая, маленькая, с короткими прямыми волосами, сухоньким, потемневшим лицом и темными глазами в очках. Пишу эти строки и ощущаю, что именно от всего этого, от невольной отчужденности, в которой не повинны ни она, ни мы, от нашего несостоявшегося сближения, во мне все больше и больше жалости к ней. И, оказывается, она дороже и ближе мне, чем та светлолицая, полноватая, с большими зеленоватыми, как у мамы, глазами тетя Арус.
Когда я вернулась из Америки, в кипе писем обнаружила и ее письмо. Прислала вырезку из стамбульской газеты «Время» о моих вечерах в Монреале поздравляла с тем, что поездка прошла успешно. Прочла это письмо со щемящим чувством, но – вы! – так до сих пор и не собралась ответить. Завтра же, когда буду в Ереване, непременно ей напишу, непременно…
18 марта, Ереван
Утром, приехав из Егварда в Ереван, позвонила в Комитет по спюрку, а если официально, то в Комитет по культурным связям с армянами за рубежом. Хотелось узнать, что у них нового, кто сейчас гостит в Ереване из знакомых.
Комитет, созданный в 1964 году, стал в какой-то мере непосредственным преемником КПА – Комитета помощи Армении, возникшего в двадцатых годах, – но по сути своей в корне от него отличается. Нынешний Комитет по культурным связям предполагает совершенно иные маршруты своей деятельности – помощь не Армении, а из Армении.
Вот и сегодня председатель Комитета Вардгес Ама-заспян созвал нас, членов правления, чтобы обсудить просьбу писателя Ваграма Мавьяна, прибывшего из Лиссабона. Это отнюдь не личная просьба, она исходит из фонда Гюльбекяна, где Мавьян работает.
Этот фонд, основанный согласно завещанию Галу-ста Гюльбекяна, распределяет свои средства во многих странах мира. При нем существует и армянская секция, которая призвана помогать спюрку – его учебным заведениям, больницам, нуждающимся студентам, издавать труды по истории Армении, ее зодчества и прочее.
Ваграм Мавьян рассказал нам, что эта секция снабдила почти все школы спюрка кинопроекторами, но нет слайдов по Армении. Он составил предварительный их перечень: история родины, ее литература, архитектура, а главное – современная Армения, ее столица, культура, наука, – и просил Комитет достать эти материалы.
Участники заседания с готовностью предлагают свою помощь. Мы расходимся по домам с каким-то добрым чувством. Пусть мелочь – слайды, но что-то еще прибавится, что-то еще узнают они о нас, о нашей жизни, о Советской Армении.
Расставаясь, мы с Ваграмом сговариваемся пойти вечером вместе в театр.
Мавьян писатель одаренный, интересный, что называется, с изюминкой. И внешность незаурядная. Седина, которой становится с каждой встречей все больше и больше, прибавляет ему какую-то значительность.
Два года назад Мавьян тоже приезжал в Ереван. Мы побывали с ним в селе Уджан, где он хотел увидеть памятник полководцу Андранику. Лет десять уже, как он воздвигнут на средства, собранные жителями Уджана. В селе еще живы многие из воинов армии Андраника– те самые ополченцы, которые в 1915 году встали на защиту своей обожженной земли, на защиту осиротевших жен и детей от злодейств, чинимых разъяренными аскерами. Сгорбленные, совсем уже старые, с четками в темных, сморщенных руках, сидят они под сенью молодых деревьев на скамейках у памятника.
Поодаль с горделиво-независимым видом нас с Мавьяном разглядывают деревенские парни, по-модному с длинными волосами, в пестрых грубошерстных свитерах. Это они облекли в плоть мечту стариков: вырыли возле памятника котлован для озерца, закрепили дно и стены камнем и цементом, насадили вокруг деревья. На берегу этого озерца под ногами у дедов крутятся внуки, крепенькие, с горящим горным румянцем на налитых щеках, и хоть одежда у них и новая, но штанишки обвисли, скошенные ботинки в грязи, – одним словом, обыкновенные деревенские ребята…
Я вспоминаю каменного всадника на кладбище Пер-Лашез в Париже. И сейчас там покоится прах Андраника. Отвергнув недальновидную, вредоносную политику дашнакских властей, в 1919 году, еще до образования Советской Армении, он покинул родину. Там, в Париже, Андраник всего лишь памятник-камень, здесь он живой, здесь его земля, его дом, его дух.
Осмотрев памятник, идем к дому, где живут уджанские учителя Мисак и Алмаст Гаспаряны. Приехав в это село, невозможно обойти дом Алмаст, который стоит у самого въезда в Уджан. Словно о нем писал наш поэт Мисак Мецаренц еще в начале века: «Стать бы мне хижиной у края дороги, зазвать бы мне всех на мое тепло и свет». Это, конечно, не хижина, а новый двухэтажный дом, правда, еще не обставленный. Да и как тут успеть, если почти каждый день гости, по-сасунски щедро накрытый стол. Помню, когда впервые мы, группа писателей, пришли в этот дом, Алмаст, смуглая и сильная, лет под пятьдесят, с детской непосредственностью воскликнула:
– Клянусь детьми, даже если бы сам господь сошел на землю, я бы так не обрадовалась…
И сегодня так же радушно в этом доме. Собралась вся родня, приехали из Еревана, из талинских деревень, где Алмаст провела свою учительскую молодость и где у нее теперь что ни дом, то друзья.
Талин. Пожалуй, во всей многокаменной Армении не сыскать такой скупой и бесплодной земли, как в этом покрытом серыми грудами валунов горном краю. Но, пожалуй, на всей нашей земле с ее древними пергаментами и священными руинами не сыскать и другого такого места, где так явственно ощущалась бы духовность, так жила в памяти народа его история. Оставив там, за чертой, синие хребты первозданных гор, где слагался эпос о могучем юноше Давиде, осев здесь, в отрогах Талина, сасунцы усыновили эту многотрудную, исхудалую землю, вложили в нее всю нежность и тоску по силой отторгнутому, покинутому краю.
Так вот и сложилось, что с тех пор, как обосновались они здесь, вроде бы и не очень далеко от города, многое сохранилось в сасунцах от Сасуна – их упорное трудолюбие, исконное чувство человеческого достоинства, где так естественно уживаются рядом необоримая крутость горцев с врожденной возвышенностью, наивной мудростью бардов. Ярко-красный трактор новейшей марки, уверенно вгрызающийся в неподдающуюся твердь земли, почтительно соседствует со своеобразным сасунским «домостроем».
Прочитав за хлебосольным столом только что сложенные им строки об Арарате, бригадир колхоза села Базмаберд – один из постоянных гостей Гаспарянов – сразу же переходит к делам житейским:
– Был у нас в селе такой никудышный человек. Взял себе в жены учетчицу из Аштарака, привез к нам. Весь клуб под свадьбу заняли. А через год – нате рам! – этот дармоед-тунеядец прогнал ее. Не хочу, мол, больше жить, давай развод. Ну, я собрал сельский актив – и прямо к этому молокососу обсудить ситуацию. Словом, отдубасили мы его как полагается! «Слушай Ты, шкодливец, говорю, забыл, что ли? Жена не рукавица, с руки не скинешь да за забор не кинешь. Еще из чужой деревни привел. У тебя что, честь корова языком Слизнула?! Сасунец ты или подкидыш?!» Очухался он после нашего «обсуждения», пошел и как миленький водворил жену назад.
Вот, значит, среди какого застолья оказался чинный, похожий на лорда сотрудник фонда Гюльбекяна Ваграм Мавьян. Но кому-кому, а мне было ясно, что творилось в эти минуты за кажущейся на первый взгляд чопорностью этого человека – автора книг «Обломки рода» и «Бессвязный дневник», книг, в которых живет неистребимая боль за судьбу тех самых «обломков», рассеянных по свету. Спустя несколько месяцев я прочла заметки Мавьяна о днях, проведенных им в Армении. В этих воспоминаниях, согретых дымом дружеских очагов, выше всех поднимались клубы дыма от очага, что находился возле дороги, у въезда в село Уджан…
Из театра мы с Мавьяном возвращаемся пешком. Несмотря на то, что смотрели комедию, идем охваченные мягкой грустью весеннего вечера.
– Ну как тебе наша колония в Америке? – интересуется Ваграм. – Караваны еще в пути?
– Караваны все больше удаляются, – отвечаю я.
– Да, удаляются… И я был в Америке, два раза, писал об этом… Не читала небось?
– Нет, к сожалению… Но прочту, обязательно прочту.
– А мы вас читаем от корки до корки. Правда, мы ведь «зарубежная армянская литература». Занесли в рубрику, но не читаете, – с легкой обидой подкалывает Мавьян.
– Ну, ты-то не имеешь оснований жаловаться. Твои книги здесь издаются, получают высокую оценку, – отбиваюсь я, хотя где-то в душе смущена. Читать-то читаем, но не хватает той постоянной заинтересованности, которая так необходима им, одиноким воинам, отстаивающим родную культуру.
– Эта зима в Лиссабоне прошла особенно туго, наверно, годы дают себя знать, – говорит Мавьян. – Казалось бы, такое дело делаю, тружусь в этом самом фонде, помогаю «обломкам» сохранить себя. И вдруг выпадают дни, когда так тошно становится, так пусто. Я ведь и сам «обломок», только, на свою беду, глубже, чем другие, ощущаю все это. Как-никак писатель, хотя и зарубежный, – горько усмехается он.
Несмотря на то, что поздний час, улицы многолюдны, люди возвращаются из театров, концертов. Многие прохожие узнают меня. Но почему-то сейчас мне особенно неловко.
– Все телевизор! И писатель, как преуспевающий футболист, словно на витрине, – оправдываюсь я.
– И, как преуспевающий футболист, счастлив!
– Ладно, не ехидничай.
– Я не ехидничаю, я правду говорю… Помнишь, в «Бессвязном дневнике» я писал о смерти Степана Зорина? Вы счастливые, вы живете на родине.
Я хочу превратить все в шутку: а кто, мол, тебе мешает стать счастливым, пожалуйста, приезжай, найдем подходящую невесту, женим, – но молчу. Эта легковатая шутка никак не вяжется с тональностью нашей беседы.
– Доброй ночи, Ваграм.
– Доброй ночи.
Дома вновь перелистываю «Бессвязный дневник», нахожу страницы об Армении, перечитываю описание похорон Степана Зоряна. «Сегодня родной народ предал земле одного из своих талантливых сыновей – Степана Зоряна. Впервые я так ощутимо, до осязаемости, понял, какое это утешение – иметь возможность быть похороненным в своей родной земле. На мгновение мне даже почудилось, что не такая уж большая разница, над или под этой землей ты. Суть в том, что в обоих случаях эта земля – твоя… Мне было грустно, и это была другая грусть, чем у тех, кто стоял рядом со мной. Это была грусть человека, который хорошо знает, что такое быть армянским писателем, но прожить всю жизнь на чужбине и умереть, быть захороненным на чужом кладбище, в чужой земле».
Но даже и после этих строк, всем сердцем и умом понимая, что такое не умереть, а родиться на этой земле, всем телом ощутить, всеми порами впитывать то древнее и юное, что есть в ней, как бы часто ни приезжал он сюда за глотком живой воды, все равно Мавьян завтра снова отправляется в путь. Чужие страны и дороги приучили его к другой жизни, к другому ее ритму и нравам, к повадкам вольной птицы без гнезда. Да и, кроме того, география его героев – спюрк, и рн следует за ними повсюду, от Португалии до Америки.
Так и будет колесить Ваграм из города в город, от берега к берегу, как дорожную сумку, влача за собой от аэропорта к аэропорту эту свою из года в год все более и более отяжеляющую вольность.
Как все относительно и как сложно в жизни.
21 марта, Егвард
В дни моего пребывания в Торонто мне неоднократно расписывали замок «Армавир» и его владелицу мадам Пируз Бабаян. Мне тоже захотелось взглянуть на замок, хоть и чувствовала, что мои приятели из Торонто не так уж рвутся туда.
На помощь пришла Ани, жена племянника мадам Бабаян, с которой она и договорилась о нашем приезде.
Ехали мы туда в тетушкиной, как говорит Ани, громадной машине цвета слоновой кости, сверкающей изнутри и снаружи. Знаменитый замок не произвел особого впечатления – этакая западно-восточная двухэтажная эклектика. На фронтоне нечто вроде герба с одним словом «Армавир». Говорили, что и впрямь сюда можно написать просто по адресу: «Торонто, «Армавир» – и письмо дойдет. Не знаю, так ли это, лично я проверять не собираюсь, но то, что Бабаяны известны в канадской колонии, – факт. Добрым словом поминают умершего хозяина «Армавира», который был здешним старожилом, с участием относился к нуждам колонии, помогал людям.
Дверь нам открыла смиренная немолодая женщина и, мягко улыбаясь, провела внутрь дома.
У хозяйки больные ноги, ей трудно вставать. Поздоровались, и я собралась было уже присесть рядом, поинтересоваться ее здоровьем, выразить соболезнование по поводу того, что в этом огромном мире она осталась одна. Но не успела и слова вымолвить, как мадам распорядилась немедля бросить меня на осмотр замка. Я молча последовала за Ани, тут же раскусив, что на первом месте здесь вещи и стены, колонны, разукрашенные орнаментом, и тому подобное.
А этого подобного оказалось такая уйма, что бедная Ани еле успевала пояснять, что привезено из Флоренции, а что из Вены. Вот это кресло – работа китайских мастеров, этот шкаф индийский, а этот сервиз принадлежал Людовику такому-то, эти два канделябра из Каира или Багдада, плиты бассейна из Венеции, ковры из Персии. Словом, когда после пробежки по этажам мы вернулись к хозяйке, мне показалось, что я совершила блицкруиз вокруг света, делая минутную остановку в каждой стране.








