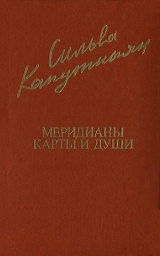
Текст книги "Меридианы карты и души"
Автор книги: Сильва Капутикян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Во время «путешествия» Ани, которая была иронична и соображала, что к чему, рассказывала мне попутно и о владелице всех этих заморских чудес…
– Мадам не поощряет никаких намеков на ее возраст. Моим малышам запретила называть ее бабушкой.
– А как же они ее называют? «Мадам»?!
– Нашли выход, сократили фамилию до «баба». Мадам жаждет прослыть знатоком всех событий, свершающихся в мире, порассуждать о политике.
– Она одна здесь живет? И ей не страшно?
– Да, одна… Как-то в дом забрался вор, но она железякой стукнула его по голове так, что он еле ноги унес… Конечно, сейчас мадам очень сдала, нуждается в уходе, но характер у нее не сахар. Та женщина, что открыла нам, ее дальняя родственница, приходит время от времени, помогает…
Ани лишнего не говорит, но за словами угадываются другие, подтверждающие молву о владелице замка, ее жесткости к людям, о ее феноменальной скупости. Несмотря на миллионы, жалеет денег даже на то, чтобы оплатить уход за собой.
– Ну как вам «Армавир»? – спрашивает мадам Бабаян и, не дожидаясь ответа, сообщает: – Слышали, что передавали по радио? В какой-то стране арестовали премьера и в тюрьме убили. Назвали еще писателя, но я не расслышала… Тяжелое положение в мире, тяжелое…
Я догадываюсь, что она «обозревает» события в Чили.
– Интересный дом у вас, – прерываю я не слишком дипломатично.
– Да, мы с мужем все это привозили из своих поездок. Раз в год я в Торонто объявляю День замка «Армавир». Приходят люди, осматривают все, а я раздаю деньги нуждающимся.
– Свои раздаете? – встрепенулась я.
– Нет, зачем свои? Посетители оплачивают право за вход, а я эти деньги жертвую на бедных.
Придумано неплохо. Жертва, но без заклания.
– Мадам Бабаян, когда необходимо, не поскупится, – вставляет Ани, – мы ей очень признательны, она помогла нам построить дом…
О том, что взамен тетушка сверхаккуратно взимает вполне высокую квартплату за него, Ани тактично умолчала. Все-таки старушка «перспективная» – восьмой десяток на исходе.
– Да, но только когда необходимо, – вносит ясность хозяйка. – Помилуйте, к чему эти щедроты нашего государства, пособия безработным? Приучают только к безделью. Вот они и не желают трудиться, эти рабочие.
После краткого экскурса в социологию нас приглашают в гостиную.
Сижу в разузоренном кресле черного дерева с таким чувством, словно в Эрмитаже на троне какого-нибудь из фараонов… Мадам восседает в таком же. Волосы покрашены в ярко-рыжий, губы подмазаны. В ушах жемчужные серьги, сама в легком шелковом платье с огромными цветами. Но из всех средств, призванных реставрировать владелицу замка, этой цели служат воистину лишь очки с толстыми стеклами. Как бы строго мадам ни запрещала называть себя бабушкой, она, увы, не в силах запретить глазам слабеть…
Тихо, бочком, входит та самая дальняя родственница, вносит малюсенькие рюмочки с ликером, коробку с остатками шоколадных конфет. Ее приход как-то очеловечивает угнетающую музейным безучастием гостиную.
– Ну, рассказывайте, как вы? – продолжает беседу хозяйка.
– Благодарю, немного утомлена. Сами знаете, путешествия, встречи… – отвечаю я, на секунду забыв, что интересы моей собеседницы не могут ограничиться одной личностью.
– Да нет, народ! Народ Армении как живет? – уточняет гостеприимная мадам.
– Народ?.. Ничего. Живет.
– Доволен?
– Доволен.
– Серьезно?
– Серьезно, – отвечаю, уже ясно понимая, что серьезного разговора здесь и не жди.
– А порядки ваши как, привыкли к ним?
– Привыкли.
– Ну конечно, куда же вам деваться?!
Меня так и подмывает оборвать: дражайшая, занялись бы своими делами. Пора, как говорится, и о душе подумать. Ну что вам до наших «порядков», привыкли мы к ним или не привыкли?
– А я была у вас в Ереване. И к вам приходила в гости.
– Ко мне? – удивляюсь я. – Когда? С кем?
– Не то в 67-м, не то в 68-м… нет, пожалуй, в 69-м, точно не помню… Приезжала с большой группой из Америки, с ними же была и у вас дома. Как это вы забыли?
Хозяйка явно уязвлена, а я, что греха таить, довольна тем, что из памяти моей начисто вылетел визит этого феномена.
В ту минуту сей факт показался мне не только свидетельством моей слабеющей памяти, а иной мерой человеческих ценностей, иным отсчетом. В Ереване бабаяновские миллионы «не сработали», не вызвали должного эффекта.
От встречи в «Армавире» у меня остался неприятный осадок. Досадно, когда такие люди заводят речь о «порядках» в Армении. Люди, для которых прибыль в один цент дороже всей Армении, которые в своей торгашеской суете и не упомнят год первой встречи с нею, словно это одна из того множества стран, откуда они волоком волокли свой разномастный антиквариат. Эти порядки – наши, наши и радости, и боль. И чтобы разделить эту радость и болеть этой болью, нужно иметь право на это, нужно заслужить его…
22 марта, Егвард
Я захватила с собой из Еревана в Егвард горшок с бегонией, порядком уже поникшей, пожухлой. Поставила здесь на окно, к солнышку, полила, и, гляжу, бегония потихоньку приходит в себя. Уже третий день слежу за каждым распрямляющимся листком, и этот оживающий с моей помощью, на моих глазах цветок доставляет большую радость, чем любой подаренный пышный букет. Все это не ново. Кто не знает, что нет для садовника ничего приятнее, чем раскрывающиеся весной первые почки, первый плод, снятый с посаженного им дерева. Ведь в этом дереве его труд, его старания, в нем обретает свою осязаемую форму, свою «материальность» прожитый вчера день. И если можно так привязаться к одному кустику, к одному деревцу потому, что ты выходил его, потому, что в нем частица тебя самого, то каким же множеством нитей ты должен быть связан с той землей, которая почти из небытия приоткрыла глаза и с твоей же помощью встала на ноги. В ее нынешней жизни, в ее преображенном «сегодня» – твой вчерашний день, вся твоя молодость, вся прожитая, выстраданная тобой жизнь.
За границей я часто ловлю себя на том, что любое, даже подчас справедливое, замечание по нашему адресу как-то особенно задевает меня. Те пробелы и промашки, о которых я дома откровенно говорю сама, порою с резкостью, избыточной эмоциональностью поэта, там, за чертой, как-то отходят в сторону, и вступает в свои права всевластная, ревнивая любовь к своей земле, гордость за все то дорогое, что осталось на родине… Что же это такое? Инстинкт самозащиты от возможных нападок или иное, более сложное, многомерное чувство?..
Родина не только география, история, памятники и великие имена, но и живущие рядом люди, те, кто, неся в себе ее прошлое, в то же время растят будущее. Более того: родина – это время, тот отрезок многовековой биографии народа, который совпадает с твоей биографией. Именно с дозорной башни своего времени и глядишь ты на ушедшие века, на грядущее народа, на многовековую панораму его жизни. Каким бы ни рисовалось тебе ее прошлое и даже, более того, ее будущее, все равно ты крепче всего связан именно с этим отрезком – с родиной своего времени.
Наверное, очень славны были времена Тиграна Великого, блистательны смотры войск и пиры в стенах Ани, столицы рода Багратуни, возможно, еще блистательнее дни будущего, но я слита с Арменией моего времени: именно она – моя реальная, живая, пульсирующая родина, мои именно эти ее пятьдесят пять лет с голодными и счастливыми днями, с юношеским восторгом от первого воздвигнутого здания, с наивным ликованием ребенка от подаренной ему первой игрушки – открытия крохотного Ширканала, с победным гарцеванием Давида Сасунского, вышедшего из древней пещеры на площадь Ленина в Ереване в дни своего тысячелетнего юбилея, с улицами, затемненными, ссутулившимися от войны и горя, с необузданным, языческим ликованием Девятого мая, с торжествами в честь 2750-летней годовщины Эребуни-Еревана, когда открылись погребенные под пылью века, а также с горечью беспримерных испытаний и лишений, со смятением и отчаянием и с вновь и вновь врачующей надеждой.
Это мое время, Армения моего времени, и мне трудно отделить друг от друга эти понятия и любить родину вообще… Вот от этого сложного, объяснимого и необъяснимого чувства, наверное, я так чутка к каждому опрометчиво произнесенному слову, к каждой небрежно оброненной оценке моего времени…
23 марта, Егвард
Вечером по «Маяку» передавали песни, победившие на радиоконкурсе. Среди исполнителей прозвучало имя Бюль-Бюля-оглы. И сразу вспомнилось наше забавное знакомство в Новосибирске.
Я очутилась там после Декады советской литературы в Алтайском крае. Решила поехать на север, в Сибирь, увидеть Новосибирск, Иркутск, озеро Байкал, Братскую ГЭС. Приехала одна, и это имело свои преимущества после бурной алтайской жизни. Но все же каких-то мероприятий не миновать было. В Новосибирске, в городской библиотеке, что называется «экспромтом», состоялась не очень многолюдная встреча с читателями и вторая такая же в знаменитом Академическом городке.
Обе встречи прошли, как говорится, «в теплой и дружественной обстановке». Никакого докладчика, никаких выступлений с трибуны, просто люди вставали и с места рассказывали о своих литературных привязанностях. Мне было приятно, что они знают армянскую поэзию, наших поэтов. Какой-то мужчина средних лет попросил рассказать об Аветике Исаакяне, сказал, что это самый его любимый поэт, и прочел наизусть отрывок из поэмы «Абул-Ала-Маари».
Женщина-инженер, узнав о сегодняшнем вечере, не поленилась приехать сюда, в Академгородок, за тридцать километров. Как я и предполагала почему-то, она прочитала мое стихотворение «Ушел». Видимо, была из числа тех доверчивых, простодушных читательниц, которые слишком уж большое бремя взваливают на хрупкие плечи поэзии, надеясь, что стихотворная строка, как шлагбаум, может перекрыть путь, остановить, вернуть того, кто ушел.
Этим, наверно, можно объяснить счастливую судьбу стихотворения «Ушел». Рожденное в ереванской маленькой комнатке, оно в переводе поэта Михаила Львова на крыльях русского языка улетело от меня неожиданно далеко. И надо сказать, что этот светловолосый, синеглазый поэтический близнец моего стихотворения принес, пожалуй, больше мне радости, чем его черноглазый братишка. В трудные мои минуты истинное утешение доставляют мне письма, пожелтевшие и новые, рассказывающие то о девушке-геологе, согнувшейся под тяжестью рюкзака и неразделенной любви, то о десятикласснице из волжского села, к которой впервые пришла горечь нежданной разлуки. И, растерянная, еще надеющаяся, она повторяет:
Ушел…
Но знаю всей душою:
Нам друг от друга не уйти.
Я знаю, я всегда с тобою.
Я перекрою все пути.
Я – дом твой, я – твоя дорога,
Ты ходишь с образом моим.
В тебе меня настолько много.
Что нету места там другим…
Что сказать, эти новосибирские встречи были радостью, но настоящий сюрприз ожидал меня на другой день, когда я пришла в Оперный театр со своей здешней приятельницей.
Сначала решили посмотреть музей при театре.
– Вот ваш Хачатурян, – говорит нам старый оперный актер, теперь заведующий этим музеем, показывая на большой портрет со знакомой размашистой подписью. – Он приезжал на премьеру «Гаянэ» и «Спартака»… Осенью у нас пойдет спендиаровская «Алмаст», дирижер приедет из Еревана. Может, и вы заедете, а?
Старик произносит это так просто и обыденно, словно Новосибирск где-то в десяти – пятнадцати километрах от Еревана и в любую минуту я могу заскочить туда.
Благодарю за приглашение, и, попрощавшись, мы идем в другое крыло здания, где находится местная филармония. Должен был выступать азербайджанский молодой певец Бюль-Бюль-оглы. Не только певец, но и композитор– он исполняет лишь песни, положенные на музыку им самим. Мягкая переливчатость интонации напомнила мне его знаменитого отца, с которым я познакомилась в юности, когда впервые в жизни «вышла в свет», была включена в армянскую делегацию, ехавшую в Баку на празднование столетия Мирзы Фатали Ахундова. Вот тогда-то в опере «Кер-оглы» я услышала этого звонкоголосого соловья – Бюль-Бюля. И, может, от давнего, милого сердцу воспоминания ощутила что-то родное в изящном, модно одетом, длинноволосом молодом человеке, в его песнях, где резкие современные ритмы смягчала жаркая сердечность Востока.
Настроение у меня было отличное. Однако это блаженное состояние длилось недолго.
– Сейчас я спою песню, которую написал на слова моего друга Расула Гамзатова. Мне бы очень хотелось написать музыку и к стихам поэтессы, которую я тоже очень люблю и которая сидит сейчас…
Больше я уже ничего не слышала. Сердце заколотилось, я видела только, как зал, повернув головы к нашей ложе, хлопал. Бюль-Бюль-оглы, подавшись вперед и аплодируя, как бы дирижировал залом, и это длилось до тех пор, пока я не вынуждена была встать и поклониться. Не знала, радоваться мне или сердиться: что еще за выходка?! Но вижу – получилось вроде бы неплохо. Правда, большинство в зале, наверно, и не слыхали о моем существовании. Хлопали так, «за компанию». Но что там ни говори, озорство Бюль-Бюля-оглы обернулось рыцарским жестом – голом, забитым в ворота братской команды.
Эти мысли кружатся в голове, а концерт уже подходит к концу, девушки одна за другой протягивают букеты герою дня, бросают цветы к его ногам.
И – бах! – второй гол летит в те же ворота, в мою ложу. Бюль-Бюль-оглы подбирает цветы и громогласно объявляет, что дарит их дочери Армении, своей старшей сестре Сильве-ханум. Мне остается лишь на бис снова разделить аплодисменты, которые он так великодушно уделил мне из своей славы.
После концерта иду за кулисы поздравить Бюль-Бюля-оглы. Увидев меня, он бросается навстречу. Я говорю, что знала его отца, что он был прекрасный певец. При упоминании об отце по мальчишески дерзкому лицу пробегает грустная тень, в глазах печальная нежность. И я чувствую все большую симпатию к моему юному соседу, внезапно оказавшемуся в далеком Новосибирске.
Если бы всегда было так, если бы людей связывали друг с другом лишь песни и стихи, не было бы споров, недомолвок, если бы люди состязались в том, чтобы доставить радость друг другу, в том, чтобы превзойти друг друга в доброте…
Наверное, в такую минуту и родилось мое стихотворение «Смятение», где есть следующие строки:
Я покоя хочу,
И в гармонию жажду поверить,
И бездонность вселенной
Космической мерою мерить,
И уже не глядеть, исстрадавшись,
На землю, на карту,
Где границы
Режут, как говорят, по живому,
Рассекая и нервы, и вены…
Я хочу дерзновенно
По следам космонавта пройти,
Полной грудью вдохнуть
Это самое звездное счастье
Человека грядущего
И не вспомнить при этом,
Что, как звезды, по свету
Рассеяны мы.
И никакая межзвездная трасса
Нас не соединит,
Нас не может
Собрать воедино…[7]
Что бы там ни было, человеческая душа всегда таит в себе тоску по умиротворению, по добру, по гармонии…
24 марта, Егвард
В Торонто я побывала у старого Седрака Татаряна. До этого слышала его голос только по телефону. В нем столько тепла и заинтересованности, что невозможно было не пойти и не услышать его прямо, без посредничества металла и пластмассы.
Татаряна считают здесь старожилом. Приехал он сюда из Стамбула пятьдесят лет назад и стал работать на ферме. Через год-другой в Оттаве занялся было ковровым делом, но…
– Во всем городе не оказалось ни одной знакомой души, ни одного родного слова не услышишь… Бросил все, переехал в Торонто…
Здесь продолжал заниматься тем же, но так и не смог воздвигнуть свой «Армавир», не привез из Италии или Китая ни рюмки венецианского стекла, ни фарфоровой чашечки. Из другого теста вылеплен – из доброты, из любви к людям, из инстинктивного неприятия всевластного гнета денег.
Маленький дом Седрака набит книгами. На стенах виды Армении – вырезаны из наших газет и журналов. В потертом кресле сидит сам хозяин, худощавый, с болезненным лицом. Недавно он вернулся домой после длительного лечения в больнице. У него нет ни жены, ни детей, но добрые люди всегда приходят на помощь старику, как бы стараясь не остаться в долгу за отданное им людям.
Невольно задумываешься. Вот две старости, два одиночества. Одно – под разукрашенным сводом виллы «Армавир», в пестром разнобое натасканных со всего мира вещей и вещичек, в угнетающем безлюдье, которое расстилается не только по дому, но захватывает и двор, и улицу, все окрест. Другое – почти пустая комната, шкафы с книгами, вырезанные из газет и журналов фотографии зданий и площадей Еревана. Но от этой комнаты, этих стен и книг, от самого старика, бледного, больного, исходит тепло и падает свет. Слабый, словно от лучей зимнего солнца, но согревающий душу. И отсвет этого тепла несет в себе каждый, кто знает Седрака Татарина, кто слышал о нем.
На столе Татарина лежат какие-то бумаги, карты.
– Где вы живете? – спрашивает он меня.
– В Ереване.
– Знаю… На какой улице?
– На улице Терьяна, Терьяна, 59.
– А-а-а-а, значит, возле Оперы?
– Вы были в Ереване?
– Нет, не был… Но знаю… Видите эту карту Армении? Я начертил ее. А вот план Еревана, хочу увеличить… Достроили Дворец молодежи?
– Скоро закончим.
– А подземный трамвай?
Обо всем знает этот старик, которому уже за восемьдесят и который живет один на окраине далекого Торонто в своем маленьком домике. С трепетом ждет он, когда придут из Армении газеты и журналы, огорчается, что так запаздывают, что шрифт ереванской газеты «Айреники дзайн»[8] очень уж мелок для его старческих глаз. Он перебирает бумаги, наконец находит листок из школьной тетрадки и протягивает мне.
– От Гаянэ Манасян. Вы знаете ее? Живет в Ереване, на Кутузова, 38, неподалеку от проспекта Коми-таса.
– Это ваша родственница?
– Нет, переписываемся с ней. Учится в школе имени Варужана. Прочтите это письмо. Ей всего одиннадцать, но так хорошо пишет по-армянски, прямо диву даешься…
Читаю. Обыкновенное письмо девочки, написанное ученическим ровным почерком, но в глазах человека, который видит вокруг детей, пишущих только по-английски, армянский язык одиннадцатилетней Гаянэ кажется просто каким-то чудом.
Татарину очень хочется послать что-либо в подарок своей маленькой корреспондентке, он шарит глазами по комнате, – может, открытку какую или жвачку, самописку, – но под рукой ничего нет. Я обещаю одну из своих ручек подарить от него Гаянэ. Старик доволен. На прощанье мы целуемся, он шепчет слова, которые, как «Отче наш», повторяют все армяне спюрка, когда приходит пора расставания:
– Передайте привет Армении.
Встрече с Тиграном Меликяном в Монреале также предшествовал телефонный разговор.
В трубке прерывистый, взволнованный голос, едва разбираю слова. Обещаю обязательно выкроить время и навестить, так как слышала, что он, один из уважаемых в колонии людей, сейчас парализован после инсульта.
Две маленькие комнатки с побеленными стенами в большем многоэтажном доме, в новом, отдаленном районе города. Он недавно приехал сюда с Кипра, где жила уже очень давно его родня. В Канаду переехал потому, что там две его замужние дочери. Тесно связанный с Советской Арменией, Тигран Меликян был на Кипре председателем Комитета по репатриации, а в 1961 году Общество по культурным связям с заграницей пригласило его погостить в Армении.
Судя по дрожащему в телефоне голосу, я думала, что увижу пригвожденного к постели старика. Оказалось не так. В металлическом кресле-коляске – красивый, одетый с иголочки пожилой человек, на лице которого почти нет морщин. В речи то и дело проскальзывает юмор.
– Есть такая притча, – посмеиваясь, рассказывает он. – Один человек приходит в гости к другому. Угощают его на славу. Расставаясь, гость сокрушается: «Ох-ох, и зачем мы только повстречались, зачем подружились, зачем я пришел к вам в гости, зачем такое угощение выставили? Лучше было бы, если бы я вас не знал…» Ошарашенный хозяин на минуту столбенеет, пока до него не доходит, что это своеобразная форма восторженной благодарности. То же самое и с моим приездом в Армению. Я тоже мог бы сказать: зачем я поехал, зачем увидел Армению? Теперь без нее жить труднее.
Все короткое время нашей встречи Тигран Меликян заполнил воспоминаниями тех дней. Когда же магнитофон воспроизвел его речь, произнесенную по ереванскому радио, мне показалось, что я дома и поздно вечером слушаю ежедневную передачу для спюрка.
«Я приехал, чтобы собственными глазами увидеть родину, Советскую Армению, которую вы создали своими руками. Слава вам, родные мои! Когда колокол забил тревогу, когда мы были на краю гибели, именно тогда донесся к нам голос друга, голос спасения: «Нет, ты должен, ты будешь жить», – и дружеская рука бескорыстной помощи дотянулась до нас. Мы помним эту руку. Великодушный брат наш, русский народ, слава тебе…»
Великие открытия двадцатого века, иначе говоря – НТР внесли в жизнь человека много сложного, непредвиденного, но и многое подарили ему. И один из этих даров – звукозапись, когда неодушевленная, сгибающаяся под рукой узкая пластмассовая полоска как живая вбирает в себя и хранит прозвучавший когда-то голос человека, затаенную в этом голосе улыбку, вздох, дыхание, сберегает все, и вот через много лет оживает перед тобой та давно уже канувшая минута, слово, произнесенное когда-то, и в нем, в этом слове, молодое биение твоего уже изношенного, старого сердца. К привычным вещественным доказательствам и следам, оставшимся от прожитой быстротечной жизни, – письмам, дневникам, альбомам, фотографиям – прибавились и эти волшебные шкатулочки-кассеты, где схвачены и остановлены несколько драгоценных секунд из стремительного полета времени.
Вот о чем думала я, когда слушала записанные на пленку слова Тиграна Меликяна и видела блаженное выражение его лица, быстрое чередование самых различных чувств. Многого лишился бы этот старый человек, не будь вот тут у него, под рукой, этой маленькой пластмассовой катушки с намотанными на нее пятнадцатью днями счастья. Разматывается лента и каждый раз снова и снова синей жилкой связывает его, соединяет с той пульсирующей артерией, что называется народом, Родиной, жизнью.
В Фресно, в гостях у писателя Вагэ Гайка, я почувствовала себя очень усталой, попросила хозяйку дать мне возможность на несколько минут остаться одной, передохнуть.
Только голова коснулась подушки, как в комнату без стука вошел сутулый, седой человек.
– Очень прошу, извините меня. – Говор у него густой, харбердский, так странно звучащий в этой калифорнийской дали. – Я из Харберда, зовут Наполеон Айачян. Здесь у меня виноградники. Я был в Армении, видел Ереван. – Глаза его повлажнели, голос тоже. – Нет у меня на свете никого из родных. Очень хочу пожить в Армении… нет, не как турист, а просто хотя бы три-четыре месяца. Хочу приехать и каждый день рано утром приходить к детскому саду, постоять в стороне, поглядеть на детей. Больше ничего мне не надо… Постоять и поглядеть. Я бездетный, но те дети – мои. Все. Здесь, когда я трачу на цент больше, мне кажется, что трачу их долю. Я уже сделал завещание. Не очень-то богат, но то, что имею, хочу, чтобы попало в Армению, в детские сады…
Я молчу, не знаю, что сказать. Эта минута кажется мне священной присягой, которую я не вправе нарушить ни жестом, ни словом…
25 марта, Егвард
В Канаде армяне большей частью живут в Монреале и в Торонто. Поэтому в моей канадской программе целая неделя была отведена на Торонто.
Из Монреаля я добиралась на машине Сурена Аккибритяна, скорняка, частого гостя в Ереване, моего давнего знакомого. Каждый, кто приезжает в Монреаль из Армении, немедленно попадает под опеку Сурена, который так радушен, так от всего сердца делает все, что может, для приезжего. Поэтому, когда Сурен появляется в Ереване, в гостинице «Армения» буквально образуется очередь желающих зазвать его к себе, отплатить ему за гостеприимство как можно щедрее.
На протяжении всей дороги в Торонто Сурен включал свой вечно говорящий магнитофон, и поэтому всегда слышен был голос третьего пассажира; на ленте почти нет записей музыки и песен, а только одни речи. Эльда, жена Сурена, на два месяца приезжала в Армению на курсы переподготовки учителей – и вот, пожалуйста, лента «обессмертила» лекции, прочитанные на этих курсах. В Монреале гостили наши ученые и общественные деятели, лента тоже запечатлела их выступления здесь. Сколько бы ни приходилось мне ездить в машине Сурена, он неизменно потчевал этими записями. Таким образом, за время своего пребывания в Монреале я почти на «отлично» усвоила «грамматику армянского языка», узнала цифры «крутого подъема сельского хозяйства в Армении», выяснила роль «армянского зодчества в мировой архитектуре» и многое, многое другое. Сурен включал эти нескончаемые речи и лекции, сияя от удовольствия, восторженный и счастливый, ждал моего отклика. Попробуй-ка устоять перед таким детским восторгом от всего того, что связано с Арменией!
В отличие от Монреаля, в Торонто бразды правления армянской колонией в руках молодежи. Среди них особенно активен Грач Пояджян, редактор еженедельной передачи для канадских армян «Текеяни дзайн» по радио и телевидению, необыкновенно энергичный и деловой. Из моего крайне перегруженного времени он буквально выдрал несколько часов и повел в студию, чтобы записать.
До этого вместе с ним мы ходили в офис продлевать срок моего пребывания.
В канцелярии было довольно многолюдно, мы встали в очередь, и когда подошли ближе, из окошечка прямо на нас взглянуло неприветливое, тусклое лицо пожилой женщины.
– Боже упаси от дам-управительниц! – полушутя, полусерьезно шепнула я Пояджяну. – Попади только в их руки… Не то что продлят, а сократят…

Я с пылу предложила даже перестроиться на ходу к окошку, за которым восседал мужчина, но Грач уже протянул мой паспорт. Женщина молча взяла его, и пока я с трепетом ждала, что вот-вот она возвратит с вежливым отказом, вдруг на ее суховатом лице мелькнуло некое подобие улыбки, которая быстро переросла в откровенную благожелательность. Женщина перекинулась несколькими словами с Грачем и, повернувшись к сидящей рядом сотруднице, показала мой паспорт, потом к ней подошли еще сослуживцы, брали паспорт в руки, разглядывали… Наконец Грач оторвался от окошка и в ответ на мое удивление объяснил, что их заинтересовал советский паспорт, поэтому-то он и переходил из рук в руки, и что они даже сказали, что он очень красив… Я тут же вспомнила Маяковского: «Берет – как бомбу, берет – как ежа, как бритву обоюдоострую…» Да, все течет, все меняется, и, как видим, к лучшему…
Юношеская энергия Грача Пояджяна не знает предела. Кроме армянских дел он живо участвует в здешней общественной жизни. Сейчас же изо всех сил старался расширить и сферу моих наблюдений.
– Завтра у вас встреча с мэром Торонто, это будет небесполезно и для нашей колонии, – объявляет мне Грач.
Я охотно согласилась, тем более что здание городской мэрии Торонто произвело на меня большое впечатление и мне было интересно увидеть его изнутри, так сказать, «в рабочем комбинезоне»…
Построено это здание по проекту финского архитектора Вильо Ревела, победителя в международном конкурсе, объявленном мэрией Торонто. Оно считается одним из шедевров современного зодчества. Две неравные полуокружности – одна двадцати, другая тридцатиэтажная. Они стоят друг против друга и частично входят одна в другую. В центре низкое круглое строение с выпуклой крышей. Словно высеченный белый колодец, дно которого на земле. Перед ним газоны, выложенные плитами площадки, водоемы с перекинутыми через них легкими мостиками, скульптуры. Все так ослепительно бело, такая точность отделки, что кажется, это не мощное строение из камня и бетона, а великанский белый макет. Слева от входа на постаменте некое металлическое многоствольное сооружение – работа знаменитого английского скульптора Генри Мура. Вспоминаю, что дома, у моего сына, я видела фотографию этой скульптуры. Что и говорить, занятно было повстречаться с оригиналом. Спешу увековечить себя возле этой скульптуры, хотя, признаюсь, мало что понимаю в подобного рода искусстве.
Прежде чем пойти в мэрию, заглядываем в парламент штата Онтарио.
У входа на высокой деревянной тумбе громадная корзина, где помимо цветов победные штыки колосьев пшеницы, литые ости которых словно изваяны из меди. На корзине надпись: «Береги природу Канады». Ну что ж, если даже Канада, так сверхобильно наделенная лесами и нивами, озабочена охраной своей природы, то как надо стараться нам, на нашем гористом пятачке…
Чтобы войти в зал заседаний, нужен был пропуск, Грач тут же его получил. Мы вошли в зал, вернее в ложу, которая предназначалась именно для таких любопытствующих. Сели. Внизу шло заседание одной из секций парламента – наверное, секции социального обеспечения. Председатель парламента за столом в центре. По одну сторону амфитеатра восседали министры, по другую– депутаты. Высокий мужчина горячо доказывал что-то. Мой спутник перевел: жалуется на недостаточность пособия,
– В семье четверо детей, а пособие получают ничтожное… Попробуйте вы прожить на эту сумму, господин министр социального обеспечения…
Господин министр, тщедушная флегматичная личность, откинувшись на спинку кресла, слушал и жевал жвачку…
Полным антиподом этому министру оказался мэр Торонто господин Крамби – невысокого роста, рыжеватый, подвижный и от этого кажущийся совсем молодым. Он, широко улыбаясь, вышел нам навстречу. Трудно было представить, что у такого огромного, внушительного здания такой веселый, непринужденный хозяин.
Нас было четверо – известный в Канаде художник-фотограф Арто Гавукян, глава приходской общины Торонто, инициатор этой встречи Грач Пояджян и я. Чтобы начать беседу, я сразу же завела речь о здании мэрии, его удивительной архитектуре. Желая доставить удовольствие «отцу города», рассказала, что мой сын, скульптор, увлечен Генри Муром, что фотография скульптуры у входа в мэрию украшение нашего дома и я рада встрече с оригиналом, этим шедевром современного искусства, за который мэрия Торонто не поскупилась уплатить семьдесят тысяч долларов.
– Это было до меня, – поспешил уточнить господин Крамби, – я лично привержен классическому искусству. Мне непонятны эти фокусы.
Что греха таить, я связывала большие надежды со скульптурой Мура в том смысле, что мэр, безусловно, оценит мою эрудицию и вкус, но…
Сообразив, что в области искусства мы не достигли взаимопонимания, мои спутники решили исправить положение и поднять наши шансы, сообщив, что я не только поэтесса, но и депутат ереванского парламента. Хочешь не хочешь, но, очутившись на этом пьедестале, я прониклась сознанием своего представительства и выразила благодарность мэру за то, что Торонто так радушен к армянской колонии, и пригласила господина Крамби посетить Ереван.








