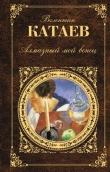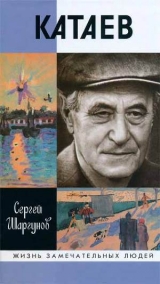
Текст книги "Катаев. Погоня за вечной весной"
Автор книги: Сергей Шаргунов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 52 страниц)
«ХАНЖА, КЛИМАКТЕРИК, ПОДАГРИК»
В 1971 году Евтушенко составил письмо на имя Брежнева с давней идеей нового литературного журнала. Его вызвали в ЦК, где завотделом культуры Василий Шауро сообщил: «Мастерская» одобрена. Однако и Катаев, и Вознесенский с Аксеновым теперь разговаривали с ним холодно. Их оскорбило, что он пишет письма главе государства за их спинами. Они решили, что амбициозный «Евтух» хочет подмять издание под себя.
Катаев был мрачен:
– Кто вам поручал обращаться к генеральному секретарю нашей партии, спекулируя нашими именами?
Как рассказал мне Евтушенко, Катаев бросил ему: «Вы Михалков нового пошиба! Поставить нас в тень и захватить власть в журнале!»
Вскоре Евтушенко отправился к новому первому секретарю Союза писателей Георгию Маркову.
– Ну и как же, Евгений Александрович, вы, либералы, собираетесь побеждать нас, бюрократов, если делите шкуру неубитого медведя? За полчаса до вас у меня был Андрей Андреевич Вознесенский…
Марков иронично подвинул бумагу с машинописным текстом: «Мы, нижеподписавшиеся, не имеем отношения к инициативе Е. А. Евтушенко» и подписями Катаева, Аксенова и Вознесенского.
Дома Евтушенко лег к стене лицом и ничего не мог произнести… План, уже подписанный Леонидом Ильичом, пошел прахом.
Волк-учитель, даром, что древний, злой нюх не терял, да и волчата давно уже подросли.
Тогда-то Евтушенко сочинил басню «Волчий суд»:
Однажды три волка
по правилам волчьего толка
на общем собранье
судили четвертого волка
за то, что задрал он, мальчишка,
без их позволенья
и к ним приволок, увязая в сугробах,
оленя.
Олень был бы сладок,
но их самолюбье задело,
что кто-то из стаи один
совершил это дело.
Для стаи, где зависть —
как будто бы шерсть на загривках густая,
всегда оскорбленье —
победа без помощи стаи.
У главного волка,
матерого хама, пахана,
угрюмая злоба
морщинами лоб пропахала.
Забыв, что олень был для стаи
нежданный подарок,
он вдруг возмутился,
ханжа[149]149
Интересно, почему «ханжа»? Не потому ли, что, по свидетельству Леопольда Железнова, когда-то в «Юности» Катаев отверг подборку «интимных» стихов Евтушенко.
[Закрыть], климактерик, подагрик.
Талантливый хищник,
удачи чужой он не вынес.
Взрычал прокурорски,
играя в святую невинность…
«Евтушенко полагает, что это и было начало пожизненного конфликта с “некоторыми ровесниками”. Впереди было еще много общего, но прежней близости уже не было», – писал поэт и критик Илья Фаликов.
Фаликов называет «публичным обменом любезностями» написанную тогда же «Песню акына» Вознесенского:
И пусть мой напарник певчий,
Забыв, что мы сила вдвоем,
Меня, побледнев от соперничества,
Прирежет за общим столом.
Александр Гладков 5 ноября 1971 года писал в дневнике: «Лева [Левицкий] рассказал о том, как Катаев, Аксенов и Вознесенский написали письмо в ЦК, дезавуирующее Евтушенко, который предлагал их в редколлегию нового журнала».
«Мы сидели втроем с Аксеновым и Гладилиным в “пестром зале” Дома литераторов, – вспоминал писатель Аркадий Арканов, – появился Евтушенко в крайне возбужденном состоянии (видимо, хлопнул пару фужеров шампанского) и закричал на весь зал: “Слушайте все! Вот сидят Аксенов и Гладилин, это павлики Морозовы! Вы предатели! Вы антисоветски настроенные элементы!”».
«Еще мерещился образ нового журнала, юнее “Юности”, – писал Аксенов, – некая гулкая лестница с эхом новых метафор; процесс разъединения, однако, шел все ускоряющимся темпом, и лестница в конце концов была просто облевана».
«РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ»
«Гулял по Переделкину, вспоминал разные события своей жизни и решил написать их в той последовательности, в какой они приходили мне на память…» – объяснял Катаев возникновение новой вещи.
Детская писательница Мария Прилежаева в 1972 году в «Литературной газете» приводила свой разговор с Катаевым о книге «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона».
«– Роман будет переписываться заново от первой до последней страницы. Триста с лишним страниц.
– Вы пишете от руки?
– Только. Потом переписываю. Исправляю. Дорабатываю. Второй раз переписываю обязательно. Иногда трижды. А то и больше».
Роман вышел в 1972 году в «Новом мире» (№ 7–8) – «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона». Около трехсот новелл – эпизодов из детства, рассказ о себе маленьком, адресованный любимой внучке.
Многие не понимали названия, считали кокетством. Но Катаев (поздний целиком) про это – бесконечные поражения в борьбе с беспощадным временем.
И все же остается воскрешение испарившегося прошлого: чем оно удаленнее и чем ярче восстановлено, тем злее поединок, тем острее надежда хоть в чем-то сохраниться…
«Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» – сказочная книжка из катаевского детства с рыцарем или королем на обложке. Может быть, его рог поможет собрать осколки и склеить «византийскую мозаику»?
Валентин Петрович постоянно возвращался к детству. Уже в 1918-м, как говорится, едва оперившись, он дал жанровое определение «Из воспоминаний детства» рассказу «Святки у покойников», напечатанному в журнале «Весь мир». Во взрослом «Времени, вперед!» один из наиболее частых эпитетов – «детский». Даже сказки как будто сочинял для себя. Предположу, что самые трогательные сцены в любой его недетской книге связаны с детством. Чего стоит, например, в повести о Ленине визит к одесскому доктору Дюбуше, когда после неудачного вязания стальной крючок попал маленькому Вале в указательный палец.
В «Разбитой жизни» подробно и прекрасно прорисован мир, увиденный не только одиннадцатилетним, но и трехлеткой. Невероятная памятливость на мельчайшие детали или бесподобная реконструкция?.. Простейшие элементы быта, обыденные развлечения детворы стали колдовскими слагаемыми поэмы в прозе. Он не только смог передать восторг первооткрывателя, но, кажется, потому и смог, что этот восторг не остыл за всю длинную жизнь.
Золочение ореха для рождественской елки; чемпионат по «французской борьбе» на цирковой арене, выступления там же японца-атлета; летние роликовые коньки и зимние, для катка; лечение зуба у властного доктора Флеммера; игрушечный, раскладной и настоящий городской театры; собственный фотографический аппарат, своя мандолина и домашний микроскоп; физические и химические опыты, завершающиеся кошмаром, когда от гибели спасают только «волосяные водоворотики» двух макушек; смерть дяди, смерть бабушки, рождение братика; ипподром, откуда полетел на аэроплане прославленный борец Иван Заикин; «циклодром», где всех обогнал на велосипеде великий авиатор и гонщик Сергей Уточкин; вылазки с приятелем тайком от взрослых на другие земли Новороссии: к турецкой крепости Аккерман, в город Николаев; безуспешная ловля воробьев на водку; две гаванские сигары, зарытые в «клад» на глиняном обрыве; слон Ямбо, сошедший с ума от разлуки со слонихой в балагане на Куликовом поле…
Одесса театров, храмов, училищ, Александровского парка, легендарных зданий и памятников, прогулок и, конечно, повсеместной бойкой торговли, хотя бы на Дерибасовской, где «молодые нервные евреи в куцых лапсердаках, подпоясанных веревкой, бегали в толпе с книжками в руках, выкрикивая: “Что делает жена, когда мужа дома нема…”».
И наступающий прогресс – демонстрация живой фотографии (то есть кино) в юнкерском училище, появление беспроволочного телеграфа, восхитившее родителей, первые автомобили, возмутившие обывателя.
Роман – отчасти ремейк «Паруса», но без партийного довеска. Наоборот, европейский город великой России – это вечный праздник, шмелевское Лето Господне («духовой оркестр грянул вальс, ветер пробежал по трехцветным флагам на белых флагштоках»), а «перемены» надвигаются дыханием ада. В 1910-м рядом с Землей прошла комета Галлея, призрак отложенного апокалипсиса…«И все же какая-то тревога осталась в моей душе»… Он предчувствовал «катастрофу», а потом услышал о приближении кометы Биэлы – «еще более страшной, чреватой войнами и революциями». Вся книга пропитана трепетом близкого изгнания из рая… «Чувствовал ужас от чего-то незаметно надвигающегося на нашу землю, на всех нас, на папу, тетю, Женю, меня, и я молил Бога, в которого тогда еще так наивно, по-детски верил, чтобы мое “чело клеймо минуло роковое”. И он услышал меня». То есть удалось выжить…
Православно-монархический настрой окружавшей среды показан без утайки: здесь и посещение «гимназической церкви во имя святого Алексея, ангела-хранителя наследника цесаревича Алексея, маленького сына государя императора, будущего владыки Российской империи», и «директор и дамы-патронессы в белых атласных платьях, скроенных вроде русских сарафанов, с бело-сине-красными ленточками розеток Союза русского народа»…
Катаевы сдавали комнату, и однажды туда въехали «две средних лет неприятные дамы». Когда Петр Васильевич робко спросил у них документы, постоялица ничего ему не показала: «Жгуче-черные волосы на ее голове были гладко причесаны, отчего голова казалась слишком маленькой, а на затылке был тяжелый узел. Черный шнурок пенсне, по-мужски заложенный за большое ухо, делал ее еще более сердитой и неприятной… Другая жиличка в это время лежала на кровати, укрывшись старым шотландским пледом, и, отвернувшись к стене, читала какую-то брошюру в декадентской обложке с социал-демократическим названием». Потом квартирантки смылись, городовой и околоточный надзиратель опоздали, а Валя нашел «складненький патрон от браунинга, закатившийся под кровать».
А еще была превосходная рождественская елка в епархиальном училище, состоявшаяся, несмотря на слухи, что «смутьяны» бросят бомбу… А еще однажды отца покусала собака, оставив «глубокие сине-красные следы» и «раны, сочащиеся кровью», и казалось, что она бешеная. «Примерно в одну из этих лунных ночей пришло известие, что в Киеве убит Столыпин», и для мальчика слились «эти два события – собака, покусавшая папу, и убитый выстрелом из браунинга в печень в киевском театре на глазах государя императора Столыпин». А между тем «это происшествие нанесло мне такую глубокую душевную рану» – укусы? или выстрел Богрова? – «что я до сих пор чувствую какую-то безумную, ни с чем не сравнимую сердечную боль…».
Кстати, тогда же, в сентябре 1911 года, Василий Розанов писал: «Россия, покачнувшись, не может не схватиться за сердце… Натиск бешенства, укусы бешеного животного…»
А вообще, основные герои книги – море, небо, солнце, луна, звезды, ветер, растения… И вещи. Вещи (особенно – наряды) даже виднее, чем люди. Автор-профи, как бывалый модельер, показывает осведомленность в тонкостях ткани:
Валя приходит в храм в «коломянковых летних штанах», и ему вытирают рот «красной канаусовой салфеткой»…
А главная боль содержится в самом конце – смерть матери. Страшная и пронзительная только что при перечитывании опять заставившая прослезиться, глава «Черный месяц март» идет в завершение, но траурно отражена во всей книге, другие главы как бы подготавливают ее. Уже в 1975-м в письме Аксенову Катаев сообщал, что этот отрывок из собственной прозы ему нравится больше всего.
Система не считала Катаева врагом, но он задевал поздними двусмысленностями, фокусами и вольностями.
Официоз игнорировал его «поиски стиля»: редкие рецензии в прессе, и снова седая пелена умолчания. (И огромная популярность среди читателей.) К 75-летию правление Союза писателей направило ему приветствие, но конкретное перечисление «этапных произведений творческой биографии» начиналось «Временем, вперед!», а обрывалось повестью о Ленине.
В 1973-м у 76-летнего Валентина Петровича при обследовании случайно обнаружили онкологию – кишечную опухоль. Врачи и домашние сказали ему: полип. В больнице, «кремлевке», перед операцией он был весь серый и обо всем, конечно, догадывался, но родные старательно разыгрывали веселье. И так никогда ему и не сказали, что на самом деле вырезал хирург…
Тогда же в восьмом номере «Нового мира» появился рассказ «Фиалка». В подмосковный интернат персональных пенсионеров к бывшей жене Екатерине Герасимовне приезжает старик Иван Николаевич Новоселов. «Последние месяцы, особенно после операции, его беспрерывно мучила мысль, что он может умереть, не получив от нее прощения». Врачи разрезали его, зашили, «ничего опасного не обнаружили, разрешили ходить», но он понимает, что дело худо.
Когда-то он предал ее, ту, на которой женился по расчету, и в итоге его лишила всего та, на которой он женился по любви.
И вот теперь, нищий, смертельно больной, он ведет разговор с прославленной большевичкой и вдруг начинает вспоминать обманутую: «Она была так прекрасна! – прибавил он со слезами на глазах». А потом молит:
– Прости меня, Катя. Ведь Христос велел прощать своих врагов.
Но бывшая жена непреклонна…
И он уходит от нее умирать.
На первый взгляд моральная правота на стороне твердокаменной старушки, а Новоселов подлец. И все же это рассказ о трагизме, уравнивающем всех, и одиночестве, странно сближающем двух навсегда разделенных людей. Стоило чуть изменить ракурс, и «принципиальная» бабушка становилась все той же «девушкой из партшколы», непреклонно несущей смерть «врагам революции»… О жестокость жизни!
(Летом 1976 года состоялась премьера телеспектакля Малого театра Союза ССР по этому рассказу. Сценарист – сам автор.)
8 апреля 1974 года Катаев приехал в Одессу на тридцатилетие освобождения города. Он рассказал журналисту Розенбойму, что очень обрадовался, когда его пригласили, и попросился жить в дорогих его памяти «Лондонской» или «Бристоле» (тогда «Красной»), но вместо этого поселили в новой гостинице «Черное море». «С его мнением не посчитались, – сказала мне Евгения Катаева, – а для отца существовала только старая Одесса». Девушка-регистратор протянула бумагу, извещавшую, что он должен освободить номер 11 апреля до полудня. Катаев молча поставил подпись. 9 апреля он пошел в гости к Женьке Дубастому, и вместе они отправились на Княжескую улицу (переименованную в Баранова), на которой жил когда-то Бунин. Это был прощальный привет невозвратному времени.
Тем же вечером Катаев покинул Одессу и больше сюда не приезжал.
Иногда он впадал в экстаз отречения от мест, навсегда связанных с сущностью его личности и литературы. «Вы не тоскуете по югу?» – спросил у Катаева прозаик Аркадий Львов. «При чем здесь тоскую не тоскую! – вскинулся он. – Я недавно перечитывал “Белеет парус одинокий” и сам удивлялся себе: что особенного я находил в этих одесских берегах! Просто глина, обыкновенная желтая глина, голые берега… Негостеприимное море… На всем Средиземном море вы не найдете такого унылого берега, как возле Одессы».
«Представляете, – в конце жизни рассказал он литератору Борису Галанову, – вечером отодвинул занавеску и вдруг за окном кабинета, среди моих переделкинских сосен и елей, увидел пятнистый ствол одесского платана. Стоит неподвижно, и на каждой его ветке ярко горят восковые свечи. Не знаю, откуда он тут взялся! Утром подошел к окну: пусто».
КАТАЕВ И СОЛЖЕНИЦЫН
Когда в 1962 году «Новый мир» напечатал «Один день Ивана Денисовича», Чуковский записал, что встретившийся ему в Переделкине сосед назвал повесть фальшивой, спросив про героя: «Как он смел не протестовать хотя бы под одеялом?»
Знаешь как – покажи. Хотя Катаев показал… Не только теми злыми репликами, которые бросает заключенный в рассказе из сборника «История строительства» о Беломорканале. Много позднее «новомирского» Солженицына, но в том же журнале, в прошедшем советскую цензуру «Вертере» ждущие расстрела одновременно жадно ждут врангелевского десанта.
«Здесь характерная аберрация, – замечает критик Юрий Арпишкин, – Чуковский говорит о том, что в повести написана правда, а Катаев о том, что не во всякую правду можно поверить. Кроме того, он был уверен, что человек свободен всегда, пусть и только под одеялом. В этом заключалась его выстраданная гармония во взаимоотношениях с реальностью».
Чуковский размашисто добавлял: «Теперь я вижу, как невыгодна черносотенцам антисталинская кампания». Гнев не по адресу, а термин как минимум неточный. Какой из Катаева в то время черносотенец? Или Корней Иванович видел юношеские стихи соседа? Или Катаев сказал ему еще что-то, что не попало в дневник?
(Впрочем, потом для многих «черносотенцем» сделался и Александр Исаевич…
В связи с «разочаровывающим» Солженицыным и «Вертером» в 1971 году самиздатовский автор диссидент Марк Волховской (псевдоним будущего радикал-либерального политика Михаила Молоствова) утверждал, что Катаев «потрафил настроению, которое подогревает и формирует» Александр Исаевич: «Все беды наши-де навеяны ветром с Запада. Русский народ попал под марксизм, навязанный ему евреями, латышами, китайцами, венграми с помощью немецких денег и дезорганизаторской деятельности “образованщины”».)
17 декабря 1962 года на встрече с Хрущевым Катаева среди прочих распекали за поддержку выставки авангардистов в Манеже. Зато в противовес «диверсантам буржуазии» похвалы главы государства за свой лагерный рассказ («Как Иван Денисович раствор сохранял – это меня тронуло») удостоился присутствовавший Солженицын, которому пришлось даже встать под аплодисменты и раскланяться в разные стороны.
28 декабря 1963 года «Новый мир» и Центральный гос-архив литературы выдвинули Солженицына на соискание Ленинской премии. «Присудят – хорошо. Не присудят – тоже хорошо, но в другом смысле. Я и так, и так в выигрыше», – бросил он Владимиру Лакшину. Александр Исаевич добрался до самого финала, но все же премии не получил. Напомню, в конце 1961-го на эту же премию был выдвинут Катаев, и его тоже прокатили.
По свидетельству Анатолия Рыбакова, Катаев сказал ему про Солженицына: «Дали бы ему Ленинскую премию за “Ивана Денисовича”, служил бы верой и правдой, никаких бы хлопот с ним не имели». Так полагали многие.
В 1964 году Солженицын издал свои «Крохотки» в самиздате. В 1965-м его книги вышли в США и Германии. В 1966-м он развернул активную общественную деятельность – выступления, интервью иностранцам, появились в самиздате романы «В круге первом» и «Раковый корпус».
В мае 1967-го он написал и разослал по почте 250 адресатам «Письмо съезду» Союза писателей, немедленно опубликованное на Западе и, как считается, подогревшее «весенние страсти» в Чехословакии. Солженицын обличал «то нетерпимое дальше угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры и с которым Союз писателей не может мириться впредь».
Считается, что именно после «Письма», получившего одобрение изнуренных давлением писателей, Солженицын стал восприниматься властью как серьезный противник.
Катаев (который, как мы помним, на встрече с американцами в ЦДЛ на вопрос о цензуре произнес табуированное слово «Главлит») решил не отмалчиваться.
Он действительно считал, что ключевой тезис Солженицына – творческая свобода – не несет стране разрушения, а может ее только укрепить, избавив от множества внутренних проблем и постоянных нападок извне.
Так родилась телеграмма, написанная в Переделкине, которую Павел Катаев отвез в Москву и отправил с Центрального телеграфа.
«Москва, Кремль
Президиуму Съезда писателей
Дорогие товарищи, не имея возможности по тяжелым семейным обстоятельствам и состоянию здоровья присутствовать на съезде, довожу до вашего сведения, что считаю совершенно необходимым открытое обсуждение съездом известного письма Солженицына, с основными положениями которого я вполне согласен.
Делегат Съезда, член Президиума Валентин Катаев».
Тогда же Корней Чуковский, радушно принявший в Переделкине Солженицына и прочитавший «Письмо», назвал в дневнике эти призывы к свободе «безумными»: «Государство не всегда имеет шансы просуществовать, если его писатели станут говорить народу правду. Если бы Николаю I вдруг предъявили требование, чтобы он разрешил к печати “Письмо Белинского к Гоголю”, Николай I в интересах целостности государства не сделал бы этого… Возникнут сотни Щедриных, которые станут криком кричать о Кривде, которая “царюет” в стране…»
IV съезд Союза писателей СССР открылся в Москве 22 мая, письмо Солженицына не оглашалось, но в июне встретившиеся с ним руководители СП утешительно пообещали публично опровергнуть «клевету» подвергавших сомнению его участие в войне и рассмотреть вопрос о печатании «Ракового корпуса».
Солженицын стал вынашивать второе письмо. И за поддержкой отправился к Катаеву.
Вениамин Каверин свидетельствовал: «Однажды (это было на даче К. Чуковского), когда мы обсуждали, кто мог бы поддержать его новое письмо, он вдруг назвал В. Катаева (!), а когда я предупредил его, что хозяин может спустить его с лестницы, все-таки пошел к нему – и был, против ожидания, принят любезно».
Да, Катаев высказал «теленку» симпатию и одобрение на этом этапе бодания с «дубом». Вдобавок в личном общении он никогда не придавал значения политической позиции собеседника.
Разумеется, Каверин как истинный «прогрессист» стал выговаривать Солженицыну за «неразборчивость». В ответ Солженицын, записал Каверин, «отшутился»…
В дневнике летом 1967 года «новомирец» Алексей Кондратович приводил слух об отдельном письме Катаева («может быть им и пущенный»), направленном прямиком Суслову: «Смысл письма таков, что мы старые люди и понимаем, что из всех живущих сейчас писателей Солженицын – самый крупный. А обсуждение его передают на секретариат, где ни одного серьезного писателя или человека… Удивились, что писал Катаев».
Существование такого письма подтвердил в своем дневнике Александр Гладков: «Н. П.[150]150
Николай Павлович Смирнов (1898–1978) – писатель.
[Закрыть] показал мне письма В. Катаева Суслову и Антокольского Демичеву в защиту Солженицына, очень категоричные и страстные, особенно письмо Катаева».
В новом послании на этот раз секретарям Союза писателей 12 сентября 1967 года Солженицын грозил «неконтролируемым появлением на Западе» его «Ракового корпуса», который хотел, но не мог опубликовать Твардовский. Многие из собравшихся на заседании секретариата выступали за то, чтобы напечатать повесть, то и дело возвращаясь к одной из ее идей – «нравственному социализму», но в итоге Солженицыну рекомендовали отмежеваться от «кампании, поднятой недружественной зарубежной пропагандой». Вскоре «В круге первом» и «Раковый корпус» вышли на Западе. 4 ноября 1969 года Александр Солженицын был исключен из рязанской организации Союза писателей. В западных изданиях появились заявления ведущих литераторов о «преступлении против цивилизации» и «варварстве». 8 октября 1970 года (то есть через восемь лет после дебюта в «Новом мире») Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе.
Одновременно закончился и «Новый мир» Твардовского. Его поэма «По праву памяти», вымаранная цензурой из журнала, неожиданно появилась в западноевропейской прессе под заглавием «Над прахом Сталина». Теперь власть решила избавиться от Александра Трифоновича – первым замом главреда был назначен незнакомый ему журналист Дмитрий Большов, а редакция была расформирована. 9 февраля 1970-го Твардовский покинул свой пост. Он умер 18 декабря 1971 года. Катаев продолжил печататься в «Новом мире» и дальше – и при Валерии Косолапове, и при Сергее Наровчатове, и при Владимире Карпове.
Председатель КГБ Юрий Андропов в записке политбюро предлагал «предоставить Солженицыну право убежища» и устроить встречу академика Сахарова с «одним из руководителей Советского правительства»: «Мало надежды на то, что в результате такой беседы Сахаров изменит свое поведение (он болен, сломлен своим окружением, находится в состоянии экзальтации)». 31 августа 1973 года в «Правде» в продолжение «письма академиков» появилось писательское заявление «О Солженицыне и Сахарове», подписанное Михаилом Шолоховым, Чингизом Айтматовым, Василём Быковым, Сергеем Залыгиным, Константином Симоновым, и в том числе – Катаевым, с осуждением «клевещущих на наш государственный и общественный строй, пытающихся породить недоверие к миролюбивой политике Советского государства и по существу призывающих Запад продолжать политику “холодной войны”».
7 января 1974 года на политбюро решался вопрос о «пресечении антисоветской деятельности» Солженицына (после того как в декабре 1973-го первый том книги «Архипелаг ГУЛАГ» вышел в Париже в издательстве «YMCA-Press»). «Он пытается создать внутри Советского Союза организацию, сколачивает ее из бывших заключенных, – докладывал Андропов. – У нас в стране находятся десятки тысяч власовцев, оуновцев и других враждебных элементов». 12 февраля Солженицын был арестован и 13 февраля доставлен на самолете во Франкфурт-на-Майне.
15 февраля 1974 года в «Правде» Катаев прощался с Александром Исаевичем железным слогом: «Смерть любого человека всегда тягостна для окружающих людей, тем более гражданская смерть человека, отпадение его от общества, от государства. Однако с чувством облегчения прочитал я о том, что Верховный Совет СССР лишил гражданства Солженицына, что наше общество избавилось от него. Пользуясь терпением народа, партии, вопреки нашей надежде, что в нем наконец заговорит совесть, Солженицын вступил в борьбу с Советской властью – борьбу, которая рекламировалась им как открытая, прямая, а на самом деле была подрывной и велась подпольными методами: методами “пятой колонны”. Люди моего поколения, прошедшие со страной весь сложный, трудный – с громадными жертвами, – но славный и героический путь от Октябрьской революции до наших дней, могут сказать только одно: никому не позволим подрывать основы советской государственности. Поэтому гражданская смерть Солженицына закономерна и справедлива».
Вслед за этой публикацией в переделкинском доме раздался звонок. «Какой-то Суслов», – сообщила домработница… Катаев взял трубку. «Главный идеолог» благодарил.
Бенедикт Сарнов вспоминал: «Наутро, когда указ о “выдворении” был объявлен, у меня прямо камень с души свалился» и добавлял, что среди множества публикаций отклик Катаева на это событие «слегка выделялся». Прочитав катаевское «с чувством облегчения», он «подумал, что наверняка Валентин Петрович этим казенным способом выразил то, что чувствовал на самом деле… А поскольку “чувство огромного облегчения” было тем самым чувством, которое испытал и я, узнав, что А. И. уже в Германии, у Бёлля, – мне показалось, что Валентин Петрович почувствовал (и хотел выразить) именно это. А может быть – кто знает! – так оно на самом деле и было?».
Семен Липкин, гулявший по Переделкину со своей женой Инной и Катаевым, однажды спросил напрямик:
– У вас есть слава, любовь читателей, вы богаты, чего же вам еще надо от государства?
«Он вспыхнул:
– Меня Союз писателей ненавидит – все эти напыщенные Федины, угрюмо-беспомощные Леоновы, лакейские Марковы, тупорылые Алексеевы и прочие хребты саянские[151]151
«Хребты Саянские» – эпопея одного из руководителей СП СССР Сергея Венедиктовича Сартакова (1908–2005).
[Закрыть]. Они знают, что я презираю их, и я спасаюсь, подчеркивая свою официальную преданность власти. И не забудьте, я член партии.
– А для чего вы в нее вступили? Вы ее любите? Вы марксист-ленинец?
Он продолжал, не отвечая на мой вопрос, волновался:
– Иначе мне житья не будет…»
Прервем цитату. «Житья не будет» – откуда это въевшееся в плоть ожидание? Не из 1920-го ли еще года, когда едва не отобрали жизнь?
«…Вы не знаете, как трудно печатались мои лучшие вещи, каждая встречалась отрицательными статьями влиятельных критиков. В сталинское время было страшно. Да вот и теперь не понят “Алмазный мой венец”, клюют, щиплют.
– Я вам сочувствую, но вы платите дорогой ценой. Например, своей подписью под требованием выслать из страны Солженицына, великого русского писателя.
– Он не великий. Он хороший писатель. Хороши “Один день Ивана Денисовича”, “Матренин двор”. Дальше пошло хуже, просто плохо…
– Как может писатель требовать, чтобы власть выслала собрата по перу за пределы родины? Поступили бы так Короленко, Чехов, Бунин? Иногда мне кажется, что вы не понимаете величину своего таланта, унижаете его.
– Какой я талант, я средний писатель. Собирают ареопаг. Один из секретарей предлагает, чтобы КГБ снова бросил Солженицына в концлагерь. Выступает Расул Гамзатов, советует выдворить Солженицына за границу. Я, жалея Солженицына, присоединяюсь к хитрому горцу. Все-таки жизнь вашего гения была спасена».
Понятно, что судьбу Солженицына решали не писатели, а партийное начальство…
Но Павел Катаев подтверждает тогдашнюю логику отца: он одобрял высылку как единственную возможность избежать заключения.