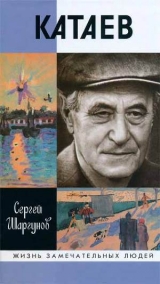
Текст книги "Катаев. Погоня за вечной весной"
Автор книги: Сергей Шаргунов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 52 страниц)
«Я познакомилась с Владимиром Владимировичем 13 мая 1929 года в Москве на бегах… Я как-то потерялась и не знала, как себя вести с этим громадным человеком. Потом к нам подошли Катаев, Олеша, Пильняк и артист Художественного театра Яншин, который в то время был моим мужем. Все сговорились поехать вечером к Катаеву». К моменту встречи Норе был 21 год. Общение, прогулки, почти ежедневные встречи, розы, тяжелый аборт, ссоры – при этом они постоянно проводили время втроем с ее ничего не подозревавшим мужем.
«Только один раз я видела его пьяным – 13 апреля вечером у Катаева…» Маяковский не только выпил, но и был болен. По словам Роскина (он присутствовал), первой обратила внимание на это болезненное состояние Анна Катаева и поднесла гостю стакан горячего компота. «У него было затрудненное гриппозное дыхание, – писал Катаев, – он часто сморкался, его нос с характерной бульбой на конце клубнично краснел». В тот вечер в квартире в Малом Головине были Олеша, Регинин, актер Борис Ливанов, театральный критик Павел Марков.
Полонская вспоминала: Маяковский позвонил днем, «спросил, что я буду делать вечером. Я сказала, что меня звали к Катаеву, но что я не пойду к нему и что буду делать, не знаю еще. Вечером я все же поехала к Катаеву с Яншиным. Владимир Владимирович оказался уже там. Он был очень мрачный и пьяный. При виде меня он сказал:
– Я был уверен, что вы здесь будете!».
Очевидно, он не просто был уверен, а знал, дирижируя Катаевым, принимавшим звонки, – и одобрив визит Яншина с женой.
«Я разозлилась на него за то, что он приехал меня выслеживать, – продолжала Полонская. – А Владимир Владимирович сердился, что я обманула его и приехала. Мы сидели вначале за столом рядом и все время объяснялись. Положение было очень глупое, так как объяснения наши вызывали большое любопытство среди присутствующих, а народу было довольно много… Мы стали переписываться в записной книжке Владимира Владимировича. Много было написано обидного, много оскорбляли друг друга, оскорбляли глупо, досадно, ненужно. Потом Владимир Владимирович ушел в другую комнату: сел у стола и все продолжал пить шампанское. Я пошла за ним, села рядом с ним на кресло, погладила его по голове. Он сказал:
– Уберите ваши паршивые ноги.
Сказал, что сейчас в присутствии всех скажет Яншину о наших отношениях».
По словам Катаева, он впервые видел своего гостя таким, молчаливым и лунатичным, при этом машинально выдиравшим пучки из медвежьей шкуры и бросавшим записки над миской с варениками (эту шкуру Анна бросит в окно уходящему навек Валентину).
«Впервые я видел влюбленного Маяковского. Влюбленного явно, открыто, страстно. Во всяком случае, тогда мне казалось, что он влюблен. А может быть, он был просто болен и уже не владел своим сознанием. Всюду по квартире валялись картонные кусочки, клочки разорванных записок и яростно смятых бумажек».
Полонская вспоминала: «У Владимира Владимировича вырвалось:
– О господи!
Я сказала:
– Невероятно, мир перевернулся! Маяковский призывает господа!.. Вы разве верующий?!
Он ответил:
– Ах, я сам ничего не понимаю теперь, во что я верю!..»
Наедине, вынув пистолет, он грозил, что застрелится и убьет ее. Нора стала собираться, за ней – и другие.
По Катаеву, Маяковский, не вняв просьбам «остаться», на прощание поцеловал его и впервые обратился на «ты»:
– Не грусти. До свиданья, старик.
Поцеловал он и старшую Коваленко, Анну, мать Анны…
– Не вздумайте повеситься на подтяжках! – будто бы крикнул ему вслед Катаев (сплетню об этом приводит литератор Инна Гофф, ссылаясь на Шкловского, а по Розин-скому, отсылающему к рассказам Роскина, хозяин якобы и вовсе бормотал: «Не такой уж он пламенный любовник, чтоб застрелиться из-за женщины»).
А вот машинописные воспоминания самого Роскина, который, оказывается, в тот вечер пришел к Анне Катаевой в отсутствие ее мужа, но их общение прервало появление Маяковского. Мемуар очевидно недоброжелателен по отношению к Валентину Петровичу – получается, что это он подтолкнул поэта застрелиться (кстати, по Роскину, Маяковский в тот вечер не пил): «С 1928 года я был в дружеских отношениях с женой Валентина Катаева и часто бывал у них в доме, где собиралась целая компания писателей… Я пришел довольно рано, часов в восемь, к Катаевым на Сретенку, в Головин переулок. Вскоре пришел неожиданно Владимир Владимирович и, так как Катаева не было дома, стал недовольно и нервно ходить по квартире… К часам девяти с половиной пришли Олеша и Катаев. В столовой стали накрывать на стол. Валентин Петрович пошел за вином, за шампанским… Пока готовили ужин, Олеша и Катаев, заметив настроение Владимира Владимировича, все время подшучивали над ним, вспоминая положение из “Квадратуры круга” (переживет или не переживет?)… Начали пить шампанское. Маяковский ничего не пил, встал и вышел в другую комнату и снова начал мрачно шагать. Хозяйка дома забеспокоилась, что его нет. Катаев сказал: “Что ты беспокоишься, Маяковский не застрелится. Эти современные любовники не стреляются”. Владимир Владимирович должен был это слышать… Все почувствовали неловкость… Маяковский вернулся в столовую, видно было, что он все слышал… Стало светать. В апреле ведь в 5 уже совсем светло. Владимир Владимирович обнял мать Катаевой, поцеловал Валентина Петровича, и мы вышли последними».
Катанян писал о том вечере со слов Регинина: «Маяковский был мрачный… Катаев сказал – не бойтесь. Вертеров больше нет, не повесится…[81]81
«Уже написан Вертер», – получается, так сказал Катаев.
[Закрыть] Остряков много было. Мог он это слышать? Не знаю. Шумно было».
Утром Маяковский заехал за Норой, отвез к себе на Лубянку, требовал немедленно бросить мужа и театр, она отказалась, он резко отослал ее, и только она вышла – раздался выстрел.
«Очень поздним утром меня разбудил повторный телефонный звонок, – писал Катаев. – Первого я не услышал.
– Только что у себя на Лубянском проезде застрелился Маяковский».
Людмила Коваленко, запомнившая Маяковского-гостя – его длинные ноги-столбы в брюках и как ходила вокруг них – запомнила и то утро, когда потрясенный Катаев в одном халате выбежал на улицу под хмурое весеннее небо…
Поскольку 14 апреля – 1-е по-старому, многие не поверили в случившееся (разбуженный Асеев хотел «кинуться и избить» жену и знакомую «за глупый розыгрыш»). Многие примчались удостовериться. Михаил Кольцов через три дня после рассказывал, как ворвался в Лубянский проезд: «Припадок!.. Вот мы его сейчас, верзилу, подымем, освежим, растолкаем. Эх, парень. Ну и дела. Нет, не припадок. Бледность лица невыносимо желтеет!», повторяя, что Маяковский был болен и самоубийство – не закономерность, а «происшествие». «Роковой порыв», – писал Катаев. «Зловещая опечатка», – красиво сформулировал ярый рапповец Леопольд Авербах.
Несомненно, на момент смерти Маяковский был главным советским поэтом, так же как главным советским прозаиком был Горький (пускай и опять уехавший в Италию), и неверно полагать, что таковыми их позднее назначил Сталин. Достаточно заглянуть в экстренный совместный выпуск «Литературной газеты» и «Комсомольской правды», полный слезных телеграмм, прочитать эпитеты, которыми провожали покойного, или спешное объявление о сборе средств на тракторную колонну «Маяковский», чтобы понять – разговоры о том, что этого нагло-наступательного человека «затравили до смерти», далековаты от реальности.
Катаев вспоминал себя в пивной на Никольской с Олешей и Бабелем и их общее потрясение. Бабель упрекал Катаева, что тот отпустил больного гостя, Олеша делился наблюдением, вынесенным вечером в день самоубийства из квартиры Бриков, которое записал: «Вдруг стали слышны из его комнаты громкие стуки – очень громкие, бесцеремонно громкие: так могут рубить, казалось, только дерево. Это происходило вскрытие черепа, чтобы изъять мозг. Мы слушали в тишине, полной ужаса. Затем из комнаты вышел человек в белом халате и сапогах – не то служитель, не то какой-то медицинский помощник, словом, человек посторонний нам всем; и этот человек нес таз, покрытый белым платом, приподнявшимся посередине и чуть образующим пирамиду, как если бы этот солдат в сапогах и халате нес сырную пасху. В тазу был мозг Маяковского». Наблюдение невероятно впечатлило Катаева, и он приводил его, кажется, не без зависти к слуху и зоркости Олеши: Катаев ведь боготворил все художественно-яркое, связанное со смертью (физиология и лирика, шок и трепет).
«Теперь мы особенно нежно должны любить друг друга, – говорил Бабель, гладя меня и Олешу по плечам».
Прощались в клубе писателей. Потоком шли тысячи людей. Катаев, стоявший с повязкой на рукаве в карауле у гроба, в мемуарах не преминул горько усмехнуться над всем сразу, собой, мертвым телом, «поэзией вещей», жизнью и смертью: «В край гроба упирались ноги в больших, новых, очень дорогих башмаках заграничной работы на толстой подошве со стальными скобочками, чтобы не сбивать носки, предмет моей зависти, о которых Маяковский позавчера сказал мне в полутемной комнате: “вечные”».
Там же Катаев увидел Пастернака: «…как бы все вокруг заслонившее, все облитое сверкающими слезами скуластое темногубое лицо мулата… Его руки машинально делали такие движения, как будто он хотел разорвать себе грудь, сломать свою грудную клетку, а может быть, мне только так казалось».
На похоронах во дворе Ильф сделал две фотографии. На одной – его брат художник Михаил Файнзильберг, Петров, Катаев, Серафима Суок-Нарбут, Олеша, Иосиф Уткин. На другой – между траурно-серьезным Катаевым с папиросой и задумчиво-фаталистичным Олешей, снявшим и смявшим головной убор, несколько неожиданный Булгаков с каким-то недовольно-вызывающим выражением лица и шляпой, надвинутой на глаза.
Позднее Катаев добавил в рукописный альманах Корнея Чуковского стихи, в которых – простота потрясенности:
…А до этого за день пришел, вероятно, проститься,
А быть может, и так посидеть с человеком, как гость.
Он пришел с инфлуэнцией, забыв почему-то побриться,
Палку в угол поставил и шляпу повесил на гвоздь.
Где он был после этого? Кто его знает. Иные
Говорят – отправлял телеграмму, побрился и ногти остриг;
Но меня на прощанье облапил, целуя впервые,
Уколол бородой и сказал: «До свиданья, старик!»
«НА ГРАНИ»
Между тем, несмотря на весь пафос прощания, РАПП не унимался. Авербах заявил, что у гроба ему «хотелось не плакать, а полемизировать». Продолжив и после смерти критиковать Маяковского, так и не отмывшегося от «грязи старого общества», рапповцы с еще большим усердием взялись за «попутчиков», тех, кто не имел громкого имени и должной защиты.
Первой мишенью стал Валентин Катаев.
В майском номере журнала «На литературном посту» за 1930 год рядом со статьями на смерть поэта[82]82
Авербах остерегал от «переоценки Маяковского», отдавал должное «мужеству», с которым «выкорчевывал он корни капитализма в собственной психике», декларировал: «Мы не оставляем пролетарскому писателю права на мелкобуржуазную ахиллесову пяту» и грозил «недобитой и недострелянной сволочи».
[Закрыть] критик Иосиф Машбиц-Веров выступил с развернутым исследованием под предупреждающим заголовком «На грани», посвященным творчеству и личности Катаева.
Этот въедливый обзор катаевской прозы 1920-х годов, на самом деле, весьма неглуп и проницателен.
С основными мыслями зоила хотелось бы даже согласиться, если бы он остановился и заметил, что, хотя писатель ему и чужд, пусть себе пишет, если ему так хочется. Ну это я, конечно, «мелкобуржуазно» замечтался… Как бы не так – следовали громогласные выводы о том, что «не место такому мировоззрению» в нашем дивном небывалом мире, от которых было совсем близко до крика о «недострелянной сволочи». Статья оказалась симптоматичной, отразившись на дальнейшей литературной стратегии Катаева.
«Валентин Катаев, несомненно, один из очень одаренных писателей, – лестно начинал «напостовец» Машбиц-Веров. – Меткая и свежая наблюдательность, веселое остроумие, бесспорная культура слова – эти характерные для творчества Катаева черты редко встречаются в таком свободном и богатом сочетании. – И немедленно добавлял кислоты: – Но вот что показательно: при всех своих бесспорных достоинствах Валентин Катаев не из тех писателей, которые стоят в первых рядах нашей литературы. Он не актуален для эпохи. Он никуда не зовет, не будит, его дело скорей всего в том, чтобы усыплять». (Кстати, журнал допустил, повторяя выражение Леопольда Авербаха, «зловещую опечатку»: вместо «не будит» – «не будет».) Распаляясь, критик выводил писателя из его «людей», то есть персонажей, «даже не опустошенных, а просто пустых, позорно поверхностных» и предупреждал, что такое дарование «начинает выполнять социально-вредную, регрессивную роль», ведь покой в грозовое время означает капитуляцию перед врагом.
Отталкиваясь от «Отца» и путешествуя по многим рассказам (но полностью игнорируя катаевскую «поденщину»), Машбиц-Веров подмечал всюду черты, позволявшие нарисовать психологический портрет самого писателя. Во-первых, он уличал Катаева в «биологичности», приятии «непреоборимого закона жизни» «со всей ее грязью, которая тоже в конечном счете “прекрасна”». «Мы отвечаем совершенно отчетливо: да, мотив о высшей “правде” жизни “самой по себе” лежит в основе всего творчества В. Катаева… Он превращает это “биологическое” мировоззрение в некую абсолютную философию, годную для всех времен и классов». Во-вторых, в Катаеве обнаруживалось «своеобразное делячество, “использовательское” отношение к жизни, теория приспособленчества». И здесь Машбиц-Веров, употребив жирное словцо «рвачество», обнаруживал «американца-дельца»: «Главное: втянуться в жизнь, вцепиться, всосаться в нее». Критик замечал, что блага земные важны не из «жажды наживы»: «золото как самоцель» – это не про Катаева. Его потребительство носит характер эстетства, самолюбования, чувственного развлечения: «…это ярко выраженный эвдемонизм, т. е. стремление возможно полнее, возможно богаче насладиться жизнью». Ах, как хорошо наслаждаться – женщинами, вещами, вином, «гастрономией» (женщина оказывается «отдыхательным приспособлением», игрушкой, «“удобством” домашнего и ночного обихода»), однако критик признавал за писателем и острое желание любви. Сильны у Катаева и иные «идеалы»: наслаждение искусством и природой. Но, подбивая итог, Машбиц-Веров был неумолим: «развитое духовно» мещанство «еще более социально опасно», чем мещанство обыкновенное, а Катаев именно выразитель «богемской части» городских мещан. По сути, он замаскировавшийся враг (его «биологическое» переходит в «область социологии»), намеренный «приспособляться к фактически господствующему порядку жизни, хотя бы жизнь эта была “чужой”, враждебной». По крайней мере, на свирепый вопрос: «Кто он, враг или художник, которого можно “переделать”, изменить, “перетянуть” на сторону революции» – звучал неумолимый ответ: «Он переходит к стану врагов».
Статья в таком журнале имела большое значение. Несмотря на литературную полемику того времени, невозможно преуменьшать вес РАППа, лишь нараставший до момента внезапной «ликвидации» этого объединения в 1932 году. Тогда же в журнале «Красная новь» Машбиц-Веров получил пусть легкий, но отпор в статье критика Берты Брайниной «Творческий путь Валентина Катаева», призвавшей учитывать «сложный, трудный, крайне неровный рост писателя, постепенно превращающегося из одинокого мечтателя, ушибленного революцией, сначала в несмелого ее попутчика, а потом и в союзника». «Все же несколько строк из записной книжки Чехова дают мне больше, чем все написанное Машбиц-Веровым», – парировал Катаев только в 1935-м.
Писательница Валерия Герасимова, хорошо знавшая рапповских лидеров Леопольда Авербаха и Владимира Киршона, вспоминала: «Эта клика путем неисчислимых ухищрений добивалась монополистического положения в литературе. В их руки перешли почти все журналы. От них зависели литературные судьбы. Они широко печатались, прославляя друг друга и затаптывая им неугодных. Особенно всевластными стали рапповцы, заявляя, что являются “ячейкой партии в литературе”. Нелегко было тогда – даже внутренне – противопоставить этому что-нибудь…» Муж Герасимовой, Александр Фадеев, рассказал ей: катаясь в автомобиле с Авербахом и Киршоном, они задавили прохожего, и за это ничего не было.
Если говорить об идейности рапповцев, то им был как будто бы свойствен своего рода религиозный фанатизм. Так некоторые верующие, особенно неофиты (в штыки воспринимающие «светское»), отвергают в искусстве всё, что противоречит «канонам» и может «соблазнить». Рапповцы требовали от писателя стремления к трудной «святости», «грешникам» предлагалось либо «перековаться», либо сгинуть. Решительное неприятие «медиумического» (то есть свободной литературы) буквально означало вопрос: «А каким духом это вдохновлено?» Рапповцы были по-своему логичны, их твердость возникала из обещаний делать литературу «по букве» марксизма, но ведь и само строительство социализма было новой религией. Революция как классовый переворот вверх тормашками подразумевала коренное изменение всех областей старого мира, не исключая прежнего искусства.
Но вопрос вот в чем: если конечный идеал верующего человека – спасение души и царствие небесное – и тогда отречение от помех объяснимо, то как понять религиозную истовость в связи с материалистической идеей? Нуда, вожделенная цель – бесклассовое общество, равенство, благополучие, и ради блага человечества на земле можно благословить жертвенность и воинственность, но действительно ли на этом пути нужно налево и направо уничтожать «неправоверную» литературу как мещанскую, сюсюкающую, «мелкотемную»? Сама окончательная победа большевизма не есть ли победа «высокого мещанства», мира достатка, комфорта и красоты, пускай и облаченного в «одежды культуры»? Или в большевизме заложено что-то иное – иррациональное, конфликтное, острое, что гораздо важнее и занимательнее для его апологетов, нежели далекая сладость коммунизма?
И тут я уже прямо цитирую то, что «напостовец» Машбиц-Веров предъявлял Катаеву – «мещанство в культурных одеждах», любовь к женщинам, удовольствиям, природе. Критик (как и его единомышленники) как будто и не задумывался о цели борьбы, конечной точке маршрута. Рапповцев заботил «ожесточенный поход» против всех и вся[83]83
Программный текст Леопольда Авербаха «На злобу дня» см.: На литературном посту. 1930. № 9. Май.
[Закрыть], и, кажется, главная прелесть состояла в самой ожесточенности.
Конечно, ликвидация РАППа не означала отказа от догматизма, занималась заря «социалистического реализма», но горячка неофитства спадала.
Впрочем, по свидетельству Герасимовой, главные рапповцы были пламенными неофитами на словах, а в жизни – расчетливыми «кремлевскими барчатами» в отличие от своих предшественников эпохи военного коммунизма: «Несмотря на идейную дубовость позиции пролеткультовцев, им все же нельзя было отказать в субъективной честности, бескорыстии. Иное дело вожачки РАППа. Помимо “славы” вскоре появились (как побочный, но далеко не безразличный для них элемент) блага материальные: квартиры, дачи, деньги. Киршон, румяный, откормленный красавчик, был своеобразным “богачом”, самодовольный нувориш, сочетающий потребительские радости с утверждением себя на ролях “защитника интересов рабочего класса”. И называли они все себя беззастенчиво “пролетарскими” писателями, хотя обращались с живыми, конкретными трудящимися с хамским пренебрежением». Друг детства Авербаха по Саратову Георгий Александров вспоминал, что тот изначально был «барином», из семьи, принадлежавшей к «крупной буржуазии»: «Свой выезд, кучер, лакей и горничная», а после революции процвел пуще прежнего, будучи племянником Свердлова и став шурином Ягоды.
Вот тут занятный момент: Катаев с открытым забралом и юным запалом выказывал стремление жить хорошо, ловко устроиться, наслаждаться, он эстетизировал эти намерения в литературе в то время, как другие литераторы, обогнав его и по влиянию, и по доходам, с постными физиономиями вопили о «суровых битвах с врагами революции».
При этом хочется отметить, что рапповцы не были лишены талантов: в проповедях Авербаха есть интеллект и задор, а если драматургия Киршона и вызывает сомнения, то можно вспомнить, что песню на его стихи любят и поют по сию пору («Я спросил у ясеня»), любопытны критики Селивановский и Лелевич (все названные расстреляны), да и Машбиц-Веров (которому расстрел заменили десятью годами лагерей, и по-катаевски доживший до восьмидесяти девяти лет), как уже сказано, неглуп и проницателен[84]84
«Он глаз с меня не спускал», – вспоминал Катаев о своем литературном преследователе.
[Закрыть].
Одними «фельетонами» от советской власти не отделаться – это Катаев понял еще до «напостовской» статьи. Впрочем, похоже, к необходимости полнее и нежнее отдаться политическому отнесся без особого драматизма. В конце концов, альтернативой кнуту был медовый пряник положения.
В сентябре 1930 года в «Литературной газете» РАПП учинил анкетный опрос писателей под громоздким, но снисходительным заглавием «За активное участие попутничества в революционной практике рабочего класса». Среди «представителей попутничества» – Виктор Шкловский, Николай Тихонов, Борис Лавренев. «Попутчик» Катаев обращался к «господам-товарищам» голосом смиренным и просительным: «От пролетарского литературного движения я жду очень и очень многого. Жду, во-первых, революции в области формы. Во-вторых, дружеского руководства и помощи в поисках темы и выработке широкого политического и философского миросозерцания. В-треть-их, обстоятельной, серьезной, внимательной и принципиальной критики. В-четвертых, создания вокруг советского писателя атмосферы искреннего полного доверия и уважения к его трудной и ответственной работе. В-пятых, привлечения так называемых попутчиков (между прочим, терпеть не могу этой соглашательской клички), и меня в том числе, к постоянной работе ассоциации пролетписателей, хотя бы в дискуссионном порядке и без права решающего голоса». А заканчивал и вовсе уверенностью в великом торжестве «пролетарской литературы», которая «во что бы то ни стало должна перекрыть чрезмерно еще почитаемых у нас классиков феодальной и капиталистической России».
Все было «на грани» – и успех, и наказание. Кнутом помахивали тревожно близко. Так, в литературной энциклопедии 1931 года статья о Катаеве (написанная все тем же доброжелателем) имела обвинительный уклон:
«Основной мотив творчества К., повторяющийся в разных вариациях: жизнь прекрасна и “оправдана” “сама по себе” тем, что она – жизнь… Каков социальный смысл этой философии “непосредственной жизни”, к-рая “изумительна” и “оправдана” сама по себе? Это – философия мещанства, философия людей, к-рые не хотят переделывать жизнь, устали бороться с ее невзгодами и способны только наслаждаться ею. К. никогда не поднимается в своем творчестве до общественно-значительной сатиры… Выразительные средства К. вскрывают ту же социальную природу среднекультурного, зажиточного, городского мещанства… В последний период К. пытается преодолеть обывательскую ограниченность своего кругозора и приблизиться к социалистической стройке».
Вот эти-то последние годы «перековки» (конец 1920-х – начало 1930-х годов) позволили Катаеву сберечь себя и закрепиться в литературе, не разделив участи Булгакова, писавшего в стол.








