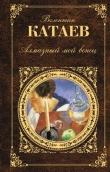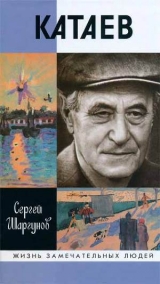
Текст книги "Катаев. Погоня за вечной весной"
Автор книги: Сергей Шаргунов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 52 страниц)
ИЛЬФ И ПЕТРОВ
В 1923 году в Москву из Одессы с небольшой разницей во времени приехали Илья Ильф и Евгений Петров.
В феврале Ильф поселился у Катаева. «По приезде в пышную столицу, – писал он, – опочил я на полу у приятеля-благодетеля». Затем ему дали комнату при типографии «Гудка», где он жил вместе с Олешей. Об этом вспоминал Гехт: «Сперва он жил в Мыльниковом переулке, на Чистых прудах, у Валентина Катаева. Спал на полу, подстилая газету… Летом двадцать четвертого года редакция “Гудка” разрешила Ильфу и Олеше поселиться в углу печатного отделения типографии, за ротационной машиной. Теперь Олеша спал на полу, подстилая уже не газету, а бумажный срыв. Ильф же купил за двадцатку на Сухаревке матрац».
По воспоминаниям Эрлиха, Ильф поступил в «Гудок» на должность библиотекаря и лишь позднее, когда «редакция газеты задумала в ту далекую пору выпускать еженедельный литературно-художественный журнал», он принес фельетон, сочиненный специально для этого нового журнала.
«Несколько авторов написали по фельетону, но пришлось забраковать их все без исключения. В. Катаев объявил тогда:
– У меня есть автор! Ручаюсь!
Спустя два дня он принес рукопись.
– Отличная вещь! Я говорил!..
Фамилия автора – короткая и странная – ничего нам не говорила.
– Кто это Ильф?
– Библиотекарь. Наш. Из Одессы, – не без гордости пояснил Валентин Катаев.
Мы настояли, чтобы редактор подобрал другого работника для библиотеки и перевел Ильфа в газету, в “обработчики” четвертой полосы».
Читатель еще не раз удостоверится в этом отдельном даре Катаева – бескорыстно помогать и продвигать в литературе.
Евгений Петров, тогда еще Катаев, три года прослуживший в одесском уголовном розыске, по утверждению брата, не особо стремился в Москву, но он вызвал его «отчаянными письмами».
Совсем другой версии придерживаются Киянская и Фельдман: Петров укатил из Одессы от бдительных чекистов. Все дело в годе рождения, который он себе снизил при аресте, и самом аресте, факт которого он скрывал. Будто бы он перевелся в милицию из ЮгРОСТА, избегая проверки, и спасаясь от нее же, был вынужден уволиться из органов.
В любом случае вскоре после того, как его повысили в должности, назначив инспектором в Тирасполь, а в документах губернского розыска охарактеризовали как лучшего сотрудника, он спешно уволился. Тревожась перед очередной «чисткой»? Огорченный приговором к высшей мере своего товарища Козачинского (который затем отменили)?
Есть и третья версия: я пришел к ней, ознакомившись с неизвестными письмами Евгения брату[29]29
Из личного архива Людмилы Коваленко.
[Закрыть] – он сам рвался в Москву и ни от кого не скрывался.
22 июня 1923 года Евгений взывал:
«Валя!
Очень тебя прошу, ответь мне на письмо сейчас же (если ты считаешь, что это письмо может отнять у тебя часть драгоценного времени, то не беспокойся – я обязуюсь уплатить по твердой цене за строчку и кроме того, будучи твоим биографом, я впоследствии опубликую его с соответствующими комментариями). Итак, я буду ждать от тебя письма, в котором ты напишешь, смогу ли я жить в Москве, смогу ли я поступить на службу, в университет, консерваторию и т. д.». Он добавлял, что у Багрицкого, который, по его «агентурным сведениям», «находится в Москве», брат может узнать, как он «жил в Одессе, как там тосковал и как хотел приехать в Москву».
Здесь же Евгений задавался вопросом о будущем литературном псевдониме: «Вообще при первых встречах с людьми, интересующимися литературой, я привык постоянно слышать вопрос: “А, вы брат Катаева?” На это я всегда отвечаю с деланым пренебрежением, что не “я брат Катаева”, а “Катаев мой брат”. Иногда в минуты черной меланхолии, нравственной пустоты и сознания собственного ничтожества, я думаю подавать на высоч… тьфу!., на имя “Загс” заявление о перемене моей фамилии. Не сделал я этого до сих пор только потому, что никак не могу подобрать соответствующей мне по роду службы фамилии. Во всяком случае, ты не стесняйся и если в Москве устроиться нельзя, то так и напиши мне. Тогда перебьюсь как-нибудь в Одессе. Сейчас я не могу равнодушно слышать паровозного гудка – так и тянет ехать…»
6 августа Евгений написал Валентину новое послание:
«Сейчас в моей башке масса мыслей, все перепутывается и я прямо не знаю, как поступить. Жалование я получаю паршивое, а главное – неаккуратно. Кроме того, меня постоянно кидают из одного района в другой. Я страшно слаб, малокровие, нервы совершенно расшатаны, и я сам не подчиняюсь своей воле. Служба у меня больше чем каторжная. Приходится не спать ночами и питаться насухо не тогда, когда хочешь кушать, а тогда когда есть деньги и время. Пить я совершенно перестал и очень рад. Надеюсь, что ты последуешь моему примеру… Мне страшно хочется ехать в Москву для того, чтобы служить (работник я великолепный во всех отношениях) и учиться, хотя бы музыке. Мне кажется, что при помощи твоих связей я мог бы устроиться…»
Уже в конце 1930-х годов Петров писал:
«Я всегда был честным мальчиком. Когда я работал в уголовном розыске, мне предлагали взятки, и я не брал их. Это было влияние папы-преподавателя… Я жил так: я считал, что жить мне осталось дня три, четыре, ну максимум неделя. Привык к этой мысли и никогда не строил никаких планов… Я переступал через трупы умерших от голода людей и производил дознания по поводу 17 убийств».
Евгений приехал «худой и гордый» (по его описанию), провинциальный, привыкший к смерти и бедности, шокированный «великолепием» столичного нэпа – «мне было обидно».
«Я приехал без завоевательных целей и не строил никаких планов… Мой брат Валя. Его комната с примусом и домработницей в передней. Мы выходим в город. Валя водит меня по редакциям. Я вспоминаю, что когда-то он тоже водил меня по редакциям».
По утверждению Катаева, Евгений устроился надзирателем в больничном отделении Бутырской тюрьмы.
Катаев поведал сыну, что он попросил Евгения закончить главу недописанного романа («Повелитель железа»), выходившего в газете, и ушел. Через несколько часов все было готово.
«– Отрывок был закончен настолько хорошо, что я отнес его в редакцию без правки, и он был напечатан.
Отец вспоминал об этом с воодушевлением и весельем, и в рассказе проглядывала большая любовь к брату и гордость за него».
«Как Валя убедил меня писать рассказ» – многообещающий заголовок в записках Петрова, не успевший вырасти в историю, которую, впрочем, рассказывал сам «Валя».
Он упрашивал брата стать литератором, а тот упирался, уверяя, что у него не получится. Катаев предложил воскресить историю с арестом гражданина по фамилии Гусь, воровавшего казенные доски.
В «Алмазном венце» он вспоминал сказанное брату:
«– Ты что же это? Рассчитываешь сидеть у меня на шее со своим нищенским жалованьем?»
И тот за час, «стиснув зубы», написал отличный рассказ и тихо сказал: «Подавись!»
Рассказ «Гусь и украденные доски» появился в «Накануне» 9 марта 1924 года.
Миндлин вспоминал: «Однажды Катаев привел в редакцию очень скромного юношу в серой кепочке.
– Знакомьтесь. Это мой брат Женя Петров. Он вам сейчас даст свой рассказ, и вы с удовольствием его напечатаете. Женя, знакомься!
Женя Петров вынул из кармана переписанный от руки рассказ “Гусь и украденные доски” – рассказ был тут же одобрен, перепечатан нашей машинисткой и на следующий день отправлен в Берлин».
Евгений Петров – так теперь звали нового писателя, превратившего отчество в псевдоним.
Писатель Виктор Ардов отмечал в этом проявление деликатности: «По щепетильности своей Евгений Петрович полагал нужным уступить свою настоящую фамилию старшему брату, В. П. Катаеву, который в то время “завоевывал” Москву смелой поступью многообразного и сочного дарования». Да и не хотелось, чтобы путали с другим Катаевым – Иваном, начавшим приобретать литературную известность.
А между прочим, писатель Иван Катаев приходился Валентину и Евгению не однофамильцем, а пятиюродным братом. Отец – с Вятки, дед – священник.
Евгению всю жизнь не нравилось его, как он полагал, маловыразительное «Петров». «Я пишу рассказ и придумываю неудачный псевдоним, – пометил он в записной книжке, и далее: – Первый гонорар. До сих пор я писал только протоколы и заключения. Но нужна служба. Денег нет. Я поступаю в “Красный перец”. Как я стал выпускающим».
Биография – пунктирно… Сюжет прихода Петрова в литературу упоминала и Надежда Мандельштам: «Приехал из Одессы устраиваться в уголовный розыск, но, по совету старшего брата, стал писателем».
Катаев утверждал, что сговорился с «Накануне» об особо крупном гонораре, который вдохновил Евгения и решил его судьбу.
«Катаев охотно привлекал к сотрудничеству в “Накануне” новых, никому, кроме него, не известных молодых литераторов», – отмечал Миндлин и так изобразил первое появление в редакции Семена Гехта: «Он сутулился от застенчивости и торопился объяснить свое появление, протягивая катаевскую записку… Катаев в своей записке рекомендовал редакции “Накануне” его рассказ».
Петров стал сотрудником, а затем и ответственным секретарем «Красного перца». Ардов писал: «Валентин Петрович Катаев, который одно время фактически вел “Красный перец”, уходя из журнала, оставил за себя брата».
Впереди у Евгения была и работа в «Гудке».
Валентин внушал ему не унывать и не переживать по поводу «журналистики» и ее возможного вреда «литературе», а напротив, веселому и легкому отношению к написанию очередного проходного текста, превращавшегося в сыр, ветчину, бутылку вина (этому же через полвека учил и сына). Петров вспоминал: «Он быстро написал стихотворный фельетон о козлике, которого вез начальник пути какой-то дороги в купе второго класса, подписался “Старик Саббакин” и куда-то убежал».
Несомненно, если братья и были схожи, например, тягой к «сладкой жизни», то вели себя по-разному, один – шалил с шиком, другой (по крайней мере, в глазах окружающих) воспринимался как человек скромный и ровный. Есть ощущение, что психологически Петров, несмотря на все испытания, до конца оставался «домашним мальчиком», опекаемым тетушкой, в отличие от старшего брата-оторвы, пропадавшего на улицах (и в 1920-е он ответил ей благодарностью, сообщив в письме брату: «Я собираюсь выписать к себе тетю. Ты, как я сужу из тетиных писем, ничего ей не пишешь и совершенно ею не интересуешься. Положение же тети сейчас очень скверное и если я не возьму ее в Одессу, то совершу преступление перед своей совестью»[30]30
Впрочем, в результате Катаев стал заботиться о тете Лиле уже в Мыльниковом переулке.
[Закрыть]).
Надежда Рогинская, свояченица Ильфа, вспоминала о «редком музыкальном даровании» Петрова – он «обладал знанием рояля в совершенстве, играл прекрасно, страстно любил музыку и пение». «На память мог проигрывать целые оперы», – рассказывал о нем Катаев. Возможно, Евгений был не только нежнее брата, но просто более сдержан и рационален во внешних проявлениях (вспомним дихотомию: младший «отличник» и старший «двоечник» в повестях «Белеет парус одинокий» и «Хуторок в степи»), а внутренне оба сохраняли смешливую жизнерадостность («Лесков. “Лесковщина”. Отсюда – Евгений Петров», – объяснялся Катаев). Эта репутационная разница подвигла художника Бориса Ефимова, знавшего обоих еще с Одессы, посетовать: «Как несправедливо и капризно разделила между ними природа (или Бог) человеческие качества. Почему выдающийся талант писателя был почти целиком отдан Валентину Петровичу, а такие ценные черты, как подлинная порядочность, корректность, уважение к людям, целиком остались у Евгения». Катаев, как бы бахвалясь, рассказывал, что из брата, быстро освоившегося в Москве, «вышел человек», гуляка и франт, и однажды он залюбовался им ранним утром, увидев его счастливого, в открытом экипаже, «после ночных похождений» – и в этих строках плещется признание подлинного родства. Но и лукавый укор есть в том же «Парусе», где младшенькому Павлику прощают всё за «невинные, шоколадно-зеркальные милые глазки». А вот их недоброжелатель писатель Всеволод Иванов представил в дневнике 1942 года главным циником именно Петрова: «Приехал В. Катаев. Встретились в столовой – не поздоровались. В. Катаев – не столько бесчувственная скотина, сколько испорченный дурак, развращенный другой – очень расчетливой скотиной, своим братом». Последнее заключение сомнительно, прежде всего, потому, что Катаев опекал Петрова (и влиял на него), а не наоборот.
Войдя в литературу, он робел и терзался: «Меня всегда преследовала мысль, что я делаю что-то не то, что я самозванец. В глубине души у меня всегда гнездилась боязнь, что мне вдруг скажут: послушайте, какой вы, к черту, писатель, занимались бы каким-нибудь другим делом!» Можно, конечно, предположить во всем этом артистизм или расчет, мол, так же, как Валентин играл в циника, Евгений изображал скромника, но почему-то верится в искренность признания: «Однажды он (Ильф. – С. Ш.) сказал: “Женя, я принадлежу к людям, которые любят оставаться сзади, входить в дверь последними”. Постепенно и я стал таким же».
Братьям случалось пикироваться.
Еще до войны драматург и сатирик Самуил Алёшин в гостях у Петрова в Лаврушинском переулке встретил Катаева: «Будучи весьма похожими, их лица вместе с тем казались наполненными разным содержанием». «Петров познакомил нас, – вспоминал Алёшин, – и сказал что-то доброе о моих юмористических рассказах, которые он незадолго до этого начал печатать в “Огоньке”. Но Катаев только недоверчиво хмыкнул и поглядел на меня оценивающим взглядом. Не помню уж к чему, Петров упомянул, что недавно был на эстрадном концерте, и похвалил выступавших там артистов. Тут Катаев среагировал словесно. В несколько ленивой манере, с одесским акцентом он со вкусом и последовательно изничтожил каждого из названных исполнителей. Причем сделал это методично, подбирая самые убийственные характеристики. И, ничего не попишешь, очень точные. А на все попытки Петрова вставить об актерах хоть что-то положительное Катаев отвечал тем, что, как говорится, бил и накладывал. Я слушал их развесив уши, признаюсь, не без удовольствия… Вряд ли Катаев был на самом деле очень уж плохого мнения об артистах, над которыми измывался. Скорее просто захотел продемонстрировать перед молодым автором силу своего неотразимого словесного мастерства и попутно поставить на место младшего брата».
Катаев повздорил с братом и во время войны, за сутки до того, как тот отправился на смерть…
Характерно, что Евгений стал соавтором не брата, но Ильфа, с ним гулял по Москве и путешествовал по свету. Если Валентин встречал смертельную опасность с убеждением, что с ним ничего случиться не может, то, по его же словам, Евгения словно бы преследовал рок, ему как будто была предначертана трагическая судьба, и он сам чувствовал эту свою обреченность, то и дело пророча и призывая смерть, например, записав в воспоминаниях об Ильфе: «Говорили о том, что хорошо было бы погибнуть вместе во время какой-нибудь катастрофы».
Кстати, Катаев не только продвигал авторов, но с готовностью, юмором и совсем без надменности давал им советы. В 1920-е годы в Москву приехал одессит Марк Ефетов, о котором я уже упоминал, – когда-то он учился в гимназии у катаевского отца и восторженно следил за подвигами земляка на фронтах Первой мировой. Теперь они встретились в «Гудке», где Катаев наставлял юного журналиста: писать ярче и превращать каждую статью в мини-новеллу. Их общение растянулось на много десятилетий.
Ефетов вспоминал, как говорил Катаеву: «Всё! Сегодня не могу больше писать, забуксовал». Катаев переиначивал: «Забоксовал. Вертятся колеса на одном месте, поршни паровоза бьют вхолостую, можно сказать, боксируют».
По словам дочери Ефетова Тамары, ее отец и Катаев гадали на поездах, быть может, по примеру кого-то из железнодорожников. «Считалось, что, если первым покажется пассажирский поезд или электричка, это к удаче, если грузовой – к неприятностям. Оба почему-то свято верили в это гадание. Потому что почти всегда вслед за пассажирским поездом случалось что-то хорошее, а за грузовым – хоть мелкая, но неприятность», и продолжали так гадать уже немолодыми в Переделкине.
В 1923 году Катаев, по его утверждению, познакомился с «маленьким, худеньким» петроградцем Львом Лунцем, который вместе с Вениамином Кавериным входил в группу «Серапионовы братья». Каверин, как и Лунц, выступавший за возрождение сюжетной прозы, привел товарища в Мыльников переулок, и тот читал свою повесть «Через границу» так серьезно, что слушатели «буквально катались по полу от смеха». Пожалуй, это единственное из воспоминаний Катаева, встретившее яростное публичное отрицание со стороны персонажа. После выхода «Алмазного венца» Каверин заявил, что ни в каком Мыльниковом не был. По всей видимости, уже с двадцатых годов он невзлюбил Катаева, оставшись верен своей неприязни долгую жизнь. Что касается Лунца, в июне 1923-го он уехал в Гамбург и в 1924-м умер там в госпитале от эмболии мозга.
В мае 1923 года Олеша познакомился с тринадцатилетней девочкой из Мыльникова переулка по имени Валя. По одной версии, он увидел ее в окне соседнего дома, читающей книгу, по другой, Олеша и Катаев развлекались, выставляя в окне первого этажа куклу, похожую на ребенка, подарок брата Ильфа – художника Михаила Файнзильберга, какое-то время тоже жившего в квартире в Мыльниковом. Интересуясь куклой, подошли две школьницы, и в одну из них Олеша влюбился, пообещав посвятить ей сказку. По воспоминанию Олеши, «Трех толстяков» он писал «то в маленькой комнате при типографии “Гудка”, где жил с таким же юным Ильфом, то у Катаева в узкой комнате на Мыльниковом, то в “Гудке” в промежутках между фельетонами». Впрочем, когда девочка выросла и наконец-то была издана сказка (Олеша подписал ей книгу в декабре 1928 года), Валя уже была невестой Петрова. По словам Катаева, брат завоевал ее со всей напористой серьезностью жениха: конфеты, цветы, извозчик, рестораны. Поженились они 1 апреля 1929 года.
МАДАМ МУХА
Ранней весной 1923 года Катаев датировал встречу с Маяковским, наконец-то перешедшую в общение. «Целый год до этого я прожил в Москве и еще не знал его».
Олеша вспоминал: вскоре после переезда в Москву они уже встречали Маяковского на Рождественском бульваре, но не окликнули и до конца не понимали: он это был или нет. По словам Эрлиха, Катаев «настораживался при виде каждого высокого и энергично шагающего человека: вдруг это Маяковский!». Теперь он столкнулся с Маяковским в районе Лубянки лицом к лицу. «Я решился и остановил его: “Вы Маяковский? Я ваш поклонник, я поэт”. Он дал мне свой адрес, пригласил к себе. Когда я пришел, хорошо принял. Познакомил с Асеевым, Пастернаком».
Всех их сближала одна территория, которую Катаев уже нагло называл своей «вотчиной».
Маяковский жил на два дома, но в одном районе – в Водопьяном переулке (ныне не существующем) с Лилей Брик, там, где свили гнездо лефовцы, и в Лубянском проезде.
Асеев жил на Мясницкой, на девятом этаже, во дворе Вхутемаса с золотисто-рыжей женой Оксаной, одной из пяти харьковских эксцентричных сестер Синяковых, дочерью черносотенца и «прогрессистки»[31]31
Лиля Брик писала: «Во всех них поочередно был влюблен Хлебников, в Надю – Пастернак, в Марию – Бурлюк, на Оксане женился Асеев». Асеев был уже верным «соратником» Маяковского (по определению Катаева), отдалившись от Пастернака, «соратником» которого был до того.
[Закрыть].
Пастернаку Вхутемас был родным: с 1894-го долгие годы они обитали там – во флигеле, а затем в казенной квартире при тогда еще Училище живописи, ваяния и зодчества вместе с отцом-преподавателем (между прочим, уроженцем Одессы).
Итак, в апреле 1923-го Катаев женился. Как полагали некоторые – спешно и в отместку Леле Булгаковой.
Анна родилась 8 июля 1903 года в Одессе на Коблевской улице в семье коллежского секретаря Сергея Сергеевича Коваленко и Анны Николаевны Филипповой. Изъяснялась на четырех языках, стала художницей. В 1919 году ее родители слегли с тифом в одну больницу. Отец умер, мать выжила.
За Анной ухаживал брат Ильфа, художник Михаил Файнзильберг. Была она строга, с колючим характером, но он говорил: «Я точно знаю, кто тебе подойдет». У нее было прозвище Муха. Еще ее называли Мусей.
Она участвовала в «красном» «Коллективе художниц» и помогала украшать плакатами город. С подругами в 1920-м они замотали кумачом памятник Екатерине, превратив в своего рода коммунистическую мумию.
Брат Сергей, ставший механиком, то и дело выручал провиантом – хлебом, колбасой, сыром – ее друзей-богемцев, как он выражался, «босяков».
На вопрос: «Как вы революцию пережили?» – Анна отвечала: «Танцевали…»
Перебраться в Москву ее уговаривали настойчиво… Катаев помогал ей. Она вспоминала: передавал гонорары от одесских публикаций через Бабеля.
По многу раз призывные послания в Одессу отправляла тройка друзей – Катаев, Олеша, Ильф[32]32
Письма из личного архива Людмилы Коваленко.
[Закрыть].
18 марта 1923 года Ильф писал:
«Дорогая Муся,
Ваше время настало. Не отнеситесь к тому, что Вы сейчас прочтете, легкомысленно. Ибо это важно по многим причинам для меня, а Вам будет полезно. Дорогая Муся, кидайте Коблевскую улицу, на которой Вы живете, ибо нет смысла на ней жить, если есть Чистые пруды. Нет расчету жить на юге, если Москва расположена в центральной полосе России. Прекрасное настоящее и изумительное будущее Вам обеспечено. В этом порукой линии Вашей и моей руки. Я не напишу ничего больше того, что написал. Соберитесь с мыслями и езжайте».
К письму был приложен его рисунок с объяснением: «Муся, это Страстной монастырь[33]33
Разрушен в 1937 году.
[Закрыть]. Самый лучший в мире».

Рисунок Ильи ильфа. 1923 г.
В том же конверте находилось письмо Олеши:
«Милая Муся!
Нет спасенья: нужна помощь, нужен друг, кусок прошлого, кусок Одессы, сердца. Муся Коваленко, чудесная свидетельница моих лучших дней, милая современница самой счастливой поры моей жизни – приезжай к нам в Москву. Что тебе терять в Одессе? Приезжай к нам… Здесь Катаев, Ильф и я. Только ты осталась, больше никого нет в мире. Это все сериозно. Это настоящая просьба. Приезжай, утешительница. Ждем. Ждем. Просим.
Целую ручку. Юра».
А вот и жених:
«Дорогая Муся!
Пишу от имени троих. Твое письмо получено 5 минут тому назад. Решение твое приветствуем. 2 миллиарда, которые тебе необходимы, будут высланы не позже пятницы 6-го апреля по телеграфу. Покупай только самое необходимое, остальное устроится здесь. День приезда телеграфируй точно – встретим. Лирическую часть откладываем до встречи. Сейчас торопимся: Маяковский читает новую поэму “Про это” (об отвергнутой любви). Целую лапы.
ВалКатаев».
Когда Анна перебралась в Москву, сразу и поженились.
В начале мая Катаев сообщал ее матери в Одессу:
«Честное слово, я не знаю как в таких случаях надо писать, в общем, я женился на Мусе. Как это произошло я до сих пор не могу как следует понять. Не знаю, известно ли Вам, что года 2 тому назад я был страшно влюблен в Мусю. Муся тоже была ко мне в достаточной степени нежна. Сейчас эта старая нежность развилась с такой силой, какой ни я, ни Муся от себя не ожидали. Я уверен, что Муся будет мне хорошей женой и добрым другом, а я ее очень люблю. Сейчас мы счастливы всерьез и надолго. Мне хочется быть Вашим нежным сыном – ведь у меня нет ни отца, ни матери. Хорошо?»
«Я привязалась к Вале и люблю его, – в июне писала матери Муха. – Если бы ты знала, какой он милый, он совсем как большой ребенок».
Катаев стал посылать Анне Николаевне шутливые отчеты о налаженности их быта, сопровождая выразительными картинками: ножи, вилки, ложки, щетка, шкаф, кушетка, этажерка, «завел себе текущий счет в Госбанке»… «Теперь, если Вы, мамаша, хочите узнать за свою дочку, многоуважаемую Мусю, – юродствовал он, – то просю Вас убедиться в етом». Под изображением рта и зубов было написано: «Что это т-т-такое?», и следовала перевернутая разгадка: «Мухины грязные зубы». «Впрочем, – уточнял зять, – Муха только что побежала чистить зубы, несмотря на то, что мы ей клялись, что сегодня будний день и вообще ничего похожего на двунадесятый праздник».

Начало письма Валентина Катаева Анне Николаевне Коваленко. 1923 г.
«Муха лежит, – сообщал он Анне Николаевне в другом письме. – У нее болит животик и она сейчас будет пить слабительное. Она ужасно морщится и капризничает, а потому написать не может. Мы счастливы вполне, сильнее чем вчера и позавчера, а завтра и послезавтра будем еще счастливее. Даже удивительно за что нам такое счастье».
«Живу под боком у семейного счастья», – вторил Катаеву Олеша.
В другом письме Анне Николаевне Катаев превращался в персонажа какого-нибудь своего фельетона: «Хочу пальто с большим выдровым воротником. Хочу большие и красивые боты. Хочу перчатки. Хочу синий костюм. Хочу костюм маренго. Хочу часы. Хочу портсигар. Хочу визу в Италию. Хочу телефон. Хочу пианино. Хочу самовар. Хочу выкраситься в рыжий цвет. Хочу спать».
Анне Николаевне жилось трудно. «Сейчас у меня большие неприятности с квартирой, опять обложили не по силам как нетрудовой элемент, – жаловалась она дочери. – Говорят, если вы не можете платить, идите жить в подвал и освободите нам квартиру, я буквально не в состоянии бороться…»
Гонорары от своих не только одесских, но киевских и харьковских публикаций Валентин Петрович отдавал теще: «Вообще, я решил, что все деньги с провинции будут идти на Ваш счет».
Муся же фигурировала в нескольких письмах из Москвы Семена Гехта. 22 ноября он сообщал своей подруге, тоже из «Коллектива художниц», Генриетте Адлер[34]34
Будущей жене литератора Сергея Александровича Бондарина.
[Закрыть]:
«Милая, дорогая, родная Генриетта,
Ваше последнее письмо доставило мне много радости. Я получил его 19-го. Я как раз был у Катаева. Сидели: Катаев, Муся, Иля и я. Катаев захлестывал Мусю экспансивными поцелуями (он это делает с 4-х часов дня до часу ночи – публично). Иля сидел мрачный – нет писем и все такое. Я сидел тоже мрачный – день был чересчур неприятный. И вот – легкий стук в передней комнате. Письмо грохнуло о жесть, ящик свистнул, почтальон ушел. – Друзья, письмо! – сказал Катаев. – Это от мамы! – крикнула Муся. – Это мне! – процедил сквозь зубы Иля. А я молчал. Иля бросился к ящику, выловил письмо и произнес вяло. – Это для Гехта».
«Я женился на своей старой любви – Анне Сергеевне Коваленко, в которой нашел доброго товарища и нежную жену», – писал мастер «экспансивных поцелуев» в автобиографии 1924 года.
Вскоре он поселил у них Мухину сестру Тамару, приютил надолго и Анну Николаевну.
В Москве Муся нарисовала автопортрет в воображаемой пышной шубе. На эту шубу копили. Летом они жили в съемном домике в Тарусе. У соседки, матери четверых детишек, подохла корова-кормилица. И Катаев предложил отдать бедной бабе накопленное: «А шубу еще купим!» И отдали…
Временами Анна возвращалась в Одессу.
5 июня 1924 года Катаев писал ей: «Ты себе не представляешь что делается! Везде мечутся писатели, у которых абсолютно нет монеты. Жалкое зрелище. Я буду по возможности чаще переводить тебе деньги, но не ручаюсь. Мне бы ужасно хотелось поцеловать твои родинки на спинке. Целую тебя всю, всю, всю… Тамара знаменитая хозяйка. В тысячу раз лучше тебя. Она делает солянку на сковородке и окрошку и расстегаи и вагон других вкусных вещей. У нас есть много клубничного варенья. Сегодня к нам наверное придет Танюша ех-Булгакова, которая будет рыдать в жилетки».
Олеша писал ей:
«Дорогая и самая красивая!
Твой муж начал курить плохие папиросы, заводит подозрительные знакомства, в котором обществе и пьет трехгорное. Увязался за моей девочкой (Нюрка, – ты ее не знаешь, это из прошлого) и тратится на нее, продавая последние стаканы. Дурак! Ты не веришь, но это горькая правда. Тамара угощает отвратительной солянкой, в которой тараканы трещат, как кости, и бегает гулять на Чистые. У меня романчик с Вашей новой прислугой. Я на ней женюсь. Целую тебе глаз. Приезжай поскорее, если хочешь застать хоть какие-нибудь крохи с таким трудом налаженного хозяйства.
Твой верный друг Юра».
«Боже. Мухачка, не верь ни одному слову, он все врет, – на том же листе взывала к Анне ее сестра, – Валя не курит, знакомства ни с кем не заводит, не пьет и совсем он не дурак. Я тараканов не варю (и больше ему обедать не дам), на Чистые не хожу и посторонним мужчинам ухаживать за моей прислугой не позволяю. И потом, какая ты ему дорогая? С тем, что ты самая красивая, я с ним солидарна. Ой Боже мой, еще Женя хочет писать, не верь миленькая ни одному слову».
«Тебе передают знакомые, что я пью, – вскоре писал и Катаев. – Это очень мило с их стороны. В свое время те же самые знакомые передавали в Одессе о нашей безумной роскоши и кутежах. Тебе бы, кажется, пора привыкнуть к тому, что ½ фунта голландского сыра и бутылка пива, проделав 1400 верст, превращаются по крайней мере в 5 фунтов рокфора и дюжину шампанского… Три фельетона в неделю – это приводит меня в отчаяние. В лавку мы должны к сегодняшнему числу 100 рублей. Ты отлично знаешь, что если я получаю одновременно: 1) от тебя унылое письмо с требованием денег на костюм + 2) записку от лавочника что больше в долг не дает; 3) счет за свет; 4) счет за воду и квартиру – то писать я не могу… Да, пью. Иногда. Бутылочки три на всю компанию. Удовлетворена? Ты видишь меня “бледного и с головной болью”. Бывает. Особенно, когда получаю твои мучительные письма… То, что я редко пишу тебе – понятно. Ведь за эти писания мне ни один издатель до моей смерти или юбилея не заплатит ни копейки».
Муха, отчитываясь Валентину о жизни в Одессе, передавала разговоры с «пышной свитой»: «Я узнаю, что я москвичка, художница, богачка и что у моей приятельницы и у меня “богатый бюст”. Кроме того я узнаю массу интересных новостей о себе, о Москве, о моем муже» и сообщала, что на пляже к ней подошел Остап Шор: «Я всем ответила, как поживает знаменитый Катаев и когда он приедет».
Московские постояльцы, конечно, утомляли и разоряли. К Петрову литературный успех пришел не сразу, и Валентин даже подумывал – отправить Женю восвояси. 27 июля 1924 года в письме жене он предлагал решительно «попросить» и ее сестру, и своего брата:
«Я сделался, не заметив этого, мелкой газетно-журнальной сошкой. Я за последний год – ничего не написал настоящего. Меня это так мучит, что нельзя передать – ты должна понять меня, это так больно. Сейчас я чуть не плачу от этого. Видишь – я с тобой откровенен до конца. Максимум что я могу зарабатывать в месяц – это 150 рублей – и это при невероятном напряжении (и отчаянной халтурой!). Значит, вопрос стоит так: Тамару и Женю надо ликвидировать. Я их очень люблю, но тебя и себя я люблю больше. Тут ничего не поделаешь. Ах, если бы ты знала, как мне хочется, чтобы мы с тобой были одни. Ты понимаешь, как это чудесно. А то мы любим друг друга, как мыши. Я уверен, что оттого мы и ссоримся и бываем недовольны друг другом. Муха, дружок мой, ответь мне сейчас же – что ты думаешь на этот счет. Но имей в виду, что никаких компромиссов тут быть не может. Я измучился, измотался. Я не могу даже читать. А ведь время идет и возвратить его нельзя. Ведь ты не хочешь, чтобы я сделался злым, желчным, грубым “отцом семьи”, вытягивающим на своей шее много народу? Я предлагаю такую вещь: при первых же крупных деньгах Тамару – в Одессу, а Женю – в Полтаву. Тут нельзя сентиментальничать… Я ни Жене, ни Тамаре об этом не говорил и мне трудно заговорить об этом. Пока буду молчать. А потом когда будут деньги – само устроится. Это категорическое мое решение».