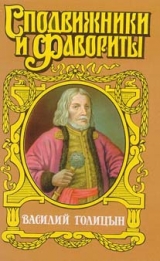
Текст книги "Василий Голицын. Игра судьбы"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
– Да, князь, вы несетесь впереди времени, и этого никто не одобрит. Не поймет и не примет, – заключил граф. На этом они расстались.
На другой день князь Василий отправился к царевне Софье.
Она устроилась в палатах деда – Ильи Даниловича Милославского, которые выстроил для тестя царь Алексей Михайлович меж Троицкой и Комендантской башнями Кремля. К ним он пристроил домовую церковь Похвалы Богородице с крытой галереей-переходом. После кончины тестя и рождения сына Петра царь обратил палаты в Потешный дворец, где пастор Грегори устраивал спектакли своей труппы: развлекал молодую царицу Наталью.
Софья отобрала палаты, повелев соорудить комедийную хоромину вне кремлевских стен, и сама разместилась в них. Князь застал у нее Федора. Шакловитого за бражным столом. Царевна и Федор раскраснелись, оба были навеселе.
Настроение у князя упало. Говорить ли при Федоре о своей поездке в Дубровицы, о разговоре с дядькой царя Петра князем Борисом? Дело, как ему казалось, шло об интересе двоих – царевны и его. Шакловитый, по его разумению, оставался сбоку. В этом котле он мог бы уцелеть, хотя и был ставленником Софьи. Однако, рассудив, что теперь они повязаны одною веревкой, решился.
– Замиряться? Ни за что? – отрезала Софья.
Шакловитый неожиданно поддержал ее:
– Надобно одолеть Нарышкиных силою либо чарами. Я ужо говорил своим: надобно уходить медведицу и за нею медвежонка. Вовремя они не подступились. Ноне и подавно не осмелются. Упустили время, но крест рано ставить. Сила за нами.
– Сила есть – ума не надо, – высказался князь Василий. – Сила против силы – неведомо, чья возьмет. По мне же лучше умом взять, лучше покориться до поры до времени. Надобно все размерить, дабы действовать наверняка… А ныне вы, чаю, с прикидкою.
– Отчего же? – возразил Федор. – Я переговаривался со стрелецкими головами, кои охочи к бунту.
– Много ль таких?
– Есть сотские, пятидесятники и один пятисотский.
– Стремянный полк весь за Петра, – возразил князь. – И солдаты, кои под началом иноземцев, полковника Гордона.
– Все едино – за нами сила, – упрямо твердил Шакловитый.
– Ты, Федор, упрям, а я еще упрямей, – отвечал князь. – Нельзя начинать дела, не уверясь в его успехе. Коли провалишь его – сызнова не начнешь, а костей не соберешь.
Софья молчала. Как всегда в присутствии двух своих галантов, она терялась, не зная, кому из них отдать предпочтение. Федор владел ею наравне с князем, а может, и сильней: он был крепче, а главное, свежей.
Некоторое время оба перекорялись и наконец умолкли, ожидая, что скажет царевна.
– Я так думаю… думаю, – неуверенно начала она. – Думаю, что надобно погодить. Извести их надоть, вот что, – с неожиданным ожесточением подхватилась она. – Чарами колдовскими!
– Пытались мы, госпожа, пытались, – с улыбкой промолвил князь. – Может, вспомнишь? Токмо ничего из этого не вышло. Да и не выйдет, по моему разумению.
– Привели ко мне колдуна, – продолжала свое Софья. – Силен, сказывали, заговорами своими. Опять же две бабки есть на примете – нашепчут свое, и человек иссохнет.
– Не знаю, не верю, пустое, – князь был непреклонен. – Книги заговорные готов представить, в них тоже многое такое писано. Однако же за верное действуют одни только яды. А отраву подсыпать в питье либо в яденье никто не возьмется.
– Не испробовав всю колдовскую силу, нельзя приступать к изводу, к другой силе – воинской, – подвела итог Софья. С этим нехотя согласились оба.
Глава восьмая
С кем жить, с тем и слыть
С Богом начинай, а руками кончай. Девичий стыд до порога: переступила, так и забыла.
Доброе братство милее богатства. Вяжись лычко с лычком, ремешок с ремешком.
Народные присловья
Свидетели
…по указу великих государей выбраны были по всем стрелецким полкам новые полковники. Никита Глебов с товарищи. А стольники, и стряпчие, и дворяне московские, и жильцы жили на Москве по указу великих государей по четвертям и езживали в городе в саблях и на карауле стаивали на Постельном крыльце. А пущих бунтовщиков и заводчиков, бив кнутом, ссылали в ссылки по разным городам. И с того времени почало быть в Московском государстве тихо и смирно.
…послан воеводою в Чернигов окольничий Иван Афанасьев сын Желябужский и как в Чернигов приехал, полковником был Борис Федоров сын Дементьев. После того прислан из Москвы в Чернигов на перемену полковника Бориса Дементьева полковник Василий Иванов сын Кошелев. И по указу великих государей окольничий Иван Афанасьев сын Желябужский полковнику Василью Кошелеву велел быть в городе Чернигове, а полковника Бориса Дементьева с полком отпустил к Москве, и дал ему, Борису, к Москве от себя отписку.
В том же году учинено наказание Петру Васильеву сыну Кикину, бит кнутом перед Стрелецким приказом, за то, что он девку растлил. Да и прежде сего он, Петр, пытан на Вятке за то, что подписался было под руку думнаго дьяка Емельяна Украинцова, а то дело ныне в приказе Болыпия Казны.
Иван Афанасьевич Желябужский. «Записки…»
– Ох, Федюша… Ох! Так, так, так! Да, мой любый…
– Хорошо ли, госпожа моя? Сладко ли тебе?
– Ох сладко… Еще так! Еще, еще… Не жалей меня, любый! Стерплю муку твою!
– Не жалею, госпожа моя. Видишь, чуешь, испьешь?
– Испью! Сполна испью. До конца… Ох!
– Приказывай! Хочешь ли еще таково!
– Погоди чуток, Федюша. Дай передохнуть. А после хоть избей меня – все стерплю, все сладко.
– Ну передохни, госпожа моя, – великодушно согласился Федор Шакловитый. – Да глотни винца для пылу пущего.
Куда девалась сановитость царевны Софьи, привычная всем тем, кто был под нею. Ныне она была под ним, под Федором, покорная его воле, едва ли не раба. А он не терял мужеского чина, неистовствовал. И было царевне таково, как никогда. И стелилась она перед Федором всем естеством своим.
– Поднеси испить, Федюша, – коснеющим языком вымолвила она. – Нету у меня сил подняться. Лишил ты меня всякой мочи. И отколь в тебе столь много силы, Федюша?
– От тебя, госпожа моя. Ты в меня силу влагаешь.
– Покорна я тебе, покорна. Столь сильно да не испытанно ты меня забираешь…
– А с князем? – вырвалось у Шакловитого. Куда что девалось. Словно бы взвилась Софья, тотчас обрела властность, поднялась и так зло глянула на него, что он оторопел.
– Не лезь, куда не смеешь! – выкрикнула она. – Не трожь, чего не знаешь!
– Виноват, госпожа моя, – пробормотал Федор. – Прости. Вырвалось. Ненароком. Не хотел…
– Грешна я, да, – заговорила Софья. Голос ее обмяк, и вся она как-то обмякла и стала той Софьей, которая только что стонала в объятиях Шакловитого. – Господь мне судья, а не ты, полюбовник мой. Грешна, верно. Но то сладкий грех, от естества, простимый. Князя ты не замай, он голова моя, и твоя тож. Ум светлый, государев ум. Понял ли?
– Как не понять, госпожа моя. Вестимо так. И я князя почитаю.
– То-то же. И наперед того, что меж мною и князем, касаться не смей.
– Не стану, государыня царевна. Я с вами всегда заодно, мы все трое в одной сплотке.
– Разумные речи любо слышать, – наклонила голову Софья. – Так и быть – прощаю и отпущаю. Поди поцелуй.
– Только-то?
– Уморил ты меня. И разгневал. Дай отойти. А там видно будет. Мужская твоя власть не до всего касается.
– Гляди-тко, как восстал. На тебя молится.
Софья невольно рассмеялась, и мир был восстановлен. Все началось сызнова: вздохи, стоны, вскрики. Федор старался превзойти себя. Но натужность сказалась – иссяк.
– Поди прочь, – оттолкнула его Софья. – Выше головы не прыгнешь. Коли кончился – сползай.
Полдничали. Затем Софья кликнула окольничих и велела закладывать карету и готовить выезд. Готовить выезд означало запряжку шестериком да три десятка человек свиты. Это называлось малым выездом. Большой – сверх полутора сотен сопровождающих. Царевна в этот раз милостиво отказалась от скороходов.
– До Измайлова верст пятнадцать, нечего их морить. Навещу братца да сестрицу Прасковью.
Встречный люд снимал шапки, кланялся в пояс. Софья милостиво кивала в ответ, но во всякий царевнин выезд что-нибудь случалось: то встречный воз опрокинут, то каких-нибудь замешкавшихся прохожих подавят, а то и боярский экипаж в грязи утопят. В этот раз все обошлось.
Государев двор в Измайлове раскинулся как бы на острове: окрест, куда ни глянь, была вода, пруды, образованные речками и речушками, коих было вдоволь в здешних местах. Царь Алексей Михайлович возлюбил сельцо и повелел заложить здесь загородную усадьбу для великой потехи – соколиной охоты. Заложили с размахом: подняли рубленый дворец со многими службами и угодьями. Крестьяне местного сельца числом более пятисот душ были приписаны к дворцу. Завели и заводы – стеклянный, льнотрепальный и винный, фермы со скотом рогатым и безрогим, птичники и даже зверинец для утехи царских детей с заморскими зверями. В пруды же запустили всякой рыбы, более же всего карпов. И некогда юная царевна Софья звонила в колоколец, взывая их для кормежки, то была забава специально для царских дочерей.
Потом Измайлово перешло к царю Федору. И он тож постарался: кроме массивного пятиглавого храма Покрова Богородицы, ставленного батюшкой в честь молодой супруги своей царицы Натальи, возвел парадные ворота с колокольнею и гульбищем, башни сторожевые, тож каменные, Более других была окладена Мостовая башня, замыкавшая въездной белокаменный мост.
Все свое было в Измайлове: хлеб и масло, мед и вино, холст и посуда. О мясе да рыбе и говорить нечего. Опять же конюшни на полторы сотни езжалых и стоялых лошадей. Так что царю Ивану и супруге его царице Прасковье особей заботы не было. Все шло тишком да ладком.
Приезд царевны Софьи, как обычно, вызвал великий переполох. Прежде, как того требовал обычай, она отправилась к братцу. Большую часть своего времени он проводил либо в моленной, либо в храме Покрова.
В этот раз он бил поклоны в храме. Под его гулкими сводами было пустынно. И стылую молитвенную тишину нарушил лишь стук каблуков Софьиных сапожек. Царь Иван стоял на коленях пред царскими вратами и бормотал что-то себе под нос, не понятно было, к кому он обращается: к Спасу ли, к Богородице, к угодникам Божиим на трех тяблах иконостаса.
Царевна бесцеремонно подняла его с колен.
– Вставай, братец. Поговорить надо.
– Тут и поговорим, сестрица.
– Во храме о святом говорить надо, а у нас с тобой разговор о земном. Тут место для молебствий, сам знаешь.
– Знаю, – и он встал, и, с трудом передвигая ноги, поплелся вслед за Софьей.
На царской половине господствовал тот же церковный дух – пахло елеем и ладаном. Все свободное пространство занимали иконы с мерцавшими огоньками лампад.
– Пошто в храм ходишь, братец. Тут у тебя столь же благочестно. Есть, кому моленье вознести. Однако душно. Вели окошки открыть хоть ненадолго.
– Дух целебный ладанный, – возразил Иван, – ино выветришь его, то будет неладно.
– Ну, как знаешь. Коли тебе ладно – дыши.
– Ладно, сестрица, ладно. О чем говорить желаешь?
– Хочу просить тебя, братец, вот о чем. Но допрежь слово свое царское дай, что о просьбе моей ни гуту, – и она приложила палец к губам. – Не сказывай и Параше. Понял?
– Ну? Понял. Отчего же нельзя?
– Николай Угодник не велит, – отвечала Софья, – зная, что Иван более всего чтил сего святого и веления его почитал нерушимыми.
– Явление тебе было, сестрица? – дрогнувшим голосов вопросил Иван.
– Вестимо, иначе бы не сказывала.
– Великая благость на тебя снизошла, сестрица. Воистину ты – избранница Божия, – он с трудом поднял тяжелые веки и уставился на сестру, как на чудотворную икону. – Завет сей исполню свято.
Софья уверилась: исполнит, исполнит. Исполнит то, что она с надеждою и даже с трепетом получила от колдуна Тимоши, одного из многих, к коим прибегала последнее время.
Она достала из кошеля, висевшего на груди, небольшую шкатулочку и подала ее Ивану.
– Когда отправишься на сиденье с братцем Петрушею, высыпь то, что в сей шкатулочке, ему на кресло. Да так, чтоб он не узрел сего. То освященная щепоть.
– А зачем это братцу?
– Так сам Николай Угодник повелел. Да слышь – ему не сказывай тож.
– А ему-то отчего? Коли сам Угодник повелел? – простодушно спросил Иван.
– Таковые святые дела в тайне делаются, – нашлась Софья.
– Ага. Соблюду, стало быть.
– Соблюди, свет мой, непременно соблюди. И всем будет воздано. Спрошу с тебя, как исполнишь.
– Ну а братцу-то Петруше неужели не сказывать?
– Ни Боже мой! Я ж тебе толкую: наша это с тобой тайна и святого Николы. А более никто знать не должен. Повтори-ка.
– Более никто знать не должен, – покорно повторил Иван.
– Ну вот и ладно, вот и условились. На неделе спрошу. А сейчас пойду к Параше твоей.
Царица была на своей половине. И как всегда, ее окружали мамки и комнатные девушки, которых потом будут именовать фрейлинами.
Царевна вошла, и все вскочили, отвешивая поясные поклоны.
– Пошли все вон! – властно проговорила Софья, и все с поклонами потянулись к дверям.
– Ну что, Параша? Какова ты? Завела ль галанта?
Царица закраснелась и прикрыла лицо руками, с минуту она молчала, а потом еле-еле слышно выдавила:
– За-ве-ла, сестрица.
– И каков он? Пригож ли? Разумен ли?
– Пригож, разумен, – не отрывая ладоней от лица, пробормотала Прасковья.
– Сколь раз было у вас соитие? – продолжала допытываться царевна.
– Шесть, сестрица, – прошелестела царица.
– Успела, стало быть. Вот и хорошо, хвалю. Сладко ль с ним тебе?
– Сла-дко, – шепотом сложила Прасковья.
– Может, уж и понесла?
Прасковья кивнула. Царевна обняла ее и трижды смачно поцеловала в губы.
– Ну уважила! Поздравляю! – возбужденно выпалила Софья. – Всех нас, Милославских уважила! А родишь царевича – цены тебе не будет. Моли Пресвятую заступницу нашу, Приснодеву Марию, чтоб даровала тебе мальчика. Денно и нощно думай о сем, проси с усердием. Иван-то знает?
– Говорила, – все еще стыдливо произнесла царица, уже отняв ладони от лица.
– Старайся. Коли станешь стараться, все выйдет по-твоему. И по-нашему. Иван порадуется – для него стараешься, для него. Он-то про свое семя гнилое не ведает, полагает, что росток от него взошел. Ты ему-то не отказываешь?
– Как можно, – вспыхнув, ответила Прасковья.
– Верно, его ублажай, яко можно. Да старайся все его семя в себя вбирать, не пролив.
– Угу, – только и буркнула царица. Верно, нескромность Софьи вывела ее из себя. Но пресечь ее не смела. Царевна была крута. И эта крутость была полной противоположностью кротости Прасковьи, Царица возросла в отеческой строгости и старалась жить со всеми в мире.
А Софья быстро познала вкус власти и стала действовать решительно, по-мужски. Про нее так и говорили: черт в юбке. Ее побаивались даже сестры. И никто не понимал, откуда что взялось, как получилось, что теремная затворница вдруг стала правительницею.
Была бы она старшей – кое-как понять можно было бы. А то ведь нет, не была. Вырвалась из середки. И понеслась! Более всего поспособствовал этому, разумеется, князь Василий. Он во всех смыслах ее раскрепостил. Открыл миру и царству.
И царевна Софья размахалась. Была она, правда, самой способной, развитой и сановитой меж всех сестер-царевен, равно и теток царевен тож – сестер Алексея Михайловича. Стало быть, князь Василий не промахнулся, вставив свой ключ, дабы отпереть Софью для мирской жизни.
Но ныне она ходила по краю. Царь Петр, младший брат, наступал стремительно и неотвратимо. Был он моложе на целых пятнадцать лет! Но смел, дерзок и разумен не по летам. До последнего времени писалась она рядом с именами великих государей тож великою государыней и благоверною царевной и великой княжной, и подлый народ падал перед нею ниц, как перед царями.
Ради того, чтобы удержаться у власти, пожертвовала она Хованскими и их ближними. Кого еще придется принести в жертву? Не довольно ли? Ненавистный Петрушка, ненавистная мачеха, ненавистные Нарышкины и их приспешники! Извести бы первых двух и тогда… Она уж видела себя коронованною: все были довольны ее правлением. Она ведь старалась умягчить законы и нравы, дабы поминали ее добром.
Нарышкины распростерлись поперек. И вот тогда она прибегла к колдунам и колдуньям. Зная эту ее склонность, услужающие приводили к ней бабок и блаженных, меж которых были ведуны. В свой замысел она посвятила князя Василия и Федора Шакдовитого. Князь относился к этому с иронией, а Федор верил в нечистую силу и заговоры.
Софья сильно надеялась на Серапиона, блаженного, но уж очень смердевшего. Сей Серапион навел-таки порчу на Петрушку, но лихоманка та оказалась скоротечною. И Петрушка продолжал куролесить по-прежнему. В последнее свидание Серапион вручил ей заговоренный порошок. Коли высыпать его на сиденье ненавистному человеку, уверял он, тот станет сохнуть и в одночасье помрет. Вот этот-то порошок и вручила она братцу Ивану, чтобы высыпал на тронное сиденье Петра. И стала терпеливо дожидаться последствий.
Но Петрушка был по-прежнему здоров и резв. И Софья, потеряв терпенье, снова поехала в Измайлово. Братец, как всегда, был в молельной. И Софья без обиняков приступила к нему:
– Высыпал ты порошок на Петрушино сиденье?
– Ну? Вестимо высыпал.
– И ничего ему не сказывал?
– Ну? Как ты наказывала, сестрица, так я и поступил. Молча высыпал.
– При нем? – вскинулась Софья.
– Ну? Нет, сестрица. Как ты наказывала, без него.
Софья вздохнула с облегчением, продолжала допрашивать Ивана:
– А что он?
– Узрел нечистоту на сиденье да повелел ближнему боярину, а тот стольнику щеткою ее смахнуть.
– Ах ты, беда какая, – невольно вырвалось у царевны. – Узрел, значит?
– Узрел, сестрица, сам узрел. Я ничего не сказывал.
Огорченья своего Софья не скрывала, но Иван не обратил на него внимания.
– Спасибо тебе, братец, – криво улыбаясь, произнесла Софья. – Ежели сызнова я тебе что-нибудь поручу, исполнишь?
– Ну? Вестимо исполню, государыня сестрица.
Экая неудача, вздыхала Софья на обратном пути. Заговоры и заклятия надобно испробовать. Правда, первые пробы опять же не удались, но медлить нельзя.
Царевна была натурой энергичной. Замыслив нечто, она немедля старалась привести замысел в исполнение. Притом у нее хватало хитрости и изобретательности на все.
Призвав Федора, она поручила ему, не отлагая, доставить к ней бабку Акулину, Акульку, промышлявшую в торговых рядах на Красной площади. У этой бабки была слава целительницы. Она якобы снимала порчу, заговаривала ото всех болезней, к ней ходили мужики снимать утин-прострел и мужскую немочь, а бабы лечили грудницу, бесплодие и прочие болезни. Естественно, промышляла она и заговорами против неверности, наводила порчу на недругов.
Привел Федор бабку Акульку. Пала она перед царевной навзничь и стала стукаться лбом об пол, приговаривая:
– Свет ты наш великий, ясный, подательница благости, великая государыня, да чем я, недостойная, могу услужить тебе?
– Можешь ты навести порчу на супротивника моего? – напрямую спросила ее Софья.
– Услужу тебе со всем усердием, яко могу. Коли можешь достать его волос, либо ноготь состриженный, либо еще чего-нибудь от него, навроде мочи, кала, крови, – смогу за верное. Либо след ноги его.
– Ничего такого достать не могу. Разве что след попробовать? Как, Федор?
Шакловитый затруднился с ответом. В самом деле, можно ли как-нибудь соскрести либо снять лопаткою след ноги Петра?
– Нет, государыня, это дело безнадежное, – наконец вымолвил он.
– А ежели неможно сам след, то вколотить в него четыре железных гвоздя крестом с причитаньем, кое скажу.
– И сего не исполнить, – сказал Шакловитый. – Ты, бабка, что-нибудь полегче да попроще измысли.
– Могу, могу, касатик, – заторопилась бабка. – Есть порча на ветер. Слова такие заговоренные.
– Вот это годится, – одобрила Софья. – Сама ль ты наведешь либо кому-нибудь из нас следует?
– Нет, государыня царевна, сама я не могу – недруг-то ведь не мой. Кабы был бы мой, я бы наговорила. А так…
– Сказывай, каково говорить надо. А ты, Федор, возьми вот бумагу да запиши.
– Да где у тебя перья да чернила?
– Кликни кого-нибудь, чтобы принесли.
Постельничий принес очиненные лебяжьи перья да чернильницу со стопой бумаги.
– Ну, сказывай!
Бабка отставила ногу, сделала зверское лицо и начала:
– Кулла, кулла, кулла! Ослепи имя река очи цвета черного, раздуй его утробу толще угольной ямы, засуши его тело тоньше соломины, умори его скорей жала гадючьего, оторви ему руки-ноги бурею свирепою. Пущай он сгинет в одночасье со всем своим добром, с детишками, с женою либо с мужем. Аминь!
– Больно страшно, – сказала Софья, когда Шакловитый закончил писать. – Ну да ладно. Испробуем. А ты, Акулина, никому не сказывай, что у меня была. Проговоришься – лютой казни предам. Поняла?
– Как не понять, великая государыня царевна. Пущай язык у меня отсохнет, ежели проговорюсь, радетельница ты наша.
– Федор, дай ей золотой. Это на первый раз. Вдругорядь получишь более. А ежели заговор твой сдействует с первого разу, то озолочу.
– Ужо служить буду со всем радением, – приговаривала бабка, пятясь к выходу. Шакловитый выпроваживал ее. Когда он вернулся, царевна потребовала:
– Давай выйдем на гульбище. Сначала ты, а уж потом и я. Уж больно страшные слова, кабы язык не отсох.
День выдался ясный, теплый, благостный. Грачи черными закорючками деловито копались в земле. Дворцовые конюхи выводили на пастьбу лошадей. Подувал почти неуловимый слабый ветерок, Лениво пошевеливавший сухие листья на гульбище. Федор послюнил палец.
– Кажись, на восток, – сказал он. – А где это Преображенское, в какой стороне?
– Не ведаю, – призналась Софья.
– Ну да ладно. Глядишь, и достигнет ворога нашего.
– А он не в Преображенском. Сказывали, на Плещеево озеро подался. Игры у него там водяные.
– Может, водяной его и утащит в свое царство. Пущай царствует там, – засмеялся Шакловитый.
– Дай-то Бог, – произнесла Софья и перекрестилась. – Ну, не медли, давай выговаривай.
Федор поднес к глазам бумагу и стал читать заклятие. Софья ежилась.
– Ну, а теперь ты, госпожа моя.
– Может, хватит на нынешний-то день, может, отнести назавтра, – сказала Софья и перекрестилась сызнова.
– А чего назавтра? Завтра бабка иное принесет.
Царевна все медлила. Видно, заговорные слова пугали ее. Она нехотя взяла бумагу и, запинаясь, стала читать.
– Очень уж ты робко, – сказал Федор. – Такое слово не достигнет. Надобно его пущать со страстью.
– Ничего такого бабка Акулька не наказывала, – возразила царевна.
– То само собою разумеется, – отрезал Федор. В это время во двор въехала карета цугом. Впереди бежали два скорохода, позади гарцевала конная свита.
– Князинька! – радостно воскликнула Софья. – Князинька едет! Вот уж кто подскажет, каково надо произносить.
– Мне ты так не радуешься, – ревниво произнес Федор.
– А ты разве меряешь радости мои? – усмехнулась царевна. – Равно я вам рада, оба вы мои радетели. Обоих равно люблю.
– Так быть не должно. Любить надобно одного, – сердито выдавил Федор.
– Каково живете? – спросил князь Василий, входя.
– Вот, на ветер заговорные слова пущаем, – быстро проговорил Шакловитый.
Князь подошел к Софьиной руке, приложился к ней и при этом заметил:
– Пустое это занятие, сколь раз сказывал тебе, государыня.
– А коли ничего иного нету, как быть?
– Столь много раз толковал: надобно замириться. Неужто выя у тебя закостенела, не гнется?
– Не гнется! – буркнула царевна.
– Вот и жди разворота Петрушкиного. Он никого из нас по твоей прихоти не помилует.
– Не угомонюсь, прежде чем не испробую все по черной магии, – упрямо повторяла царевна. – Вот ты, князинька, посулил книгу Гермесову, где по науке можно порчу наслать.
– Писано там такое, верно. Но сам Трисмегист указывает, что ничего такого не испробовал, все с чужих слов.
– Великий, сказывал ты, ученый, стало быть, с людьми таковой же учености и вожжался, – резонно указала Софья.
– Надо думать, – нехотя согласился князь. – Но и великие бывают доверчивы. Сам же Гермес указывает, что всякое знание дается опытом.
– Народ приметчив, – заметила Софья. – Без опыта да нужды ничего не выдумает.
– Востра ты, матушка, давно подметил: за словом в карман не лезешь, – ухмыльнулся князь.
– А как с вами иначе? Не возразишь да не переспоришь – задавите.
– Наше дело давить вашу сестру, – вмешался Федор. – Однако любовно.
– Да уж, на это вы мастеровиты. Так ты, князинька, привези ту книгу Гермесову. Давненько обещался.
– Все за посольскими делами забываю, государыня. Сей день и пришлю ее тебе.
С теми словам попрощался и вышел. А вечером посольский дьяк привез Софье обещанную Гермесову книгу, пухлый том на латинском языке.
– Э, нет, – огорчилась царевна. – Сия грамота не по мне. Будто князь Василий не ведает, что я латынщине не учена. Проси князя приехать да растолковать, что здесь писано.
– Князь с послами занят, государыня царевна. Наказ твой передам слово в слово, – пообещал дьяк.
Разумеется, передал. Князь не был ослушником – приехал. Не к полюбовнице – к правительнице.
– Давай разбираться, – попросила царевна. – Найди подходящее для порчи.
Князь долго листал фолиант, бормоча под нос: моча, кал, ногти, слюна, сопли, платок, чулок, рукавица… Вот, кажись, подходит. Купить бычье сердце непременно в субботу и, взяв его, пойти в пустынное место, вырыть там глубокую яму, устлать ее слоем негашеной извести и на нее положить сердце…
– А где эту известь берут? – осведомилась царевна.
– Я тебе добуду, – усмехнулся князь. – Выжигают ее у нас в Мячкове селе. Чту далее: колоть его, сердце то бишь, острым ножом, приговаривая: «Вот тебе, Петр, нож в сердце, умри, как сей бык умер под ножом». И так несколько раз. А потом возвратиться молча, ни с кем не заговаривая весь день.
– Как же это можно – весь день молчать? – удивилась царевна.
– А ты накажи слугам своим и сестрицам, чтобы тебя не тревожили. Тут указано, что таково с сердцем надобно поступить не единый раз. И каждый раз поутру, непременно натощак.
– Ох, грехи мои тяжкие, – расстроенно проговорила царевна. – Тяжко мне все это. Прикажу купить бычьих сердец да положить их в ледник… А не указано там: непременно самой копать да колоть?
– Самой, госпожа моя, самой.
– Ладно. Поищи что-нибудь попроще.
Князь продолжал листать книгу, бормоча себе под нос.
– Может, вот это испробовать, – нерешительно произнес он, – вот, слушай-ка: до восхода солнца одним ударом ножа срезать ветку орешника, притом непременно совсем молодого, без плодов, и до которого никто не касался…
– Поди знай, касался кто, либо нет, – прервала его царевна. – Неизвестно то. Ну да ладно, чти далее.
– Срезать, стало быть, с приговором: «Срезал тебя, ветка нынешнего лета, как срезал бы Петра, смерти коего ищу!» А возвратясь, расстелить новую скатерть на новой столешнице и сказать три раза. Тут по-латински, но, наверно, можно и по-русски: «Во имя отца и сына и Святого Духа и силою Дроха, Мирроха, Эсенарота, Бету, Бароха, Маарота…»
– Фу ты, Господи, – и Софья суеверно перекрестилась. – Это кто ж такие? Имена все нечистые, иудейские.
Князь пожал плечами.
– Не знаю, госпожа. Видно, волшебники какие-то. Но это еще не все. После прибавить: «Святая троица, покарай Петра царя, который творит мне зло и злоумышлял против меня, и избавь меня от него навсегда, навсегда, навсегда! Элион, Элион, Эсмарис, аминь». Сказав аминь, надо хлестнуть веткою по скатерти, и враг будет побит.
– Тарабарщина какая-то. И слова жидовские. Нет, Васенька. Ищи далее.
– А ты не могла бы добыть Петрушкин волос? Вот тут с ним проще…
– Сам посуди: могу ль я получить его волос? Разве что попросить братца Ивана. Да нет, ему сие не по силам, да и смею ли я попросить его дернуть Петрушку за волосы. Нет, такое не годно.
– Вот состав Филамента, философа Афинейского.
– Философа? Небось, сильный состав! – оживилась царевна. – Чти.
– Взять свежей воды из трех колодцев или трех разных источников и сосуд с нею поместить в укромном месте, возле поставить четыре зажженных свечи, а поверх сосуда положить два острых ножа крест-накрест, а из другого сосуда помаленьку лить ту же воду. В эту воду насыпать порошок тертой меди с колокола церковного и трижды произнести таковую молитву: «Глас грома твоего оглушит, молонья небесная тебя ослепит, и трепетна будет земля под стопами твоими, царь Петр, и стезя твоя на воде потонет, и стонов твоих ничье ухо не достигнет!» Сие повторить трижды да водой этой ворога окропить…
– Ах, Васенька, все не то, – огорчилась Софья. – Как его окропишь? Да он ныне на Плещеевом озере, тамо не достать. Пустая твоя книга, всякой ерунды насобирал сей Гермес, нечего выбрать. Придется к бабкам да колдунам прибегнуть, хоть ты и насмешничаешь.
– А это у Гермеса, похоже, тоже от баб, – заметил князь с улыбкой. – Однако ты, Софьюшка, алчешь, чтобы все было просто, легко, безо всякого труда. А без труда не выловишь и рыбку из пруда.
– Говоришь, у него от баб. А как же философ, коего способ ты чел?
– Философы, сударушка моя, тоже человеки. А человеку, как сказывал знаменитейший из философов Аристотель, свойственно ошибаться.
– Ну да ладно. Забирай своего Гермеса, он, выходит, мне без надобности. Обойдусь домашней нечистой силою.
Следовало выяснить, сдействовал ли заговор, пущенный на ветер. У царевны Софьи всюду были свои соглядатаи. Были они в Преображенском, в палатах царицы Натальи. Две постельницы время от времени-сообщали Софье о том, что делается да каково говорится меж царицею и ее ближними людьми. За то получали они ежемесячно по два золотых, и все были довольны. Были у нее, у царевны, свои люди и меж денщиков царя Петра. Да только далеко ныне пребывал Петрушка, и те соглядатаи с ним. До царевнина уха не досягнуть.
Меж тем царица Наталья частенько получала от сына вести и делилась ими с услужающими. Ждала царевна, пождала – жив и здрав был царь Петр, не утянул его водяной в пучину озера. Да что водяной – и никакая хворь его не брала.
Велела призвать к себе бабку Акульку, напустилась на нее:
– Не сдействовал твой заговор. Слаб он, видно, нету в нем никакой волшебной силы.
– Есть, государыня царевна, есть. Да на тот ли ветер сей заговор был пущен?
– Отколь я знаю – на тот ли, не на тот?! Подавай мне способ верный.
– Верней, чем яд, – способа нету. Есть травы ядовитые, есть настои, есть камень-одолень. Коли в порошок его перемолоть да дать того порошка отведать ворогу, помрет он в одночасье. Либо в еду, либо в питье подмешать…
– Что ты мне об ядах толкуешь! Недосягаемый то человек, не могу я к нему приблизиться.
– Неужели, государыня царевна, есть на Москве такой человек, до коего ты досягнуть не можешь? – искренно удивилась бабка. – Рази власть твоя не всю землю объемлет? Али это дух какой вредоносный?
– Чего тебе толковать! – рассердилась царевна. – Стало быть, есть, есть таковые люди, до коих не могу доступиться. Далеко они от меня, а вот вред напущают.








