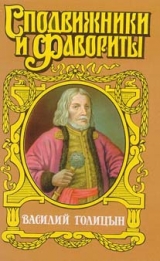
Текст книги "Василий Голицын. Игра судьбы"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Р. Р. Гордин
Василий Голицын. Игра судьбы
Из энциклопедического словаря Изд. Брокгауза и Ефрона. Т. XVII. СПб., 1897
Голицын Василий Васильевич, родился в 1643 г.; молодые годы свои провел в придворном кругу царя Алексея Михайловича в званиях стольника, чашника, государева возницы и главного стольника. В 1676 г., уже в звании боярина, Голицын отправлен был в Малороссию принять меры для охранения Украины от набегов крымцев и турок и участвовал в знаменитых Чигиринских походах. Непосредственное знакомство с военным делом поставило Голицына лицом к лицу с недостатками тогдашней организации русского войска. Он убедился, что корень зла лежит в местничестве, и, вернувшись в Москву, сумел провести его уничтожение. Майский переворот 1682 г. поставил Голицына во главе Посольского приказа. Ролью первого государственного человека в течение семилетнего правления царевны Софьи (1682–1689) Голицын, помимо личных дарований, обязан был еще близостью своей к правительнице, которая страстно его любила. В звании наместника новгородского и ближнего боярина, Голицын, кроме сношений с иностранными державами, заведовал приказами рейтарским, владимирским судным, пушкарским, малороссийским, смоленским, новгородским, устюжским и галицкой четвертью; в 1683 г. пожалован «Царственные большие печати и государственных великих посольских дел Оберегателем» – титулом, который до него носили лишь Ордин-Нащокин и Матвеев. Яркого следа во внутреннем управлении России Голицын о себе не оставил. Зато внешняя политика его ознаменована заключением 21 апреля 1686 г. вечного мира с Польшей. По этому миру Киев, которым Россия владела доселе лишь фактически, переходил к ней и de jure. Обязательство польского правительства не притеснять своих православных подданных создало основание для последующего вмешательства России во внутренние дела Польши. Обусловленный договором с Польшей поход (так называемый первый крымский) 1687 г. под начальством Голицына был неудачен. Награжденный Софьей как победитель, Голицын предпринял в 1689 г. второй поход, столь же безрезультатный: войско доходило лишь до Перекопа. Только с большим трудом удалось Софье уговорить Петра назначить Голицыну и его товарищам награды за эту кампанию. Падение Софьи повлекло за собою и опалу Голицыну. Обвиненный в нерадении во время последнего крымского похода и в излишнем возвышении царевны Софьи, в ущерб чести обоих государей, Голицын указом 9 сентября лишался боярства, всего имущества и ссылался вместе с семьей в Каргополь, откуда переведен в Яренск (в ту пору – глухая зырянская деревня). Извет Шакловитого, будто бы Голицын принимал активное участие в заговоре стрельцов в ночь на 8 августа 1689 г., подкрепленный новым изветом о сношениях Голицына с Софьею уже после ссылки, еще более отягчил его судьбу. Был отдан приказ вести Голицына с семьей в Пустозерский острог, на низовья Печоры. Непогода на море помешала ехать далее Мезени (1691). Трудность пути и челобитные Голицына оказали свое действие: опальной семье дозволили остаться в Мезени. Последний этапный пункт ссылки Голицына – Волоко-Пинежская волость (Арх. губ.), где (в селе Кологорах) он и умер 21 апреля 1714 г. По смерти Голицына семья его была возвращена из ссылки.
Голицын был несомненно выдающимся и передовым человеком своего времени. Получив прекрасное домашнее образование, знакомый с языками немецким, греческим и латинским, он владел последним с таким совершенством, что свободно вел на нем устную речь. Голицын ясно понял основную задачу века – более тесное сближение с Западом. Как приверженец Софьи он долгое время в глазах потомства нес вместе с нею незаслуженно низкую оценку. Видя Голицына в числе врагов Петра, большинство привыкло смотреть на него как на противника преобразовательного движения и ретрограда. На самом деле Голицын был западник и сторонник реформ в европейском духе. Он покровительствовал иностранцам, сочувствовал образованию русского юношества, хотел освободить крестьян от крепостной зависимости, отправить дворян за границу в военные школы, завести постоянные посольства при европейских дворах, даровать религиозную свободу и пр. Отличие Голицына от Петра – в сочувствии западно-католической культуре, тогда как Петр был сторонником протестантской Европы.
Игра судьбы
Исторический роман
Глава первая
Визит графа де Невиля
Да ведают потомки православных Земли родной минувшую судьбу…
А. С. Пушкин
Судьба придет – ноги сведет, а руки свяжет.
У боярина семь дочерей: будет из них и смерть, и судьба.
Подлазчив пес, да и лиса хитра.
Гость, коли рано поднялся, ночевать просится.
Народные присловья
Свидетели
«Правление царевны Софьи Алексеевны началось со всякою прилежностию и правосудием всем и ко удовольствию народному, так что никогда такого мудрого правления в Российском государстве не бывало: и все государство пришло во время ее правления чрез семь лет в цвет великого богатства, также умножилась коммерция и всякие ремесла, и науки почали быть восставлять латинского и греческого языку. Также и политес восстановлена была в великом шляхетстве и других придворных с манеру польского – ив экипажах, и в домовном строении, и в уборах, и в столах.
И торжествовала тогда доволыюсть народная, так что всякой легко мог видеть, когда праздничной день в лете, то все места кругом Москвы за городом, сходные к забавам, как Марьины рощи, Девичье поле и протчие, наполнены были народом, которые в великих забавах и играх бывали, из чего можно было видеть довольность жития их».
Князь Борис Иванович Куракин. «Гистория…»
Пес смердящий!
– Рухло!
– Блядин сын!
Князь Василий Васильевич Голицын, имевший меж своих и чужестранцев прозвание «великого», глава Посольского и иных приказов, Царственные большие печати ОБЕРЕГАТЕЛЬ, нежданно сделался неузнаваем. Глаза выкачены, лик побагровел, изо рта вырывались несвязные хриплые звуки вперемешку с ругательствами. Размахнувшись, он влепил мажордому пощечину. Не удовольствовавшись ею, он ухватил его за волосы и с силой дернул к себе. В руке остался черный липкий ком – клок.
Столь же неожиданно он умолк и, видно устыдившись своей вспышки, бросил:
– Пшел!
И оборотившись к гостю, продолжавшему невозмутима сидеть за столом, пробормотал:
– Прошу меня извинить.
Граф де Невиль понимающе наклонил голову. Метаморфоза была неожиданной. Изысканная беседа на чистейшей латыни, только что звучавшая под этими сводами, учтивость князя, утонченные манеры, могущие по крайней мере принять его за придворного Людовика XIV, короля-Солнце, все это мгновенно рухнуло. Пред ним был сановитый русский боярин, однако же в камзоле версальского покроя и золотыми застежками, в пудреном парике.
Диковатых московитских бояр граф де Невиль успел насмотреться. Они были бородаты, тучны, угрюмы и не знали языков, кроме говяжьих и свиных.
Князь же Голицын был в полном смысле слова европейцем. Он брил бороду, носил короткие волосы и подстриженные усы, владел многими языками. И палаты его…
О, палаты князя ничем не уступали палатам парижских вельмож, а во многом даже превосходили их. Они были обставлены ничуть не хуже, чем, скажем, у его дальних родственников графов д’Артуа, а превосходили их множеством живописных полотен, но прежде всего книгами, да, книгами. Ну и различными приборами – барометрами, термометрами, астролябией… Ничего подобного в поместье графов не водилось. Да и у его сиятельных парижских знакомцев тоже.
Князь подавлял графа своею образованностью и осведомленностью. По правде говоря, когда граф отправлялся со своей дипломатической миссией в Московию, он никак не ожидал найти здесь столь образованного и учтивого собеседника. Он был просто к этому не готов.
И вдруг – таковой инцидент по совершенно, казалось бы, пустяшному поводу: мажордом, собственноручно поднося блюдо с дичиной, оскользнулся, и несколько капель соуса пролилось на скатерть.
Князь, впрочем, тотчас же обрел прежнюю невозмутимость, и речь его полилась столь же плавно, как и до приступа гнева.
– Итак, граф, в Париже не ждут особых перемен, – продолжал он. – А жаль, жаль. Нам бы здесь хотелось, чтобы ваш великолепный повелитель, ваш король, подвинулся в своей политике ближе к нам. Он же более радеет о своих связях с турками; султан, впрочем, едва ли когда-нибудь заговорит по-французски. Не станем питать иллюзий…
Латынь князя была безукоризненна, отметил про себя граф. О, Господи, где его могли столь основательно вышколить? Неужто здесь, в Москве? Нет, это немыслимо. Откуда взяться здесь столь ученым латинистам. Нет, нет, должно быть, князь ребенком выучился языку где-нибудь в Риме, либо в другой европейской столице. Надо бы спросить его… Но склонен ли он к откровенности? Эти русские бояре, как граф успел убедиться, все закрыты, непроницаемы, запеленаты в свои тяжелые золоченые кафтаны, сальные и неуклюжие, как они сами.
Странно, но граф неожиданно почувствовал нечто вроде неловкости. Словно невзначай заглянул в чужой альков. Впрочем, такое случалось с ним здесь, в этой Московии, не впервой. Контрасты, контрасты, контрасты… Все здесь было непостижимо для его глаза, уха и обоняния, для всех чувств.
Все здесь было полно непостижимых контрастов. Столица Московии, этого необъятного государства, простиравшегося от океана до океана, была деревянной и чуть ли не ежегодно вся выгорала. Вместе с тем Кремль с его палатами сделал бы честь любой из европейских столиц.
Или храм Покрова, что на рву. Московиты зовут его Василием Блаженным. Ничего подобного графу не приходилось видеть. Фантазия его строителей превосходила самое изощренное воображение. Это многоцветье куполов и куполков, простиравших к небу золоченые кресты, поначалу показалось ему хаотичным.
Он обошел его со всех сторон, брезгливо минуя ямы, полные нечистот и смердевшей падали, равно и нищих, тянувших к нему руки в струпьях, черные от въевшейся грязи.
Зрение не насыщалось. Чем дольше всматривался граф в это удивительное варварское творение, тем явственней открывалась ему его гармония, его певучесть. Да, в этом храме была не только диковинная красочность, но и звучность.
Он сказал об этом князю Василию, не скрывая своего удивления и восхищения.
– Мы можем удивить мир, граф, и когда-нибудь мы его удивим, – отвечал князь с оттенком гордости. – Можем многое. Не можем лишь одного – поладить меж собой. Отчего-то это не удается.
– Природа человека несовершенна, – философски заметил граф. – Подобное творится везде, где мне приходилось бывать. Всюду зависть, распри, подсиживание. Я вижу в этом вину церкви…
– И я. Церковь, обязанная насаждать гармонию меж людей, обращать их помыслы к Богу и государю, сама погрязла в раздорах. Вы, должно быть, слышали о нашем расколе?
Граф кивнул:
– Разумеется, в общих чертах. Однако я так и не постиг его сути. У нас толковали, что все дело в ссоре вашего даря с патриархом. Будто они не поладили меж собой по какому-то пустяшному поводу. А когда ссорятся правящие особы, возникает и противостояние между подданными.
Князь хмыкнул.
– Пожалуй, в какой-то степени это и верно. Но началось с поводов, которые вам в Европе могут показаться, по меньшей мере, странными, даже ничтожными. Это как небольшая трещина в каменной стене. Если ее вовремя не заделать, она постепенно расширяется, углубляется, расползается, ветвится. И вот стена рушится. А ведь все началось-то с малого. Но малому обычно не придается значения. В характере нашего народа полагаться на авось.
– На авось? Но что такое авось?
Князь рассмеялся.
– В самом деле, иноземцу не постигнуть. Да и я затруднюсь… Фатум, рок, судьба, – и он почему-то развел руками.
– Но и мы у себя верим в предопределение, во вмешательство фатума и неких высших сил в людские дела. Однако же у нас мирская и церковная власти стараются жить в полном согласии. Король не дает кардиналу слишком зарываться. Все в меру. Как говорится: Богу – богово, а Кесарю – кесарево.
– Не темните, граф. И у вас был свой раскол. А Лютер, а Кальвин?!
– Гм… – граф замялся. Этот русский вельможа знает о наших делах ровно столько же, сколь и мы. Если он столь наслышан о делах церковных, то и о светских наверняка еще лучше. Граф надеялся, что можно будет что-либо выгадать в сношениях с Москвой, что эти бояре все просты, как и все русские. Но, видно, это вовсе не так, хотя его уверяли в обратном.
Он, де Невиль, поселился в Немецкой слободе, среди иноземцев, с которыми находил общий язык. Русские называли эту слободу на свой манер – Кукуй или Кокуи. Странное словечко. Никто меж немцев, голландцев и иных насельников слободы не мог объяснить ему значение этого слова.
– Не скажете ли вы, князь, что обозначает слово Кукуй? – Он решил переменить тему, дабы ненароком не оскользнуться. Кроме того, он был любознателен по природе и даже несколько авантюрен. Предвидел, что составит записки о своей поездке по Москве и Московии, подобно всем остальным, побывавшим в этой огромной и загадочной державе. Таковые записки всегда находили издателей.
Графу только что исполнилось тридцать два года. Он находился в самой что ни на есть открывательской поре и потому пускался во все тяжкие, невзирая на трудности и опасности пути.
Он не открыл князю Василию, что служил двум государям, двум королям – Франции и Польши. Для князя он был француз. А на самом деле…
Да, на его способности полагались и в Версале. Он был из знатного рода. Ветви его простирались даже за Ла-Манш, в Англию. Там его предки занимали видные места при дворе королевы Елизаветы и были в родстве с герцогом Нортамберлендским.
Но сейчас он представлял особу польского короля Яна Собеского – короля-воина. Русь и Польша находились в давнем противостоянии. Его следовало преодолеть…
– Кукуй? – переспросил князь с легким смешком. – Кокуй, Кукуй, – принялся он перекатывать занятное словечко с губ на язык и обратно. – А леший его знает, я как-то не задумывался. Скорей всего, это некое звукоподражание: так простолюдины дразнят всякого иноземца. Как-де не толкуй, а все равно кукуй.
Явился мажордом. Он был красен, глаза потуплены. Прерывистым голосом спросил:
– Подавать ли перемену?
– Подавай, подавай. Эк я тебя, Тришка. Ты уж прости – во гневе был, сорвался.
– Бог простит, государь мой, – ответил он, не подымая глаз.
– Больно грозен король ваш, – промолвил князь, обращаясь к де Невилю. – Соседи дрожмя дрожат. И откуда он деньги берет? Войны денег уйму пожирают… А у него, сказывают, пышный двор.
– Всевышний послал ему изворотливого министра финансов, господина де Кольбера. Собственно, не Всевышний, а покойный кардинал Мазарини, имением которого он управлял. Из купеческого сословия, а ныне маркиз. Он и вытянул короля из долгового болота; поначалу ввел новые порядки, сократил чиновническую рать, чуть ли не вдвое, поприжал двор в расходах. Но аппетиты короля росли, и пришлось ввести новые налоги, взамен упраздненных было, откупа и иные тягости. Города стали процветать, а крестьянство разорено.
– Нос вытащили, ан хвост увяз, – заметил князь.
– Вот именно. Однако король не пожелал ни в чем себя ограничить, и Кольбер ныне в опале. И все женщины – его величество женолюбив.
– Скажите… А кто нынче? – поинтересовался князь.
– Госпожу де Монтеспан сменила воспитательница ее детей от короля маркиза де Ментенон.
– А что, она хороша?
– Нет, и не хороша, и не молода, зато сметлива.
– Да, женщины, женщины, – со вздохом проговорил князь. – Они способны перевернуть не только нашу жизнь, но и все государство.
Мысль его поневоле оборотилась на себя самого. И в его жизнь властно вторглась женщина. Тоже не молода и не хороша собой. И тоже ухватившая кормило государства…
– Вот госпожа де Ментенон и предостерегла короля от разрыва с султаном. Это-де не только опасно, но и невыгодно: торговля-де упадет. И Кольбер ее поддержал. Вот почему Франция не может примкнуть к вам, – закончил граф.
– Что ж, своя рубашка ближе к телу, – качнул головой князь Василий. – Но ведь духовная рознь остается. А ислам – религия воинственная, наступательная. Этот мир до поры. Европа от турок много потерпела, потерпит и впредь.
– Я с вами совершенно согласен, князь. Увы, не в моих силах переменить политику его величества. К тому ж у него свои советники, я к ним не принадлежу. Он желает одерживать победы у себя под боком. И его военачальники Вобан, Тюренн и другие такого же мнения. Они создали первоклассную армию, первую в Европе.
– Да, это мне известно. И я хотел бы реформировать войско. Наше – никуда не годится, – князь помрачнел. – И если глядеть в корень, все это от необразованности народной массы.
– Наша церковь приохочивает крестьянских детишек к грамоте. Кюре каждого прихода он же и учитель. Вот бы и вашим священникам взять пример, – сказал граф.
– Наши попы ленивы, грамоте плохо разумеют и хлещут водку по-черному. Не жалуют они пасомых – что белые, что черные.
– Белые, черные – поясните.
– Черные – монашествующие, в черных одеяниях и принявшие обет безбрачия, отошедшие от мира. А белые – они и есть попы, живут в миру и наставляют мирян. Обитают при церквах, весьма плодовиты – иная попадья рожает до полутора-двух десятков поповичей и поповен. Таково сословие это умножается и переводу ему нет.
– Наши кюре вашим попам сильно уступают. И они, и сколько я знаю, польские ксендзы обязаны придерживаться целибата, то есть обета безбрачия. На том стоит римско-католическая церковь. Другое дело в жизни. Наши кюре грешат вовсю: плоть своего требует. Но церковные иерархи смотрят на это сквозь пальцы. Епископы и даже кардиналы, сколько я знаю, предаются сладкому греху без стеснения, заводят себе наложниц. Времена папы Григория VII, главного воителя за целибат, прошли. Надо полагать, что сам он был настолько дряхл, что забыл, зачем существует детородный орган.
– Пожалуй, – согласился князь. – Женщины, что бы церковь на сей счет ни говорила, все-таки источник великого наслаждения. Можно ль отказаться от него?
– Вы, князь, в той поре, когда женщина составляет смысл жизни. Да и я, признаться, тоже.
– Вот-вот, – казалось, князь даже обрадовался такому единомыслию. – А я и не собираюсь таиться, вовсе нет. И мой духовный пастырь охотней всего отпускает этот грех – грех прелюбодеяния.
– Неужели вы обязаны откровенничать?
– А как же. У нас существует исповедь – одно из церковных таинств. Но, по правде говоря, я не настолько ограничен, чтобы слепо придерживаться обрядности. Меня называют вольнодумцем, и я от этого звания не отрекаюсь.
– Мои собеседники в слободе, – осторожно начал граф, – говорили, что у вас роман с особой из царской семьи. Впрочем, не называя имени.
– Ох уж эти языки – мелют и мелют, ничего нельзя скрыть. Впрочем, не отопрусь – слух верен, – с известной долей самодовольства продолжал князь, – я приобщил ее к великим радостям плоти, и она безмерно благодарна мне, и то сказать: царские дочери заточены в своем дворце, точно как монахини в монастыре. Они ведут постную, смиренную жизнь, полную запретов. Я же свободолюбец, и потому не ограничиваю себя никакими обетами. Не отказываюсь, к примеру, и от других женщин.
– Одобряю. И ободряю! – обрадовался граф. – Однако ваша супруга… Как относится она к вашим шалостям?
– Супруга? О, наши жены, граф, не мешаются в мужские дела. У нас домострой, то есть жена обязана во всем подчиняться желаниям мужа и не перечить ему. Вот мы с вами беседуем за столом, а супруга моя смиренно сидит на своей половине и только с моего дозволения может явиться сюда. Если мне вздумается ее представить.
– Не полагаете ли вы, что этот ваш обычай слишком суров?
– Отнюдь нет. У нас свои права, у женщин – свои. Женщина должна знать свое место.
– А еще вольнодумец. Нет, наши женщины отвоевали себе почти все права, прежде принадлежавшие сильному полу. Они вовсе не склонны к рабской покорности. Но уж если вы, князь, столь откровенны со мной, то позвольте задать вам один нескромный вопрос.
– Сделайте милость.
– Могли бы вы сочетаться браком с вашей принцессой, если бы возникла такая возможность?
Князь вздохнул. То был вовсе не вздох сожаления, а вздох бессилия. Обычай не позволял царским дочерям вступать в брак с единоплеменником, будь он даже знатного рода. Слишком много препон лежало на этом пути. Одна из главных – расторжение брака. Церковь восставала. Был, впрочем, верный путь – заточение постылой жены в монастырь. Но и он был нелегок, не прост.
Его царевна жаждала союза с ним. Она вырвалась из своего терема, из затвора. Более того – завладела властью против всех обычаев. Уж так сложилось, что власть как бы сама пала в ее руки. То был прихотливый случай, и она им умело воспользовалась не без его, князя, совета. Ну а далее что, что далее?
Царевна, царская дочь, обязана была искать руки заморского принца. Разумеется, не сама – царь и его ближние бояре. Но где они, эти заморские принцы? Ни единый на Москву не казался. Однажды датский царевич задумал было взять себе в жены русскую царевну. Но патриарх и бояре приговорили: коли переменит веру да примет православие, тогда можно. А в Дании рассудили, что таковой ход против достоинства. И помолвка расстроилась.
И князь Василий старался не вглядываться в будущее. Оно было покамест темно и неопределенно, хоть он и почитал себя прозорливцем. Слишком тяжки были вериги, отягчавшие жизнь Руси, светскую и духовную. Каждый, будь то простой посадский мужик и высокородный боярин, ощущал на себе их тяжесть. Правда, он, князь, будучи у кормила власти, изо всех сил старался облегчить ношу. Но сил его недоставало. Слишком велико было сопротивление всему новому, слишком непреодолима была косность.
Он был фантазер. Книги насыщали его мудростью, а природный ум жадно впитывал все знания. Он, князь, хотел добра. А добро не могло воцариться в мире, где господствовало зло, где было более всего неправды и несправедливости. Его проекты отвергались: власть была нерешительна и робка.
Власть по-прежнему надеялась на Бога и Божественный промысел. А князь давно оставил таковую надежду. Всесилен Бог, да сам не будь плох! Князь перестал обращаться за помощью к Всевышнему и его святым. Бесполезно…
Неожиданно, словно чертики, откуда-то выскочили два потешных арапчика и принялись приплясывать, корча рожицы. Граф нервно хохотнул, более от неожиданности, нежели от потехи. Князь глядел холодно, привычно. Потом выдохнул:
– Пшли!
И арапчики исчезли, словно растворились. Навел, видно, граф его на некие тягостные раздумья. Куда повернет колесо Фортуны? Что ждет его, князя? А его царевну? Есть ли у них какая-либо будущность?
Проклятые эти вопросы то и дело выскакивали откуда-то из глубин, будоража сердце. Как уверенно он себя чувствовал при царе Федоре. Царь верил в него, в его прозорливость, не раз повторял, что ум князя есть ум государственный. Их связывали узы дружества, несмотря на разность положения.
Федор почил двадцати лет от роду. С той поры князь не чувствовал под собою прочной опоры, несмотря ни на что. Хоть и царевна, и бояре из тех, что поразумней, и подначальные в приказах ему в рот смотрят: ждут, как посоветует, как повелит.
Да, власть его и авторитет велики. Но что толку, когда он все более и более ощущает некое сопротивление, ненадежность своего положения. Это таится где-то в глуби, но время от времени выныривает на поверхность. И тогда ему становится как-то не по себе.
Отчего это? Оттого ли, что стал провидеть в отроке Петре – царственном отроке – давящую силу. Силу, которая со временем все и всех подомнет под себя. Петр по-гречески – скала, камень. Из него этот камень выпирает. Он стоит на своем, как скала.
«Петр прет, прет Петр, – нередко повторял князь про себя. – Экая скороговорка! Занятно. И не просто прет, а со смыслом. Великий смысл мало-помалу обнаруживается в нем. Экий вымахал! И не царевич в нем видится, а уж царь. Притом такой, какой сметет с дороги все, что станет помехой на его пути».
Прихотливою волей судьбы князь оказался не в его стане. Петр был из Нарышкиных, князь же Василий оказался с Милославскими. Милославские – правящая фамилия. Царь Федор был из Милославских. Его царевна тоже Милославская. Но уж фамилия эта постепенно умаляется, ее значение слабнет. Те из бояр, кто заседает в Думе, кто позорче и прозорливей, уже примкнули к Нарышкиным, чуя в них будущую силу. В стане Нарышкиных оказались и Голицыны, князья, братья и родственники. Он же, князь Василий, сего не мог. Он был слишком тесно связан со своей царевной. Обольщался ли? Не без этого, несмотря на трезвый ум.
Смута все еще оседала на дно души, и он глядел на графа замутненными очами. Потом, очнувшись, потянулся к серебряному кувшинчику с фряжским, налил в позлащенные стопки. Воздел и молвил:
– Прошу, граф, за наше дружество, за союз наших государей.
Выпили. За дружество как не выпить! Союз государей еще сумнителен, а дружба человеков неизменна.
Российские послы воротились из Парижа в помрачении. Королевский министр встретил их неласково, а прежде прислал доверенного чиновника с вопросом: не намерены ли они быть противны высокой воле его королевского величества? Помилуй Бог, отвечали послы князья Яков Долгоруков и Яков же Мышецкий, мы-де с любительной целью явились, оба наши повелителя, а пуще всего правительница государыня царевна, хотят крепкой дружбы с великим королем Людовиком XIV да и со всем его королевством, со всеми его правящими особами. И присланы они трактовать о нерушимом союзе и о прочем, что связывает оба обширных государства.
Однако же в противность добрым намерениям послов король велел передать им, что в переговорах нет никакой нужды и что он отпускает их восвояси, а вдогон правящим на Руси государям пошлет грамоту.
Послы оскорбились. Отвечали, что с таковым невежеством не могут смириться, что сие есть бесчестье, что они должны, как принято это меж государями повсеместно, получить ответную грамоту из собственных рук его королевского величества, получив доверенную аудиенцию.
Словом, разгорелся сыр-бор. Послы отказались напрочь принять грамоту из иных рук, король же повелел вручить ее силою. Послы все ж стояли на своем.
Король решил умаслить их, велев вручить им подарки. Послы их отвергли. Обер-церемониймейстер велел насильно покласть их в возы и выпроводить послов через Дюнкерк. Все едино они уперлись, не страшась королевского гнева, коим грозил им церемониймейстер.
– То будет гнев без вины, вовсе не достойный его славного королевского величества, – отвечали послы. – А мы чиним волю пославших нас государей.
И что же? Велено было послам явиться в королевское гнездо, именуемое Версаль, сим королем недавно утроенное: там-де будет окончательный трактамевт. Принял их министр и объявил окончательную королевскую волю:
– Его христианнейшее величество мой повелитель повелел объявить послам свою окончательную и нерушимую волю: он не приступит к союзу христианских государств, о коем хлопочут московиты и их первый министр князь Голицын, потому что у него с цесарем римским давняя дружба, а с султаном турецким всегдашний мир и дружество. Подданные его королевского величества имеют великие торговые промыслы с Оттоманской Портой, и если с турком будет совершен разрыв, то Францию ждет беспеременное разорение. Заодно с королем Швеция и Бранденбург, так что он не одинок в своих симпатиях к туркам.
Обо всем этом князю было известно: это он пытался сколотить союз европейских государств портив Порты. Оказалось, и королю Людовику о сем было известно. Об афронте российских послов было известно и де Невилю, но он о том не проговорился: не хотел бередить свежую и наверняка еще кровоточившую рану. Князь же гнул свое:
– Турок неистов, он не уймется. Придет и черед Франции. Ведь стоит же он сейчас под стенами Вены, как стоял подо Львовом в 1675 году… Видя несогласие и даже раздоры меж христианских монархов, он воодушевится и решит искать новые завоевания. Эвон как распространился ислам на Восток. Никто его удержать не смог. Разве что китайские богдыханы.
– Я с вами всецело согласен, князь. Однако я огорчен упорством короля французов. Увы, он не желает делиться волею ни с кем, и никто ему не указ. И державным своим упрямством идет наперекор вашим государям, да и вам.
– Рад, граф, нашему с вами единомыслию. Давайте опрокинем чарки за его нерушимость.
Тост был принят. И они осушили чарки.
– Я склонен предложить вам тесный союз с королем Польши его величеством Яном Собеским. Несмотря на то что он весьма привержен дружбе с королем Людовиком, зародившейся много лет назад, ибо он всею своею силою и авторитетом способствовал воцарению Собеского на польском престоле, король Ян истинный ненавистник турок.
– То мне известно. И я охотно приму ваше предложение. Но как отнесутся к нему наши государи, особенно бояре в Думе. Ведь с Польшею у нас давние распри…
В эту минуту в пиршественную залу снова вскочили два черномазых чертика и принялись кувыркаться и гримасничать. На этот раз сиятельный хозяин отнесся к ним более благосклонно. Видно, предложение графа нуждалось в серьезных размышлениях, и требовалась некая пауза в разговоре.
– Где вы приобрели этих забавных арапчат? – поспешно спросил граф. Видно, и он нуждался в разрядке перед важным приступом.
– Их купил мой приказный в Венеции, на тамошнем невольничьем рынке, тому уж два года. Я выучил их нашему языку, чтению и письму. Они оказались очень смышлены. Даже более, нежели ребятишки нашей дворни, с коими я тоже занимался ученьем.
– Во сколько же они встали?
– В три десятка цехинов каждый.
– У нас, признаться, они стоят дороже.
– Верно, спрос велик. Наши же бояре держат у себя калмычат да татарчат. Эти подешевле, а иной раз и просто даром достаются. Воеводы в презент присылают, – отвечал князь. – У нас вообще человек дешев, даже мастеровитый. Торговля крепостными людьми процвела, хоть я сему противился. Наступил на мозоль царству. Искони такое непотребство здесь ведется.
– А вы, князь? – осторожно вопросил граф. – Своих, надеюсь, не продаете.
– Нет, своих не доводилось. Однако прикупал нужных людишек – было дело, – гримаса на лице его означала, что разговор ему неприятен. – Увы, рабству нашему не видно конца, хотя подневольный труд неприбылен. Я как-то произвел выкладки да представил их государю Федору Алексеевичу. Выходило, что труд вольных хлебопашцев обогатит государственную казну, да и помещики не останутся внакладе. Он аж глаза выкатил. «В своем ли ты уме, – говорит. – Бояре да дворяне нас с тобою в порошок сотрут за таковые-мысли. А уж если их на письме представить, то кровавый бунт разразится». – «Это меж нами, государь», – успокоил я его. А он все едино переполошился. «Ты, – говорит, – замкни уста и ни с кем о том не трактуй. Дойдет до бояр, кои в Думе сидят, они тебя живьем сожрут». Таково и с королем Яном. Государи молоды, государыня робка да нерешительна, каково бояре приговорят, так тому и быть. А как уж я говорил, Польша – наш давний недруг.








