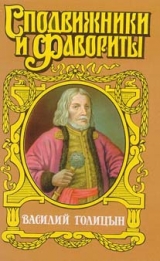
Текст книги "Василий Голицын. Игра судьбы"
Автор книги: Руфин Гордин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
– И что? – вскинулась Софья. – И то благо. Соглашайся, Васенька. Ты для них человек бесценный. Там себя найдешь…
– Бог с тобою, Софьюшка. Можно ли мне, Голицыну, Гедиминовичу, с моею-то родословной бежать аки зайцу из родных пределов, где предки наши стойко за святую Русь держались? Вот уж будет срам так срам, пятно ляжет на всех Голицыных. Нет уж, лучше я потерплю.
– Ну и напрасно, – упавшим голосом произнесла царевна. – Я так на твоем бы месте согласилася. Да меня никто не зовет, кому я нужна.
– Э, не говори. Ежели хорошенько поискать, найдутся и на тебя охотники.
Софья обреченно махнула рукой и вышла. Обер-гофмейстер предупредительно распахнул перед нею дверь. Теперь она разъезжала в захудалой каретенке с продранным верхом со свитою не более как в два десятка человек. Казалось, всем этим своим убогим выездом она хотела сказать: вот до чего довели Нарышкины правительницу государства, благоверную царевну.
Но и посадские, и стрельцы, и торговые люди глядели равнодушно, разве что по привычке сдирали шапки да кланялись. Притом не так низко и подобострастно, как прежде. Экипаж был захудалый, да и запряжка цугом из четырех всего-то лошадей была ему под стать. Лошади были, видно, из стоялых, разномастные, отъевшиеся. Отвыкли, надо думать, в упряжи ходить.
Князь Василий проводил ее взглядом, стоя на крыльце. И тож приказал подавать. Он не собирался прибедняться. И выезд у него был роскошный, парадный, с гайдуками на запятках, лошади все в масть, вороные, карета вызолочена.
Утром прошел дождь, и московские улицы сделались непроходимы: бревенчатые мостовые затопила жидкая грязь. Князь Василий любил пешие прогулки, любил И верховую езду. Но Москва для всего этого была малопригодна. Для сего езживал он в одну из своих многочисленных подмосковных усадеб, хоть в то же Голицыно. Там он давал волю своим увлечениям – пешеходству и охоте с гончаками. Свора у него была большая – в полторы сотни. Не всех доезжачие да выжлятники выводили, но вот была забава, когда псы поднимали лису либо зайца. Князь Василий скакал на своем аргамаке за ожесточенно лающей сворой. Гон обычно заканчивался трофеем, однако ежели доезжачие не поспевали, собаки в ожесточении разрывали свою жертву в куски. Приходилось арапником раздирать воющий, лающий, обезумевший клубок.
Но уж давно забавы эти были оставлены. Не до них было. Князь Василий всем своим естеством, всею кожей ощущал, как сгущается воздух, как над головою начинают наползать тучи. Ждал, вот-вот грянет гром, разразится гроза. Но пока Бог миловал.
Сейчас он ехал к братцу Борису: донесли ему, что прибыл он из своего монастырского плена. Путь был недальний – всего полверсты, на Волхонку. Там у князя Бориса были родовые палаты.
Когда князь Василий вошел, у братца стоял дым коромыслом. За длинным столом бражничало четверо. У всех изо ртов торчали глиняные трубки – заразу эту насадили голландцы. Дух стоял тяжелый, и князь Василий поморщился.
– Ага, брат Васенька пожаловал! – воскликнул князь Борис. – Садись, садись, друг любезный. А я, вишь, от мин херца Питера сбежал. Все потехи марсовы, все рать на рать, – надоело, мочи нет.
Похоже, не один штоф опрокинул в себя брат.
– Ты погляди, какова у меня тройка: Машка, Агашка да Грушка-душка. А ну девки, покажите братцу, каковы вы есть в пляске.
Только тут князь Василий заметил за дымной завесой, окутывавшей трапезную, тройку полуголых девиц. Срам был прикрыт неким подобием юбчонки, а на грудях болтались бубенцы и колокольцы.
Девки выкатились на середину зала и пустились в пляс. Бубенцы и колокольцы мелодично позванивали. Это была и в самом деле тройка: князь Василий заметил, что их связывает нечто вроде сбруи с тележкою позади.
Князь Борис неожиданно плюхнулся на тележку и гикнул:
– Эй вы, удалые, покатайте своего повелителя! Ха-ха-ха! Они меня и в баньке возят. Токмо каждая в отдельности. Оченно забористые девки. Ха-ха-ха! Хошь, они и тебя прокатят, брат Вася. Они все покладистые, а чуть что – на конюшню!
– У меня свои не хуже, – сказал князь Василий. – Впрочем, вот эта и в самом деле хороша.
– Вестимо. Это Грушенька, моя душенька. Я там, у Троицы, вел жизнь великопостную, ну и изнемог. Говорю Питеру – пусти дядю душу отвести. Ха-ха-ха! Она меня жалует, правда, Груша? Обними-ка меня, Грушенька.
– Бубенцы мешают, князь. Дозволь снять.
– В-ве-ликодушно дозволяю.
Груша вскочила к князю на колени, обняла его голыми руками и прильнула к нему губами.
– Хор-рошо! – выдохнул князь. – Дай-ка сосочек, эвон какой он у тебя полный да упругий! Ох, Грушка, распалила ты меня. Погоди же, потащу тебя в опочивальню. А ты князь, мой братец, отчего не пьешь? Агаша, налей-ка брату моему ученому ендовку.
Сумрачен бы князь Василий, когда вошел в трапезную, а тут поневоле отмяк. После первой ендовы с медовухой последовала вторая. Потом пили фряжское, потом рейнское…
У брата Бориса был чуть ли не первый погреб на Москве. И вскоре князь Василий забыл, зачем ехал. Ежели бы не этот въедливый табачный дым, он бы не так охмелел. А тут еще и девица Машка уселась к нему на колени и совершенно бесцеремонно запустила руку куда не следовало.
– Ай, господин, просится, хочет. А чего – не знаю. – И она расхохоталась деланным смехом.
– Зато я знаю, – заплетающимся голосом проговорил князь Василий и потянул Машку в соседнюю горницу с полатями. Но он был так распален, что мгновенно извергнулся.
– Эх, весь запал впустую пропал, – с сожалением протянула Машка. – Поторопился ты, господин мой. Теперя тебя не воскресишь. Отпел ты свой молебен.
– Н-не… Вос… – пробормотал он и мгновенно уснул.
Сон его был краток. Проснувшись, князь долго не мог прийти в себя. Где он? Что с ним было? Уж не дьявольским ли наваждением перенесен сюда из своих покоев? Князь Василий полежал не двигаясь еще некоторое время, и тогда все всплыло в памяти. Да ведь он у братца, князя Бориса, и ехал сюда по делу! О, Господи, грех-то какой!
Князь Василий сполз с полатей, и, чувствуя во всем теле изломанность, а во рту отвратительную залежалость, на неверных ногах поплелся в трапезную. Картина, открывшаяся его взору, удручала: все лежали вповалку. Князь Борис лежал в углу в обнимку со своей Грушкою, рот у него был разверст, язык вывален, исторгая не то храп, не то бульканье.
Князь Василий припал к кувшину. Оказалась в нем не брага, а квас. Он пил и пил, не в силах утолить жажду. Поняв, что дела не сладить, он вышел во двор. Выездные его дремали – кто на козлах, кто прямо под пролеткою, а оба гайдука играли в кости.
«Экий конфуз, – думал он. – И как это меня угораздило! Впрочем, а что я мог? Да и можно ли было толковать с Борисом всерьез».
И снова сомнение охватило его. А стоит ли с братцем затевать этот разговор – значимая ли он величина в глазах молодого царя? Брат Иван, тот несколько серьезней, но зато менее прилежит к царскому двору…
Так ничего и не решив, приказал везти себя домой. Все как-то опостылело. Бросить хлопоты и ждать, когда все само решится? Быть может, так надобно и поступить. Царь Петрушка неуправляем, вряд ли кто-нибудь из бояр имеет на него влияние… «А что, если? – мелькнула у него мысль. – Что, если напустить на него иноземцев? Пусть они, кто-нибудь из его, князя Василия, доброжелателей поговорят с молодым царем о том, каков он есть, о его доблестях, о его познаниях, об уме и многоязычности, о взглядах, не уступающих взглядам французских, голландских и иных мыслителей и политиков… Да, пожалуй. Пожалуй, это верней…»
Беспокойная мысль князя Василия металась из угла в угол. Вариантов было не так много, и все он перебрал. Ни один не казался ему вполне надежным. Но когда над твоей головой занесен меч, поневоле будешь хвататься хоть за соломинку.
А советчиков ему не надобно. Он сам себе главный советчик. И в отличие от царевны Софьи, не знающей, за что ухватиться, и окружившей себя множеством людей с советами – от знахарок и травниц до юродивых и шелудивых колдунов. Всем она внимает, все советы принимает, все исполняет, благочестива и богомольна сама, бьет поклоны, как ее брат царь Иван – Иоанн Пятый.
Князь Василий не был ни суеверен, ни богомолен. Обряды старался блюсти, дабы не косились. Моленной в доме не держал, а хаживал в ближнюю церковь Параскевы Пятницы. Не Бог весть какова святая, а храм во имя ее поставили. Любовался иконами старого благолепного письма, хотя и Симона Ушакова почитал за большой талант. Тем более что в его иконописи уже чувствовались влияния прославленных живописцев Италии и Голландии.
Худо было у него на душе, смутно. Сидя в кресле, вслушивался он в мелодичный звон напольных часов французской работы. Они неумолимо отсчитывали время. Его уходящее время.
Глава пятнадцатая
Тяжек царский венец
Царю застят, народ напастят.
Царь гладит, а бояре скребут.
Не держи двора близ княжьих хором.
Бог помилует, так и царь пожалует.
Народные присловья
Свидетели
А как на великих государей одежду и диодиму и шапку и животворящий крест возложили и скифетры и державы в руки отдали и стали петь многолетие всем собором и потом на крылосех и стал светейший патриарх и все власти и бояре и околничие и дурные и ближние люди всяких чинов здравствовать и великим государем на их превысочайшем престоле.
А как венчали великих государей и на чертежном месте стояли бояре… А шапки несли, в которых великие государи пришли в Собор, и жезлы стольники, и ближняя люди: Алексей Матвеев сын Милославской, Иван Афанасьев сын Матюшкин.
А великих государей вели под руки:
Царя и великаго князя Иоанна Алексеевича дядки: боярин князь Петр Иванович Прозоровской, да околничей Борис Гаврилович Юшков.
Царя и великаго князя Петра Алексеевича дядки: боярин Родион Матвеевич, да столник и ближней человек Тихон Никитин сын Стрешнев.
А за великими государями были спалники все но списку.
А перед стрепнею шли: Царя и великого князя Иоанна Алексеевича столник и ближней человек Юрья Федорович сын Лодыже некой.
Царя и великого князя Петра Алексеевича столник Алексей Прокофьев сын Саковнин.
А обедню изволили слушать на своем царском месте после херувимской приходили великия государи к царским дверям и на них надевал светейший патриарх чепи по их царское чину… И Царские двери отворили и вышел светейший патриарх с властьми и снимали с них великих государей шапки и диодимы и помазывал святым миром на челе и на затылке и на ланитах и на сердце и опять на них надевали, и облача их, перепоясали лентяем…
Из «Книги запасной царства царей государей».
Главным гнездом Милославских стало Измайлово. Обитал там первый из Милославских, благоверный царь и великий князь великий государь Иоанн V Алексеевич. На Москве, в соборах Кремлевских да дворцах, появлялся он лишь тогда, когда призывался к царской службе. Однако, зная его нелюбовь ко всякого рода беспокойству, младший брат царь Петр Алексеевич, жалеючи недужного, призывал его все реже и реже. Младший взял верх над старшим. Иван, будучи нрава кроткого, не протестовал.
Он тихо сидел в своем Измайлове, где царица Прасковья взяла над ним полный присмотр, и большую часть времени проводил пред иконами чтимых святых, переходя из моленной в церковь. Дабы царь ненароком не споткнулся, не оступился, не шатнулся, его вели под руки два стольника. Еще четыре стольника да спальника были на подхвате.
Придворный штат в Измайлове был велик. Царя и царицу обхаживали пятьсот челядинцев разных званий от гофмаршала до служки: стольники, спальники, оружейники, сокольники, кравчие, постельники, конюшие, ключницы, чашники.
Великое множество народу кормилось близ государевых персон, нужного и ненужного. Главное, чтобы все было по чину, дабы достоинство не умалилось. Толклись, сшибались, бранились в стороне от господ, наушничали друг на друга, переносили сплетни, подворовывали, разводили кляузы, завидовали… Было все, как у приживал, ведь царица-то Прасковья содержала внизу великое множество христарадников – странниц и странников, убогих и болезных, юродивых и кликуш. В подклетах помещались девочки-сироты, которых обучали рукоделью.
Особым почетом у царицы пользовался подьячий Тимофей Архипыч. Она почитала его святым человеком, наделенным даром предсказывать будущее. Тимофей Архипыч часто заговаривался и нес околесицу, что царица принимала за божественное откровение. Когда царице Прасковье надо было решить трудный вопрос, она призывала Тимофея Архипыча.
– А скажи на милость, святой человек, кто у меня во чреве? Молила Пресвятую Богородицу, чтобы даровала мне наследника, сына, царевича. Сбудется ли?
Тимофей Архипыч обычно отвечал загадками.
– Архангелы молят, власть их беспредельна, – начинал бормотать он. – Коли дадут знамение, значит, сбудется моление твое.
– А каково знамение-то, Архипыч?
– А должно воссиять на небе облако видом чрева, а из него барашечки, барашечки посыплются. В небо надобно почаще взглядывать, там ангелы Божьи обитают, оттоль нас благодать осеняет.
– А когда глядеть-то, Архипыч? По утрам или ввечеру, когда знамение-то воссияет?
– Знак должен быть особый, – бубнил Архипыч. – Голос ангельский возвестит, глас тот трубен будет.
Архипыч был главный оракул. Были и другие – поменее, для всякого случая, но тоже значимые.
И вообще, надо сказать, Измайлово представляло собой как бы государство в государстве. Тут все было свое: свой царь-государь с государыней царицей, свои деревнишки с крепостным народцем, свои луга и пашни, свой хлеб, молоко, масло, мясо и иной припас, свои пруды и речки. Наконец, сама эта дворцовая волость помещалась на острове, куда вел большой казенный мост со сторожевыми башнями.
Водилось тут и всякое услаждение высокородных обитателей. Например, зверинец, в коем можно было увидеть и леопардов, и оленей, и кабанов, и дикобразов, и многих иных обитателей лесов. А рядом находился птичий двор, где важно расхаживали павлины, в пруду плавали лебеди, гуси и другие водоплавающие. Был еще особый пруд с насаженной рыбой, которую царевны кормили по звону колокольца.
А сколь было садов! И виноградный, и просяной, и регулярный, где возделывались разнообразные фрукты и ягоды, опять же овощи. Насадили там и грецких орехов – еще при царе Алексее Михайловиче.
Еще недавно повелительницей всего этого царства – истинной, не формальной – почиталась царевна Софья. Ей здесь беспрекословно повиновались. Братец царь Иван именовал ее много мудрой и исполнял все ее повеления. Царица Прасковья попервости перед ней трепетала и не смела ей перечить. А потом вообще впала в рабство, когда по совету Софьи, пугавшей ее постриженьем, аки неплодную, завела себе галанта, как в дворцовой среде именовались любовники.
Галант ее и обрюхатил, и не раз, и не два – до самой кончины царя Ивана, коим уже нельзя было прикрыться.
Впрочем, с его кончиной милостей не убавилось, и Измайлово продолжало жить, как жило прежде: у великия государыни царицы Прасковьи Федоровны – как свидетельствует опись приказа Большого Дворца, – 24 стоялых, 56 потаённых, итого 80 лошадей; на корм им, стоялым в год, подъемным на 7 месяцев 880 чети овса, 200 копен мерных сена; на подстилку 732 воза соломы ржаной. В трех церквах служились службы со всею полагавшейся царской вотчине пышностью.
Сюда-то, в Измайлово, Милославское тож, созвала царевна Софья всех Милославских. Были тут сестры царевны, были родственники Алексей, Федор, Иван, Ларион, Сергей и другие. Не было, к великому сожалению Софьи, главного мыслителя, чья голова была на всякие хитрости щедра – князя Ивана Михайловича, – помер он. Вот бы кто придумал, как спасти царевну от царя Петра, вот бы кто измыслил яд и способ, как его поднесть. Сама царевна при жизни князя Ивана его побаивалась – до того он был тороват на всякие подлости.
До поры до времени был ее щитом и царь Иван. Но щит сей был дыряв и ненадежен. Царь Иван по немощи своей всего боялся и сторонился всяких распрей. Он старался не перечить и младшему брату своему – царю Петру. Но когда царь Петр ополчился на правительницу Софью, говоря, что время ее кончилось, он принужден был согласиться с ним. И даже с прозвищем, оскорбительным и бесцеремонным, как все, что он предпринимал – «зазорная особа».
– Как нас Нарышкины теснят, как нам, Милославским, быть, кто нас защитит? – с такою речью обратилась она к остальным. Где были ее прежние повелительные нотки, где была самоуверенность правительницы… Ничего этого не осталось. Перед Милославскими сидела на возвышении, плечом к плечу с креслом ее брата Ивана, обрюзглая, опустившаяся немолодая женщина с вислыми щеками и опухшими красными глазами, с седою прядью, появившейся после неудачной попытки паломничества к Троице.
Тяжкое молчание повисло в воздухе. Как быть? Они были у разбитого корыта. Царевна Софья и царь Иван – оба их оплота пали. Царь Иван был безвластен по уговору со своим младшим братом. Он решил добровольно отречься от престола и принять постриг – уйти от мирской жизни, которая была ему в тягость, не по силам.
Он то и дело пугал свою супругу, что уйдет в монастырь. Царица Прасковья, обливаясь слезами, просила его не сиротить их, ее с дочерьми. Как смиренно и истово ни просили они Господа и Пресвятую Богородицу о даровании сына, все было напрасно. Рождались одни дочери. Это была не только тягость, но и, по убеждению царя Ивана, немилость Всевышнего, которую он обязан загладить, приняв схиму. Он был убежден, что и его многочисленные немощи и болезни насланы на него свыше за грехи родительские. Какие это были грехи, он не знал. Все говорили, что батюшка его благоверный – царь и великий князь Алексей Михайлович – был государь милостивый и безгрешный. То же относилось к матушке царице – благоверной государыне Марии Ильиничне. И все его предки, все Романовы, отличались по слухам примерным житием.
Но вместе с тем и ему, и его покойным братьям Господь давал знак, дабы они ушли от мира и посвятили себя Богу. Они не вняли, и Бог прежде времени прибрал к себе. Такая же участь, думал он, ожидает и его, ежели он не внемлет зову. Но как он ни старался объяснить это царице, своей супруге, она не желала и слышать. Одно дело быть царицею, а другое – женой схимника. Да не женою, нет – вдовою. Бог знает кем. Дело доходило до истерик, и смирный царь Иван сдавался. Слезы Прасковьи пугали его.
– Ну не буду, не буду, не буду. Уймись, Парашенька: останусь я в царях, не сниму с себя венца.
Он изнемогал от споров с царицею. А тут еще добавился конфликт с сестрицею, царевной Софьей. И что они все напустились на него, богомольца, что они от него хотят. Он обделен Господом здравием, мужской силою, он всего-навсего смиренный богомолец, а все чего-то от него хотят, все чего-то требуют. Вот и сейчас сестрица, которую он и почитал, и побаивался, напустилась на него:
– И ты, братец, благоверный царь, повелитель православных, за здравие коего во всех церквах нашего государства возносят молитвы, и ты отступился от родной сестры, отдал нас, Милославских, на поругание Нарышкиным.
– Помилуй, сестрица, помилуй, – и он развел руками, – а что я могу? Брат Петруша правит, его Господь надоумил и к делу правления приспособил. Неможно мне противу него идти.
– Отчего это! Ты царь, старший царь!
– Какой я царь! Не умудрил меня Господь. Не царь я, молитвенник я, смиренник у Бога.
– Тебя венчали царским венцом пред боярами, пред всем земством – должен ты это понять! – напирала царевна. – И воля твоя, и слово твое должно быть твердым, царским. Ты в ответе пред всеми нами, пред Милославскими. Ты обязан нас всех заборонить!
– Не могу я, сестрица, – упавшим голосом отвечал Иван. Видно было, что он с трудом переносит попреки Софьи и возлагаемые на него обязанности и упования. – Хочу в монахи.
– Да как тебе не стыдно! – взъярилась Софья. – Мы тут все пропадаем, а царь в монахи норовит уйти! – И, сбавив тон, сменив его на просительный, стала умягчено просить: – Ну поднапружься, дорогой братец, повелитель наш. Скажи Петруше с твердостию: не согласен я. Род Милославских – род старинный, первенствующий, его никак неможно умалить. И про меня скажи: что ежели он против моего правления, то пусть меня почетно поминают как прежде в церквах, пусть мои заслуги громогласно признаны будут. Меж тем он намерен отправить меня в монастырь. Да я такого позора не снесу. И как он осмелился сестру свою назвать «зазорною особой»! Как ты, дорогой братец, это стерпел?
Господи, что они все хотят от него? Чего напустились? Да что он, хоть и царь, может? Нету у него ни сил, ни соображения идти противу кого-нибудь. Неужто они все не видят, каков он в миру? Да, сидел на царском месте. Головою качал, когда его спрашивали. А то и отговаривался: я-де как брат Петр. Спросите у брата Петра. А коли на бумаге, то я согласен. Я подпишу. И ставил, верней выводил, свое имя. Да притом там, где дьяк либо окольничий уставляли его руку с пером.
Избрали его царем по воле сестрицы Софьи. Самому такое и в голову не приходило. Голова худо мыслила. С той поры он все делал, что сестрица наказывала. А ей князь Василий Голицын – светоч мудрости и разумения. Когда призывали ко служению царскому да облачали в златотканые одежды и сажали рядом с братцем на тронное кресло, он и сидел, как статуй, и рта старался не раскрывать. А когда его спрашивали о чем-нибудь, он кивал головою, мол, верно, мол, согласен. Или напротив – нет, не согласен.
Царь Иван был малость тугоух. Он худо слышал, о чем говорили вдали от него. Либо толкач, переводивший речи заморских послов, либо дьяк, докладывавший о каком-нибудь деле. А уж видел совсем плохо. Проще сказать, почти совсем ничего: тяжелые опухшие веки с трудом приподымались и почти тотчас упадали. Иным казалось, что царь Иван либо спит, либо дремлет; он не спал, нет, он ловил доносившиеся до него невнятные звуки и время от времени покачивал головой. Он во всем полагался на брата Петрушу, который был смышлен и речист, равно и на ближних окольничих, которые в сложных случаях нашептывали ему на ухо – левое, правым он вовсе отупел. И он послушно выговаривал то, что надобно было.
Он был царь поневоле. И чем долее приходилось ему сиживать на царском месте, тем ясней понимал он, что впрягся не в тот воз, что он ему и не по нраву, и не по силам, более всего ему хотелось проводить дни в благой церковной тишине, среди ясноглазых иконных ликов, дышать благостным духом елея и ладана и молить чтимых святых о ниспослании благодати, поначалу он молился об исцелении от многих недугов, всем сердцем веря, что эти чистые молитвы дойдут до Господа и он внемлет и ниспошлет. Но проходило время, а все оставалось по-прежнему.
Он напрягался, думая, что чувства затупились, и улучшение произошло, прислушивался к себе, потом стал спрашивать царицу Парашу, не замечает ли чего. Она гладила его по голове, ровно дитя покорное, и отвечала всякий раз: «Медлит Господь Всеблагий, но беспременно услышит, господин мой великий».
– Но когда же, когда? – нетерпеливо вопрошал он.
– Бог терпел и нам велел, – каждый раз одинаково отвечала царица, – терпи и ты, государь мой.
– Я терплю, сколь могу, – покорно отвечал он. И молился еще истовей, шевеля окостеневшими губами, проводил перед иконами большую часть своего времени. Собственно, вся его жизнь проходила в церкви либо в моленной. И в конце концов понял, что место его в монастыре, что никакой он не царь, а молитвенник. А истинный царь есть братец Петруша. Вот и пусть царствует. И как-то, в Грановитой палате, средь жары и духоты июльского дня, благовонных курений и немытых тел, тягостных одежд, взмолился:
– Братец, отпусти ты меня, ослобони от тутошних сидений. Решай все сам, как чему быть в государстве. Тебя Господь для сей службы вразумил да наставил, а мне все это в тягость. Муки приемлю…
– Возроптал, значит, – усмехнулся Петр. – Я-то не прочь, я-то управлю. А вот сестрица наша – стерпит ли?
– Упрошу ее смириться, – торопливо заговорил Иван. – Недужный я, не годный для служения.
И вот теперь здесь в Измайлове, в собрание Милославских, царь Иван заговорил, а лучше сказать, взмолился:
– Отпустите вы меня, потому что никаких моих сил более нету. Не могу я царствовать, не хочу. Ни во что встревать не хочу. Нету моей мочи, нету!
И таков это был отчаянный вскрик, что все вздрогнули, а царевна Софья зарыдала. Наконец-то дошло до царевны, что еще одна дотоле казавшаяся ей надежной опора рухнула. И что брат Иван не только не захочет, но и не сможет замолвить за нее слово пред непреклонным Петрушкой.
– Что же нам делать? – произнесла она растерянно. Впервые видели ее неуверенной, впервые голос ее звучал не властно, повелительно, а просительно.
Вопрос повис в воздухе. Все были обескуражены. Более всего, разумеется, отречением царя Ивана, на слово и покорность которого все Милославские уповали.
Как же так, думал каждый из них. Отказаться от царского венца, от престола так, за здорово живешь! И что теперь будет, коли и царь Иван, и царевна Софья останутся безвластны? Ясное дело: все важнейшие должности в государстве захватят Нарышкины. И полное умаление Милославских неизбежно. Царь Петр лишен всякой чувствительности, он в ладу только с тетками – Михайловнами. Зато в Кукуе он свой, желанный человек.
Там он прост и добросердечен.
К кому воззвать? Царевну Софью все жалели: упадала на глазах, можно сказать, из князи в грязи. Таковая же участь ожидала, как все считали, и князя Василья Голицына.
Но к кому все-таки воззвать? К Господу взывали. К Пресвятой Богородице взывали. К небесной покровительнице царевны – Софии Премудрости Божией – взывали, к Николаю Угоднику взывали… Можно ль перечислить всех святых, к коим царевна обращалась за покровительством и помощью? А ведь была еще нечистая сила, о которой Софья зареклась поминать: был Гермес Трисмегист с его заклятьями, был Вельзевул, был Люцифер… Были бабки-ведьмы, бабки-зелейницы, были колдуны, якшающиеся с домовыми, лешими, водяными и иной нечистью.
И ничего не помогло, ничего не сдействовало. Словно над Петрушкой и царицей Натальей, ненавистной мачехой, был простерт какой-то защитный покров.
Князь Василий посмеивался над упованиями царевны, а она верила, верила. Сколь добра, денег извела на всех этих служителей нечистой силы. И все напрасно. И однажды призналась князю:
– Изверилась я и в святых заступниках, и во вражьей силе. Ничего этого нет, а есть слепая судьба. Каково она распорядится, так тому и быть. И напрасны все моленья. К кому бы я ни обращалась – все глухи. И высшие силы, и человеки…
– Человеки, положим, тебя услышали, коли слушали. Но остались равнодушны к твоим просьбам. Стало быть, не тронули их твои моления, не те слова ты подобрала.
– Какие же еще слова, – угрюмо отвечала Софья. – Самые что ни на есть жалостливые… И грозилась, что пойдем мы просить милости у иноземных християнских королей, навсегда покинем Москву. Уж чего жалостливей: царское семя взойдет на чужой земле. И что же? Не тронула, стояли, будто каменные, только глазами зырк-зырк. Ожесточились християне, не внимают царской дочери. А кому тогда внимать?
– Душа закаменела у простонародья потому, что закаменела она у его владык. Подумай-ка, вольно ли живется крестьянину в крепости у бояр, у дворян, у жильцов. Я когда-то с братом твоим блаженной памяти царем Федором толковал, что крестьянин должен быть свободен, как должно человеку, а не скоту. Коли станет он трудиться на себя, то вдесятеро больше произведет. Федор, помню, удивился, глаза выкатил и говорит: «Да ты в своем ли уме, князь? А как же все – бояре, дворяне? Как же власти? Как же я, царь, и все мои служители?» Стал я ему толковать, что за счет свободного труда умножится и государственный доход, что казна будет в прибытке. «Нет, – говорит, – таковые прожекты мне тошно слушать. Мы, – говорит, – не во Франции какой-нибудь, а в России. Забудь и более не поминай». Я и не поминаю, хоша и не забыл.
– Нету мне более пристанища, – прослезившись, обронила царевна. – Крут, немилостив Петрушка и меня не помилует.
– И меня, Софьюшка, и меня.
– А может, и впрямь искать пристанища у иноземных королей? – с надеждой вопросила она.
– Я уж говорил тебе: податься за рубеж – честь потерять. На веки вечные. Да и что там нас ждет: быть приживалами, терпеть поношения. Сказано ведь: за морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое. Нет, голубица моя, о том и не думай. Коли опала суждена, ее не избыть. Примирись. Умей ответ держать.
Одна душа в Измайлове втихомолку радовалась унижению царевны – царица Прасковья. И вроде бы наставила Софья ее на сладкий путь – благословила завести галанта. И хоть Софье была обязана радостью материнства.
А ведь грех великий, и страх великий. Два всего-то человека ведали о ее грехопадении: бабка Агафья, всем обязанная царице, а потому и на смертном одре не проговорится, и царевна Софья, которой она, царица Прасковья, обязана, а потому всецело в ее власти.
Быть во власти супруга – одно, лишиться же его власти – другое. А она, Прасковья, могла запросто лишиться с величайшим позором, коли царевне вздумается на нее ополчиться.
Мол, не плодная у тебя, братец, супруга да вдобавок изменщица, завела себе галанта… И пошло, и поехало. Страшно подумать!
У страха глаза велики. Чудилось царице, будто кто-то напал на ее тайну, чьи-то глаза упорно следуют за нею, когда она проскальзывает в башню – обиталище бабки Агафьи, где наверху ждут ее любовные восторги. Бабка, конечно, ревностный сторож, лучше любого воина – как откроет рот, так хоть святых выноси. Заговорит, заморочит хоть царя, хоть псаря – все едино.
Вот уж спальник Гришка доложил царю Ивану, что царица слишком часто наведывается в башенку к бабке Агафье. Но царь Иван простодушен: спросил как-то Прасковью, много ль ей бабка помогает от недугов. Царица вся похолодела. Однако нашлась, ответила:
– Она, мой батюшка, все по женской части. А с мужиками дел не имеет.
Ну царь Иван и успокоился. А того проклятого Гришку порешила царица во что бы то ни стало услать куда подалее, лишь бы подходящий предлог найти. Посоветовалась она с бабкой. А та ей и говорит:
– Гришка этот и мне глаза намозолил. Известно: он на руку нечист. Ты, государыня моя, скажи дворецкому, братцу своему Василию Федорову Салтыкову, что Гришка-де за тобой шпионит и на руку нечист. Он его и сбудет.
Сказала. И тотчас Гришку того услали в сибирский город. И радостно предалась царица сладкому греху с галантом своим Васенькой Юшковым, не опасаясь ничьих нескромных глаз. А тот Васенька числился у нее в стольниках и возвышался на ее глазах. Прочила она его в обер-камергеры, и наконец пришел его час.
Наконец и «зазорное лицо» – царевна Софья, тоже теряла власть над ней. Царица Прасковья понимала – недолго осталось ждать. Не за горами час, когда царь Петруша упрячет ее в монастырь. Царь Петруша – жесток и беспощаден. Твердость и неприримость вошли в него в дни стрелецкого бунта, когда мальчиком насмотрелся он кровавых сцен и натерпелся страху. С той поры ожесточилось его сердце, и можно ль его винить? Врагам его, врагам Нарышкиных, милости ждать не приходится. И Милославским суждено лишиться государственного значения.








